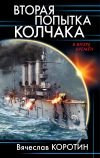Текст книги "Адмирал Колчак: Диктатор поневоле"
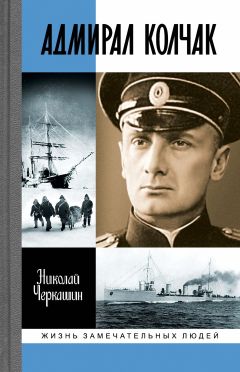
Автор книги: Николай Черкашин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Вот тебе, Сашок, и Малахов курган! – сказал Василий Иванович, снял фуражку и размашисто перекрестился. То же сделал и Павел Лукьянович Рогов, который по случаю такого похода обрядился в старый бомбардирский мундир с унтер-офицерскими погонами.
– Пап, а кто такой Малахов?
– Шкипер был, пьяница несусветный при адмирале Лазареве еще… Жил под самым Курганом, с тем и попал в историю. Да не в нем суть. Роковое место этот курган: адмиралу Истомину оторвало ядром голову, потом тяжко ранило опять же ядром адмирала Корнилова, а потом пуля ударила в висок адмиралу Нахимову. Адмиральская Голгофа… Да и матросская тоже.
РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Жизнь на кургане становилась все тяжелее и мучительнее. Убыль людей увеличивалась со дня на день. От прицельных выстрелов мы еще в некоторой степени были защищены земляным бруствером толщиною около 20 футов и до 8 футов в вышину, но от навесного огня спасения не было…
…Посмотрел – весь низ моей шинели в клочки изодран осколками гранат, очевидно проскочивших у меня под ногами во время бега. И ни одной царапины. А ведь я слышал у самых ушей своеобразное порханье осколков, самого малого из которых вполне достаточно было бы, чтоб отправить меня к праотцам…
В этом же месяце Малахов курган лишился своего начальника, капитана 1-го ранга Юрковского. Обходя батареи, он направился к башне и встретил по дороге капитана Станиславского. Разговаривая с ним, Юрковский остановился у самого входа в башню. В это время близко над ними разорвалась бомба и осколками тяжело ранило в бок Юрковского. Станиславскому же оторвало пальцы на ноге. Ему два раза делали ампутацию, но он не перенес ее, несмотря на свое атлетическое сложение, и через две недели скончался от гангрены. Юрковский прожил всего несколько дней».
Они поднялись на самый верх по дорожке, окаймленной туями, бересклетом, акациями, – к оборонительной башне, со стен которой еще не исчезли выбоины от осколков вражеских бомб и ядер. Неподалеку стоял крест над братской могилой русских и французских солдат. На нем Саша прочитал вслух надпись: «Смерть примирила их здесь».
ОРАКУЛ-2000. Кто мог подумать, что в декабре 1917-го здесь снова прольется кровь русских морских офицеров? По наущению большевистских вожаков их будут расстреливать свои же русские матросы – «во благо мировой революции». Пройдет слух, что среди расстрелянных был и мичман Горенко, брат известной поэтессы Анны Ахматовой. Она откликнется на эту жуткую весть строчками, которые станут эпитафией всем, для кого Малахов курган стал офицерской Голгофой.
Для того ль тебя носила
Я когда-то на руках,
Для того ль сияла сила
В голубых твоих глазах!
Вырос стройный и высокий,
Песни пел, мадеру пил,
К Анатолии далекой
Миноносец свой водил.
На Малаховом кургане
Офицера расстреляли.
Без недели двадцать лет
Он глядел на Божий свет.
В ночь с 15 на 16 декабря кровавого 1917 года было убито 23 офицера, среди них – три адмирала и генерал-лейтенант военно-морского судебного ведомства, командующий Минной бригадой капитан 1-го ранга И. Кузнецов, частенько бывавший в доме Колчаков.
* * *
День завершился поездкой на Братское кладбище, чей пирамидальный храм, похожий на солдатский шатер, белел на том берегу главной бухты. Не было в мире более светлого, более солнечного кладбища, чем эта севастопольская Валгала, напоминавшая скорее дворцовый парк, чем некрополь. Среди вечнозеленых туй, стоявших меж белых обелисков и склепов, как зачехленные знамена, разбегались по склону этого последнего бастиона, который не взять никому никаким приступом, дорожки, проложенные к полковым плитам. Лишь один раз вздрогнул Саша: из сухой прокаленной земли торчал корень, похожий на человеческий локоть.
РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Раздался крик “французы!”. Карпов, проходивший около башни в свой блиндаж, велел пробить тревогу; но барабанщик был убит, и тревогу протрубил стоявший тут же горнист. Послышалась частая, будто горох сыпался из мешка, перестрелка. В момент приступа я находился на левом фасе Гласисной батареи, у крайнего 68-фн. орудия, заряженного мелкою картечью с ядром. Я видел, как ряды синих мундиров смешались и рассеялись после выстрела, но взвившаяся пыль и пороховой дым скрыли от меня остальное.
Несколько выстрелов, разумеется, не могли удержать движения одушевленных масс. Французы всё шли и шли вперед к кургану. Я поднял первый попавшийся пальник с дымящимся фитилем, схватил ручную гранату и пробежал к правому фасу батареи. Но здесь не удалось сделать ни одного выстрела. Орудия были или засыпаны землею, или подбитые лежали на сломанных станках. Французы, вскочившие в ров, по лестницам быстро взобрались через амбразуры и бруствер на батарею. Началась рукопашная схватка. На площадках кургана наши солдаты отдельными группами боролись с подавляющею массою французов. Дрались с ожесточением – штыками, прикладами, банниками, кирками, лопатами, всем, что было под рукою, чем попало, даже камнями. Шагах в 10 от Гласисной батареи, близ башни, лежал генерал Буссау. Окруженный небольшим числом наших солдат и ополченцев, бросился он к батарее, но зуавы стреляли по ним почти в упор, как в мишень. На батарее Жерве, внизу, с правой стороны кургана, бился князь Багратион во главе дружины 47-го курского ополчения. Ополченцы с топорами бросились на французов. Неприятель подавил их только массою.
Рядом с нашей батареей, на правом переднем фасе кургана, был редан в 3 орудия: одно из них действовало по бывшему нашему Камчатскому люнету и два – на случай штурма. Командир редана, прапорщик конной артиллерии Постников, в первые минуты штурма долго защищался. Завязался страшный рукопашный бой. Нахлынувшая масса зуавов и венсенских стрелков бросилась на горсть мужественных защитников редана. Постников и его команда были буквально подняты на штуцерные тесаки (sabre-baionette), которые играли у неприятеля роль наших штыков. Как теперь помню симпатичное, молодое, с еле пробившимися усами лицо этого храбреца. Постников недавно был выпущен из корпуса и по прибытии в Севастополь прямо назначен на Малахов курган. Он часто заходил в наш блиндаж по вечерам побеседовать и посмеяться после тяжелого, томительного севастопольского дня.
Не зная, что делать, я искал батарейного командира. Только хотел я спуститься с батареи по трапу, как вдруг наткнулся на колонну алжирских стрелков (Tirailleurs IndigMies). Их зверские черные лица дико смотрели по сторонам. Колонна шла скорым шагом, с ружьями наперевес, от батареи Жерве к башне. В глазах у меня запестрело от их красных, синих, белых плащей; капюшоны надеты на голову, придавая и без того свирепым физиономиям еще более грозный вид. Я инстинктивно бросился обратно, на левый фланг батареи. Тут все смешалось – матросы, солдаты, французы. В неприятельских траншеях еще раздаются сигнальные звуки труб и барабанов. Всюду звенят шомпола, слышен треск, стук оружия, крик, гам и стоны раненых. Вот уже на бруствере развевается трехцветное знамя!.. Вдруг я почувствовал сильный удар в плечо, упал, не мог подняться, но не терял сознания. Я видел, как минутой позже моего падения взошел на батарею по мостику, переброшенному через ров, французский генерал Мак-Магон. За ним шел довольно многочисленный штаб. Офицеры были в полной парадной форме, щегольски одеты, в новых блестящих эполетах, разноцветных востреньких кепи, с обнаженными шпагами в руках. Почему-то они остановились около места, где я лежал. Видя, что я приподнимаюсь и не могу подняться, один из офицеров помог мне. Очутившись среди блестящей свиты Мак-Магона, я вдруг заметил, что сапоги мои и шинель в крови, и на правой руке рана. “Ура” то близилось, то глухо звучало вдали, мешаясь с криком: “Vive l’empereur!” Французы овладели уже Гласисной батареей. Между орудиями и около них валялись убитые и раненые, большею частью наши матросы и солдаты. Малахов курган был занят. На башне также развевался трехцветный флаг. Кто-то закричал, по-видимому, отдавая приказание; ко мне подошли два молоденьких солдата, почти мальчики, тоже раненые. Они отправлялись на перевязочный пункт и попросили меня за ними следовать. Но я так ослабел и чувствовал такую сильную боль в плече, что с трудом мог двигаться. С раннего утра я ничего не ел, а все, что пришлось пережить в эти истинно ужасные минуты, сжимало сердце томительною болью».
* * *
На обратном пути отец дал по рублю двум сторожам-ветеранам, несшим вахту у железных ворот.
– Эх, мне бы здесь лечь после трудов земных… – вздохнул Василий Иванович, оглядываясь на Братский стан. Будто чувствовал – не суждено ему иметь своей могилы. Успенское кладбище в питерском селе Мурзинка, где упокоят его останки в 1913 году рядом с могилой жены, снесут в советские времена, и на их безвестных костях возведут очередной жилой массив.
* * *
Обратно в Одессу возвращались на ставшем уже родном «Гаджибее». Ночью Саша вышел из каюты на палубу. Экономя топливо, пароход шел под парусами, благо попутный ветер позволял идти почти той же скоростью, что и под парами. Падали звезды, и паруса казались огромными сачками для ловли этих стремительных мотыльков. Верхушки мачт покачивались среди созвездий; туго обтянутые снастями мачты походили на стрелы, нацеленные лучником в небо. Переблесками лунной дорожки море таинственно роднилось с ночными светилами.
Весь Колчак, каким он известен миру, – Колчак-Полярный, Колчак-Порт-Артурский, Колчак-Балтийский, Черноморский, Сибирский – пошел от той самой первой детской встречи с Севастополем.
Военный риск отца, его умение превозмогать страх и делать под навесом смерти то, что нужно для боя, – все то, что коротко зовется словом «мужество», войдя в кровь отца, передалось генетически и сыну.
Много лет спустя, когда вице-адмирал Колчак командовал Черноморским флотом, он в урочный час велел шоферу ехать в Бомборы. Автомобиль с трудом одолел крутизну единственной в слободе проезжей дороги. Адмирал выбрался из авто с полпути и пошел пешком, повинуясь памяти детства. Домик старого бомбардира был еще цел, но самого хозяина Бог прибрал еще на исходе века. О Степке Рогове удалось узнать, что сложил он свою матросскую голову в Порт-Артуре на эскадренном броненосце «Севастополь», которым командовал тогда незабвенной памяти Николай Оттович Эссен.
Адмирал молча спустился к автомобилю.
ОРАКУЛ-2000. Мог ли предположить Василий Иванович, отбивая на Малаховом кургане атаки англичан и французов, что сын его станет британским офицером, внук – французским солдатом, а праправнук – американским? Но все произошло именно так…
Глава вторая
«Надо Колчака спросить»
Осенью 1888 года четырнадцатилетний Саша Колчак впервые надел не матросский костюмчик, купленный мамой в конфекционе, а флотскую робу кадета, сшитую в швальне Морского кадетского корпуса портными-матросами. Из 3-го класса гимназии он перевелся в Училище «и по собственному желанию, и по желанию отца». Не возражала против выбора сына и мама – Ольга Ильинична, брат которой – дядя Сережа – был морским офицером.
«В канцелярию Морского Училища
Подполковника Колчака В. И.
Прошение
Желая определить на воспитание в младший подготовительный класс Морского Училища сына моего АЛЕКСАНДРА КОЛЧАКА, я, нижеподписавшийся, имею честь представить при сем метрическое свидетельство о рождении и крещении его, и мой послужной список.
Если по принятии Александра Колчака в Училище, начальство оного признает нужным исключить его вследствие дурного его успеяния или поведения, а также вследствие таких болезней, которые препятствуют службе на флоте, то я обязываюсь, по первому требованию Училища, без замедления взять его обратно на свое попечение.
Марта 22 дня 1888 года.
Подполковник Колчак
С-Петербург,
Поварской пер., дом 6, кв. № 6»
* * *
Первое знакомство с будущими однокашниками вышло не очень веселым. Некий рослый и разбитной кадет-переросток, явно кичившийся тем, что в Корпусе он как у себя дома стал раздавать направо и налево клички оробелым новичкам.
– Колчак? – переспросил он, когда Саша назвался, – Ха-ха! Стульчак! Колчак-Стульчак!
Саша побледнел, крепко сжал кулаки и негромко, но твердо заявил обидчику:
– Если вы еще раз меня так назовете, я ударю вас по лицу!
Рослый кадет несколько озадачился, но быстро нашелся:
– А зачем вам кличка?! У вас фамилия такая, что и клички не нужно – Кол-чак!
Откуда ему было знать, что древняя тюркская фамилия означала «боевая рукавица», что один из прапращуров погребен на почетнейшем кладбище янычар в Стамбуле.
Необычная фамилия доставляла немало проблем и Сашиному отцу, дружившему с композитором Бородиным. Василий Иванович много и подробно рассказывал ему то, что, правда, сам знал из исторических книг, – о жизни половецких ханов и их воинов, о своем историческом предке трехбунчужном паше Колчаке. Бородин в тот год напряженно работал над оперой «Князь Игорь». Своего половецкого князя он назвал Кончаком – уж не по созвучию ли с древней фамилией друга? Какого же было его недоумение, когда после премьеры Василий Иванович не только не поздравил приятеля, но и вообще перестал с ним здороваться. Позже выяснилась причина его гнева:
– Как вы могли назвать половецкого хана Кончаком?! Это же в переводе – «штаны». Хан Штаны! Колчак – другое дело: это означает «боевая рукавица».
* * *
Звезда Александра Колчака начала свой взлет уверенно и круто. В Корпусе он шел все время первым, реже вторым.
В 1892 году Саша нашивает на свои погончики две золотистые лычки младшего унтер-офицера. Это его первое повышение в чине.
РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Кадет, среднего роста, стройный, худощавый брюнет с необычайным, южным типом лица и орлиным носом поучает подошедшего к нему высокого плотного кадета. Тот смотрит на своего ментора с упованием… Ментор этот, один из первых кадет по классу, был как бы постоянной справочной книгой для его менее преуспевающих товарищей. Если что-нибудь было непонятно в математической задаче, выход один: “Надо Колчака спросить”». Это слова однокашника «ментора-энциклопедиста» Д. В. Никитина, ставшего контр-адмиралом.
И еще одно гардемаринское свидетельство человека, который с младых ногтей и до первой седины в волосах пойдет за Колчаком всюду, куда тот его позовет. Михаил Смирнов, кадет младшей роты, впервые увидев гардемарина Колчака с унтер-офицерскими лычками, назначенного в роту фельдфебелем, напишет, будучи контр-адмиралом, так:
«Колчак, молодой человек невысокого роста с сосредоточенным взглядом живых и выразительных глаз, глубоким грудным голосом, образностью прекрасной русской речи, серьезностью мыслей и поступков внушал нам, мальчикам, глубокое к себе уважение. Мы, тринадцатилетние мальчики, чувствовали в нем моральную силу, которой невозможно не повиноваться, чувствовали, что это тот человек, за которым надо беспрекословно следовать. Ни один офицер-воспитатель, ни один преподаватель корпуса не внушал нам такого чувства превосходства, как гардемарин Колчак. В нем был виден будущий вождь».
РУКОЮ ИЗЫСКАТЕЛЯ. Питерский историк Константин Богданов отмечает: «В Корпусе его более всего интересовали военные науки, при этом морскую артиллерию он, помимо официальной программы, изучал на практике на Обуховском заводе. Бывавший на заводе и гостивший в доме отца английский промышленник миллиардер Армстронг, нажившийся на производстве пушек и удостоившийся впоследствии звания лорда, оценил знания морского кадета по пушечному делу и предлагал ему в будущем должность инженера на своем заводе.
Здесь же, на заводе, юный Колчак по собственной инициативе приобрел навыки слесарного дела».
В свой последний гардемаринский год Колчак принял настоящее морское крещение. Старый учебный парусник «Скобелев», на котором гардемарины выпускного курса пришли в Либаву, попал в жесточайший шторм близ шведского острова Готска-Санден. Та осень 1894 года могла стать последней в жизни не только героя этой книги, но и тридцати будущих мичманов нового выпуска. У ветхого судна с маломощной паровой машиной почти не было шансов одолеть разбушевавшуюся стихию. Десятибальный шторм вызвал такой прогиб корпуса, что сдвинулись паровые котлы. В Кронштадте, куда все-таки дотащился израненный «Скобелев», только ахнули, когда осмотрели старый пароходо-фрегат, и сразу же поставили его, уже не на ремонт, а на разделку.
Этот шторм и этот последний поход «Скобелева» описал в одном из шведских журналов его участник, тогдашний гардемарин Арно фон Шульц, ставший впоследствии финским писателем. Вот отрывок из его воспоминаний.
РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: «Штакельберг (капитан “Скобелева”) поднимает свое спокойное, уверенное лицо к небу. Его серые глаза следят за низкими тучами, а привычное ухо прислушивается к равномерному визгу фалов и сигнальных линей. Брам-стеньга и брам-рей стравлены на палубу и закреплены. Первые приготовления к встрече с крепким ветром сделаны. Пару минут он стоит неподвижно, потом кивает старшему офицеру, и тот тихо говорит мне:
– Гардемарин Шульц, всех наверх, поднять якорь.
У меня вырывается вздох облегчения: наконец-то!
Громким резким голосом, который прорывается сквозь вой ветра, я кричу:
– Унтер-офицеры к люкам!
“Фи, фи, фи, фи, фир-р-р-р!” – звучат дудки одна за другой; какое-то мгновение я даю унтерам, чтобы они успели собраться, и вот уже снова я слышу свой голос:
– Всех наверх, поднять якорь! – и дружный крик унтер-офицеров через люки: “Все наверх, поднять якорь!”
Целых два года мы тренировали голос. Не годится шептать, если хочешь, чтобы твои команды исполнялись в свежую погоду. Стены кают-компании, где мы жили, звенели от наших пронзительных команд, а старые адмиралы в картинной галерее удовлетворенно кивали нам, когда мы дерзко кричали в юношеском высокомерии: “Отдать булини, фор-марса-реи поперек, грот-марса-рей на ванты” или что-нибудь в этом роде.
…Я поворачиваюсь к старшему офицеру, отдаю честь и уступаю ему место: теперь он принимает командование кораблем, а я возвращаюсь на свое место на баке под началом старшего лейтенанта.
– Брашпиль пошел! – звучит команда для нас – тех, кто на баке. Матросы налегают на рычаги, и брашпиль медленно начинает вращаться, в то время как палы поют свое монотонное “клик-клик”. Все быстрее и быстрее идет брашпиль. Мы бежим круг за кругом, подпрыгивая каждый раз, когда под нами оказывается якорная цепь, а она равномерно и неуклонно выходит вверх из клюза, где ее моют из брандспойта, а потом, через три четверти оборота брашпиля, скрывается в цепном погребе. Ветер сильный, цепь натянута и слегка дрожит. С бака, перегнувшись через борт, за цепью следит старший офицер, между тем как она все медленнее и медленнее ползет через клюз. Вот он выпрямляется, поворачивается к капитанскому мостику, и его протяжный крик прорезает воздух:
– Якорь на пане-е-е-ере!
Спины на рычагах дугой выгибаются от напряжения, а цепь теперь ползет еле заметно, дюйм за дюймом. Рывок, и снова крик:
– Якорь поднят! На капитанском мостике старший офицер берется за машинный телеграф, и вот уже начинает медленно вращаться винт, а команда торопливо поднимает ставший теперь легким якорь.
– Стоп брашпиль! Накат! – команды следуют одна за другой, но против обыкновения якорь сегодня не укладывают на подушку у планширя, а вытаскивают на палубу и тщательно закрепляют.
В воздухе пахнет штормом. “Шторм, слава Богу! – думаю я. – Наконец-то шторм!”
Новая команда прорезает воздух:
– На ванты, приготовиться травить марса-реи и стеньги!
“Это серьезно, – думаю я, – такого при нас еще не бывало…” – и становлюсь у вант фокмачты, чтобы бежать на свое место на фор-марсе, как только будет дана команда.
– На марсы и салинги! – снова звучит команда, и мы бежим вверх по вантам, каждый на свое место.
Там, наверху, ветер резкий и холодный. Мы медленно идем под парами к выходу из внешней гавани. Удивительный вид расстилается передо мной. Насколько хватает глаз, на западе до самого горизонта – бесконечный ряд пенящихся волн, которые несутся к югу; на севере – сплошной белый хаос, там волны яростно бросаются на пирс и, разбиваясь об огромные бетонные блоки, падают обратно.
Тяжело переваливаясь с носа на корму, “Скобелев” проходит мимо, выходя на курс норд-вест и наконец норд. Теперь мы идем почти прямо против ветра. Если и раньше он был сильный, то теперь просто бешеный: при встречном ветре невозможно дышать, а соленая вода, которую срывает с гребней волн, втыкает в лицо будто колючки.
Море бурное. Машина с трудом продвигает нас вперед против ветра и волн, которые раз за разом перекатываются через корабль и исчезают на корме в открытых шторм-портах и шпигатах. Теперь приходится держаться за штормовые леера, которые уже натянуты вдоль бортов.
Моя вахта закончена. С четырех часов утра я был на ногах, основательно устал и промок. Честь моему товарищу Колчаку, который принимает от меня вахту, и я ухожу с мостика, мокрый, но довольный и веселый: наконец-то, предстоит настоящий шторм. И Колчак кивает, довольный. Мы хорошо понимаем друг друга. За шесть лет мы подружились. Он, предками которого были турки, и я, потомок шведов, – для нас обоих всё это представляется большим приключением. Я сползаю вниз. Килевая качка ужасная. Старый корпус “Скобелева” трещит и скрипит; между грот-мачтой и палубой, то по правому борту, то по левому, открывается огромная щель, и мы забавляемся тем, что заталкиваем туда черные твердые галеты и смотрим, как они пропитываются соленой водой с палубы и раздавливаются. Камбуз потушен, нам приходится довольствоваться сухим пайком.
В кубрике гардемаринов воздух тяжелый; пахнет дымом от каменного угля, горелым маслом, сырой одеждой, рвотой. Здесь тоже сыро; то и дело шальная волна захлестывает трап, вода течет прихотливыми ручейками через мачтовое отверстие в палубе. Кое-кто из товарищей лежит и стонет, бледный как труп. Не каждый может привыкнуть к качке; и среди нас такие, кому придется покинуть Флот из-за морской болезни.
…Наверху все иначе. Темно. Завывание в оголенных мачтах превратилось в сплошной рев. Над верхушками мачт с бешеной скоростью проносятся серые тучи; то и дело метеором мелькает какая-нибудь звезда и тут же исчезает. На мостике, каждый со своей стороны нактоуза, стоят Штакельберг и вахтенный офицер, крепко держась за перила мостика и вглядываясь вперед.
Мы пробираемся к мостику. Колчак, который, очевидно, занял место кого-то из товарищей в качестве вахтенного гардемарина, сияет; он орет мне в ухо:
– Шульц, фок-рея лопнул, фок-рей имеет трещину, его разбивает. Возьми концы и ваги и обмотай! Штормовые паруса поднять: кливер, бизань, грот-штаг, шторм-гафель!
Он кричит во все горло, но я его едва слышу. Мы вместе идем в сторону носа. Когда бак опускается в долину между волнами, мы бежим вперед; когда он поднимается, мы хватаемся за леера и, скользя, карабкаемся наверх.
На баке вовсю работают под надзором старшего офицера. Увязывают вместе ваги, выкатывают бухты концов и складывают их высокой грудой, чтобы поднять потом на фор-марс, где фок-рей теперь весело пляшет взад и вперед, поневоле следуя за движениями корабля. Он то и дело сопровождает эту пляску тяжелыми ударами, которые отчетливо слышны здесь, внизу, даже сквозь вой шторма. Прекрасный спектакль для меня и Колчака, тогда как старший боцман и старший офицер с тревогой обмениваются между собой:
– Не дай Бог, если эта сволочь треснет и свалится! Тогда уж зяблику конец!
На самом деле эта фраза состоит из соленых чертей.
– Эй, гардемарины, что вам так смешно?! Быстро на марс! Примотайте ваги как следует к рею там, где он треснул, а рей привяжите к мачте! Вперед!
Мы слишком хорошо понимаем резкий окрик старшего офицера, но что нам за дело до его тревог? “Падай, чертов фок-рей! Мы-то хоть посмотрим, как это будет выглядеть”. Мы рьяно лезем по наветренным вантам; за нами карабкаются марсовые. Однако продвигаемся медленно. Приходится хорошенько держаться за ванты, чтобы не сдуло ураганным ветром; наши плащи-непромоканцы надуваются, как мячи. Фут за футом, и вот мы, наконец, наверху. “Бум, бум!” – молотит фок-рей по фок-мачте, а команда внизу осторожно брасопит рей поперек корабля, не решаясь натягивать брасы слишком сильно, чтобы треснувший рей не развалился.
Мы ловим рей, освобождаем поднятые к нам ваги и концы и начинаем осторожно приматывать ваги в треснувшем месте рея. Дело движется медленно, хотя мы трудимся изо всех сил рядом с опытными марсовыми. Страшно? Право, нам все нипочем! Если бы черт утянул наш корабль на дно, я думаю, что и тогда бы мы с радостью отправились в этот путь. Мы, действительно, не чувствуем ужаса происходящего – ни Колчак, ни я. Для нас все это лишь великолепное приключение.
– Давай, давай! Ах, что за шторм на Балтике! – горланим мы, и сами не слышим того, что кричим друг другу, между тем как пот льется градом, смешиваясь с дождем и соленой водой, которую шторм забрасывает даже сюда на верхотуру марсовой площадки; мы видим, как “Скобелев” то зарывается носом в кипящие волны, то встает на дыбы, будто жеребец.
С нашего места на фок-рее, где мы лежим, распластавшись и вжавшись подошвами к опорам для ног, мы видим, как внизу шторм-кливер крепят к шторм-кливер-штагу и он медленно идет вверх. Штаг этот здоровенный стальной трос добрых семи дюймов в толщину. Мы освобождаем конец фала, которым выбирали штаг, и проводим его через блок, пока он не попадает к тем внизу, кто натягивает его талями.
Через пару часов работа на фор-марсе закончена, и мы спускаемся вниз. Спускаемся медленно: ветер то прижимает нас к вантам, то отрывает нас от них, так что нам стоит немалого труда удержаться. Толстые просмоленные ванты дрожат от страшного напряжения, а канаты, штаги и фордуны жалобно воют под ветром, словно живые существа. Едва мы успеваем на мостик со своим рапортом, как получаем новое задание: ослабла обвязка пушек. Нечему удивляться: “Скобелев” – крейсер старого типа и его планширь не рассчитан на две современные дальнобойные 6-дюймовые пушки Кане, которые были установлены, чтобы мы, гардемарины, учились стрелять из современного оружия.
С грозового неба спускается темнота. Мы приближаемся к банкам острова Готска-Санден.
– Колчак, Шульц, – больше жестами, чем словами, командует вахтенный офицер, – на ванты, измерить высоту волн!
Мы медленно карабкаемся наверх: Колчак по подветренному борту, я – по наветренному. Мы держимся крепко: над планширем ветер адский. Взгляд ищет горизонт. Слишком низко, лезу повыше, еще выше…
Захваченный гигантским спектаклем, я на какую-то минуту забываю всё: корабль, офицеров, капитана, всё, всё. Серо-белая стена высотой от воды до неба со страшной скоростью надвигается на нас. На ходу она срывает гребешки волн. Воздух – сплошной кипящий, шипящий бело-серый хаос. Ближе, ближе, и вот этот хаос набрасывается на нас, как дикий зверь; гигантские серо-зеленые волны сдавливаются, “Скобелев” ложится на подветренный борт; вода потоком вливается через шторм-порты подветренного борта, и корабль скрывается в сплошном белом, пенящемся шквале. Меня прижимает к вантам с такой силой, что невозможно шевельнуться, невозможно дышать, невозможно думать. Все звуки исчезают; ураган поглощает всё своим ровным, оглушительным ревом, но я чувствую телом, как ванты, мачты и корпус дрожат, словно живые существа, охваченные диким страхом.
Все это длится одну бесконечную минуту, и вот шквал уже позади, и корабль снова поднимается, чтобы возобновить свою вечную качку: подветренный борт – наветренный, наветренный – подветренный. Еще один шквал, и снова тот же бело-серый хаос, и снова корабль дрожит от киля до клотика, как раненый зверь. Шквал за шквалом. Всякая работа внезапно прервана; все лица повернуты вверх; одна и та же мысль владеет всеми: поднимемся ли мы снова?
Едва шквал прошел, как на нас ринулись волны высотой с дом – еще более жесткие, еще более короткие, и “Скобелев” снова начал свою вечную качку, и снова такелаж воет “у-у-у!”, когда идет на подветренный борт, и “у-и-и-и!”, когда на наветренный…
Бледные, потрясенные, серьезные слезаем мы с Колчаком вниз. Ладонь у виска немного дрожит, когда мы рапортуем: он 26 футов, я – 28 футов. И такой же бледный и серьезный, как мы, выходит из рулевой рубки мой товарищ Эллис и докладывает углы крена при качке: 42° подветренный борт, 38° наветренный.
Доклады идут дальше от вахтенного офицера к Штакельбергу. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он смотрит на промокшие лоскуты штормовых парусов, смотрит на море, где надвигается новый шквал, белый как стена, и делает почти незаметный знак старшему офицеру, который при первом шквале взобрался на мостик и стал рядом с бароном Штакельбергом. Был ли это вопрос? Было ли это приказание? Так или иначе, он понимает и подходит к вахтенному лейтенанту, который берет рупор и кричит вниз, на палубу:
– Все наверх, поворот фордевинд!
Мы все понимаем, что это значит: поворот против ветра. Один из самых опасных маневров под парусами, он выполняется обычно, в крайнем случае, когда поворот оверштаг невозможен. Теперь наша жизнь в руках всемогущего Бога! Медленно движется рука Штакельберга в подветренную сторону, останавливается, еще несколько бесконечных мгновений, и снова в подветренную сторону. Следуя малейшему движению этой руки, “Скобелев” уваливается. Под ветер, еще под ветер. Шкот осторожно потравливают, а подветренный выбирают шкотовыми талями. Волны жадно лижут ют правого борта; то и дело шипящая волна накрывает там всех. Корма поднимается, и вода, бурля и пенясь, прокатывается по шканцам к нам на бак и исчезает в штормпортах.
Неподвижная фигура на мостике повернулась лицом к корме и меряет глазами ветер, вершины и подошвы волн, в то время как рулевые отчаянно стараются держать корабль на курсе, когда мы идем в бакштаг галсами правого борта.
“Скобелев” страшно кренится; звук шторма переменился и перешел в ровный вой. Ветер теперь с кормы. Все лица обращены к неподвижному человеку, который следит за работой на юте, где бизань взяли на гитовы, закрепили, а гафель стравили на палубу, тогда как маленький штормовой флажок подняли на наветренный нок бизань-рея.
Чего он ждет? Вот идет шквал. Снова всё вокруг – сплошной хаос в белых тонах. Фигуры на мостике исчезают, корабль бросает под ветер и отчаянно ворочает. И снова шквал проходит мимо. Долю секунды ждет человек на мостике, потом рука снова делает движение, жилистые руки быстро перехватывают рукояти штурвала, подветренные рулевые тали травят, наветренные выбирают, и с невозможной скоростью мы натягиваем вдоль корабля шкот штор-кливера, в то время как шторм бешено вырывает у нас это маленькое полотнище. Мгновение я вижу угрюмого серо-зеленого великана с шевелящейся гривой, который поднимается за кормой; настигнет ли он нас? Корма поднимается высоко в воздух, шкоты левого борта шторм-кливера послабляются, шкоты правого борта выбираются, и мы уходим с попутным ветром, галсами левого борта, прочь от опасных подводных камней и отмелей Готска-Сандена, в сторону Германии, чтобы в крайнем случае искать укрытия в каком-нибудь порту южного побережья.
Радуясь этому приключению, мы – Колчак, Зенилов и я – втайне желаем, чтобы шквал сорвал бы и штормовые паруса, тогда бы мы пережили новый спектакль!
Но штормовые паруса не желают рваться, они так и не порвались. Начальника склада в Кронштадте выдал “Скобелеву” для его последнего похода на Балтику новые крепкие штормовые паруса. Старик знал, что делал, он не хотел брать на себя риск. Возможно, это была и заслуга старшего офицера, или Штекельберга, что мы знаем об этом? Разве мы были капитанами? Разве отвечали за чужие жизни? Разве у нас седина в волосах? О нет: у Колчака волосы черные, как вороново крыло, так же как и его глаза; у Зенилова[2]2
Николай Исхакович Зенилов, будучи лейтенантом, героически погибнет на крейсере «Рюрик» во время боя с японскими кораблями в 1904 году, заменив убитого командира корабля. – Н. Ч.
[Закрыть] – каштановые и вьющиеся, как у крымских овец у него на родине, а мои – скорее рыжие.Поднявшись на мостик, мы, наконец, докладываем, что все сделано, а потом наивно спрашиваем, нет ли для нас еще какой-нибудь работы?
– Работы для вас? – делано рычит вахтенный офицер. – Марш в койки, да поскорее! И не задавайте вопросов, когда вас не просят! – добавляет он мокрый, усталый, но с добродушной ухмылкой.
“Хм, в койку… Легко ему советовать!” – думаю я. Внизу, в кубрике такой запах, что и здоровый заболеет, а здесь, наверху, так продувает, что больной поправится. Куда же мне, черт возьми, податься?
…Еще одна бесконечная ночь. Мы идем с попутным ветром под парусами и шторм-кливерами. Шторм понемногу стихает. Ветер переходит через юг на юго-запад, стеньги, марса-реи, брам-стеньги и брам-реи возвращаются на свои места, и под всеми парусами “Скобелев” снова идет на север, в Финский залив.
Двое суток длился шторм. И 48 бесконечных часов капитан барон Штакельберг не покидал мостика! Он-то знал, что было поставлено на карту.
Воскресенье. 8 склянок. Бело-голубой Андреевский флаг поднимается под гафель, дудки поют свое: “фи, фи, фир-р-р!”.
На шканцах справа стоят в строю наши десять офицеров, включая механиков. Напротив – стоим мы, тридцать гардемаринов. Бок о бок с нами – вахты правого и левого борта. В воздухе повисла мертвая тишина. Ветер слегка шелестит в фалах и штагах. “Скобелев” с наполненными парусами идет на восток; по левому борту медленно исчезают за горизонтом лесистые холмы Гогланда.
С капитанского мостика спускается барон Штакельберг и подходит к нам. Спокойные черты его обветренного лица серьезны, серые глаза смотрят в наши. Вот он подносит руку в белой перчатке к парадной треуголке, снимает ее, поднимает голову и говорит тихо и размеренно:
– Господа, благодарю вас!
Капитан надевает шляпу, идет вдоль фронта. Ни звука не слетает с наших губ. Мы стоим, словно окаменев. Но когда мы видим, как Штакельберг останавливается у вахты левого борта, снова приподнимает треуголку и степенно благодарит “Спасибо, вахта левого борта”, наш слитный веселый крик “Рады стараться!” катится вдоль строя. Кажется, мы начинаем понимать, что вчера произошло нечто особенное, и это нечто удивительным образом связано со словами Штакельберга: “Господа, благодарю вас”. Потому что никогда прежде наш командир не называл нас, гардемаринов, “господа”…
Теперь очередь вахты правого борта.
– Спасибо, вахта правого борта!
И снова катится ответ:
– Р-р-рады стар-раться!
Вот командир поворачивается, и мы слышим его звонкое:
– По чарке!
И громовой ответ обеих вахт:
– Покорнейше благодарим!
“Фи-фи-фир-р-р-р!” – разливаются трели боцманских дудок. Команда расходится, веселая и довольная благодарностью Штакельберга и предстоящим угощением. Мы же тихо спускаемся в свою кают-компанию со странным чувством, что наша юность кончилась и началась новая жизнь. И суровое крещение для этой жизни произошло в соленой купели штормовой Балтики близ острова Готска-Санден…»
* * *
15 сентября 1894 года по высочайшему повелению государя императора Александра III Александр Колчак был произведен в первый офицерский морской чин – мичман. Главная радость этого года была омрачена смертью мамы. Ольга Ильинична скончалась в одночасье, не дожив и до сорока лет. Ее отвезли на тихое Успенское кладбище в пригородном селе Мурзинка. Впервые Александр видел всегда веселого насмешливого отца плачущим. Да он и сам не сдерживал слез, против воли скатывавшихся по щекам.