Текст книги "Еще не раз Вы вспомните меня…"
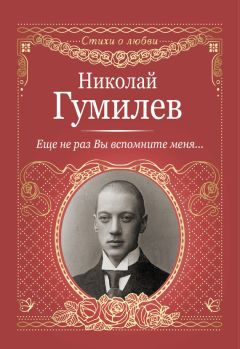
Автор книги: Николай Гумилев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Перстень
Уронила девушка перстень
В колодец, в колодец ночной,
Простирает лёгкие персты
К холодной воде ключевой.
«Возврати мой перстень, колодец,
В нём красный цейлонский рубин,
Что с ним будет делать народец
Тритонов и мокрых ундин?»
В глубине вода потемнела,
Послышался ропот и гам:
«Теплотою живого тела
Твой перстень понравился нам».
«Мой жених изнемог от муки,
И будет он в водную гладь
Погружать горячие руки,
Горячие слёзы ронять».
Над водой показались рожи
Тритонов и мокрых ундин:
«С человеческой кровью схожий,
Понравился нам твой рубин».
«Мой жених, он живёт с молитвой,
С молитвой одной любви,
Попрошу, и стальною бритвой
Откроет он вены свои».
«Перстень твой, наверное, целебный,
Что ты молишь его с тоской,
Выкупаешь такой волшебной
Ценой – любовью мужской».
«Просто золото краше тела
И рубины красней, чем кровь,
И доныне я не умела
Понять, что такое любовь».
Мои читатели
Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне чёрного копьеносца
С приветом, составленным из моих стихов.
Лейтенант, водивший канонерки
Под огнём неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи.
Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.
Много их, сильных, злых и весёлых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, весёлой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.
Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевною теплотой,
Не надоедаю многозначительными
намёками
На содержимое выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: «Я не люблю вас»,
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше.
А когда придёт их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.
<1921>
Из сборника «Шатёр»
Вступление
Оглушённая рёвом и топотом,
Облечённая в пламя и дымы,
О тебе, моя Африка, шёпотом
В небесах говорят серафимы.
И твоё раскрывая Евангелье,
Повесть жизни ужасной и чудной,
О неопытном думают ангеле,
Что приставлен к тебе, безрассудной.
Про деянья свои и фантазии,
Про звериную душу послушай,
Ты, на дереве древнем Евразии
Исполинской висящая грушей.
Обречённый тебе, я поведаю
О вождях в леопардовых шкурах,
Что во мраке лесов за победою
Водят полчища воинов хмурых;
О деревнях с кумирами древними,
Что смеются улыбкой недоброй,
И о львах, что стоят над деревнями
И хвостом ударяют о ребра.
Дай за это дорогу мне торную,
Там где нету пути человеку,
Дай назвать моим именем чёрную,
До сих пор неоткрытую реку.
И последняя милость, с которою
Отойду я в селенья святые,
Дай скончаться под той сикоморою,
Где с Христом отдыхала Мария.
<1918>
Красное море
Здравствуй, Красное Море, акулья уха,
Негритянская ванна, песчаный котел!
На утёсах твоих, вместо влажного мха,
Известняк, словно каменный кактус, расцвёл.
На твоих островах в раскалённом песке,
Позабыты приливом, растущим в ночи,
Издыхают чудовища моря в тоске:
Осьминоги, тритоны и рыбы-мечи.
С африканского берега стаи пирог
Отплывают и жемчуга ищут вокруг,
И стараются их отогнать на восток
С аравийского берега сотни фелук.
Если негр будет пойман, его уведут
На невольничий рынок Ходейды в цепях,
Но араб несчастливый находит приют
В грязно-рыжих твоих и горячих волнах.
Как учитель среди шалунов, иногда
Океанский проходит средь них пароход,
Под винтом снеговая клокочет вода,
А на палубе – красные розы и лед.
Ты бессильно над ним: пусть ревёт ураган,
Пусть волна как хрустальная встанет гора,
Закурив папиросу, вздохнёт капитан:
– Слава Богу, свежо! Надоела жара!
Целый день над водой, словно стая стрекоз,
Золотые летучие рыбы видны,
У песчаных, серпами изогнутых кос
Мели, точно цветы, зелены и красны.
Блещет воздух, налитый прозрачным огнём,
Солнце сказочной птицей глядит с высоты:
– Море, Красное Море, ты царственно днём,
Но ночами вдвойне ослепительно ты!
Только тучкой скользнут водяные пары,
Тени чёрных русалок мелькнут на волнах,
Да чужие созвездья, кресты, топоры,
Над тобой загорятся в небесных садах.
И огнями бенгальскими сразу мерцать
Начинают твои золотые струи,
Искры в них и лучи, словно хочешь создать,
Позавидовав небу, ты звёзды свои.
И когда выплывает луна на зенит,
Ветр проносится, запахи леса тая,
От Суэца до Баб-эль-Мандеба звенит,
Как Эолова Арфа, поверхность твоя.
На обрывистый берег выходят слоны,
Чутко слушая волн набегающих шум,
Обожать отраженье ущербной луны,
Подступают к воде и боятся акул.
И ты помнишь, как, только одно из морей,
Ты исполнило некогда Божий закон,
Разорвало могучие сплавы зыбей,
Чтоб прошел Моисей и погиб Фараон.
<1918, 1921>
Сахара
Все пустыни друг другу от века родны,
Но Аравия, Сирия, Гоби –
Это лишь затиханье Сахарской волны,
В сатанинской воспрянувшей злобе.
Плещет Красное море, Персидский залив,
И глубоки снега на Памире,
Но её океана песчаный разлив
До зелёной доходит Сибири.
Ни в дремучих лесах, ни в просторе морей,
Ты в одной лишь пустыне на свете
Не захочешь людей и не встретишь людей,
А полюбишь лишь солнце да ветер.
Солнце клонит лицо с голубой вышины,
И лицо это девственно-юно,
И, как струи пролитого солнца, ровны
Золотые песчаные дюны.
Всюду башни, дворцы из порфировых скал,
Вкруг фонтаны и пальмы на страже,
Это солнце на глади воздушных зеркал
Пишет кистью лучистой миражи.
Живописец небесный вечерней порой
У подножия скал и растений
На песке, как на гладкой доске золотой,
Расстилает лиловые тени.
И, небесный пловец, лишь подаст оно знак,
Прозвучат гармоничные звоны,
Это лопнет налитый огнём известняк
И рассыплется пылью червлёной.
Блещут скалы, темнеют под ними внизу
Древних рек каменистые ложа,
На покрытое волнами море в грозу,
Ты промолвишь, Сахара похожа.
Но вглядись: эта вечная слава песка –
Только горнего отсвет пожара,
С небесами, где лёгкие спят облака,
Бродят радуги, схожа Сахара.
Буйный ветер в пустыне второй властелин,
Вот он мчится порывами, точно
Средь высоких холмов и широких долин
Дорогой иноходец восточный.
И звенит и поет, поднимаясь, песок,
Он узнал своего господина,
Воздух меркнет, становится солнца зрачок
Как гранатовая сердцевина.
И чудовищных пальм вековые стволы,
Вихри пыли взметнулись и пухнут,
Выгибаясь, качаясь, проходят сквозь мглы,
Тайно веришь – вовеки не рухнут.
Так и будут бродить до скончанья веков,
Каждый час всё грозней и грознее,
Головой пропадая среди облаков,
Эти страшные серые змеи.
Но мгновенье… отстанет и дрогнет одна
И осядет песчаная груда,
Это значит – в пути спотыкнулась она
О ревущего в страхе верблюда.
И когда на проясневшей глади равнин
Все полягут, как новые горы,
В Средиземное море уходит хамсин
Кровь дурманить и сеять раздоры.
И стоит караван, и его проводник
Всюду посохом шарит в тревоге,
Где-то около плещет знакомый родник,
Но к нему он не знает дороги.
А в оазисах слышится ржанье коня
И под пальмами веянье нарда,
Хоть редки острова в океане огня,
Точно пятна на шкуре гепарда.
Но здесь часто звучит оглушающий бой,
Блещут копья и веют бурнусы.
Туарегов, что западной правят страной,
На востоке не любят тиббусы.
И пока они бьются за пальмовый лес,
За верблюда иль взоры рабыни,
Их родную Тибести, Мурзук, Гадамес
Заметают пески из пустыни.
Потому что пустынные ветры горды
И не знают преград своеволью.
Рушат стены, сады засыпают, пруды
Отравляют белеющей солью.
И, быть может, немного осталось веков,
Как на мир наш, зелёный и старый,
Дико ринутся хищные стаи песков
Из пылающей юной Сахары.
Средиземное море засыпят они,
И Париж, и Москву, и Афины,
И мы будем в небесные верить огни,
На верблюдах своих бедуины.
И когда наконец корабли марсиан
У земного окажутся шара,
То увидят сплошной золотой океан
И дадут ему имя: Сахара.
<1918-1921>
Суэцкий канал
Стаи дней и ночей
Надо мной колдовали,
Но не знаю светлей,
Чем в Суэцком канале,
Где идут корабли,
Не по морю, по лужам,
Посредине земли
Караваном верблюжьим.
Сколько птиц, сколько птиц
Здесь на каменных скатах,
Голубых небылиц,
Голенастых, зобатых!
Виден ящериц рой
Золотисто-зелёных,
Словно влаги морской
Стынут брызги на склонах.
Мы кидаем плоды
На ходу арапчатам,
Что сидят у воды,
Подражая пиратам.
Арапчата орут
Так задорно и звонко,
И шипит марабут
Нам проклятья вдогонку.
А когда на пески
Ночь, как коршун, посядет,
Задрожат огоньки
Впереди нас и сзади;
Те красней, чем коралл,
Эти зелены, сини…
Водяной карнавал
В африканской пустыне.
С отдаленных холмов,
Лёгким ветром гонимы,
Бедуинских костров
К нам доносятся дымы.
С обвалившихся стен
И изгибов канала
Слышен хохот гиен,
Завыванья шакала.
И в ответ пароход,
Звёзды ночи печаля,
Спящей Африке шлёт
Переливы рояля.
<1921>
Сомалийский полуостров
Помню ночь и песчаную помню страну
И на небе так низко луну.
И я помню, что глаз я не мог отвести
От её золотого пути.
Там светло, и, наверное, птицы поют,
И цветы над прудами цветут,
Там не слышно, как бродят свирепые львы,
Наполняя рыканием рвы,
Не хватают мимозы колючей рукой
Проходящего в бездне ночной!
В этот вечер, лишь тени кустов поползли,
Подходили ко мне сомали,
Вождь их с рыжею шапкой косматых волос
Смертный мне приговор произнес,
И насмешливый взор из-под спущенных век
Видел, сколько со мной человек.
Завтра бой, беспощадный, томительный бой
С завывающей чёрной толпой,
Под ногами верблюдов сплетение тел,
Дождь отравленных копий и стрел,
И до боли я думал, что там, на луне,
Враг не мог бы подкрасться ко мне.
Ровно в полночь я мой разбудил караван,
За холмом грохотал океан,
Люди гибли в пучине, и мы на земле
Тоже гибели ждали во мгле.
Мы пустились в дорогу. Дышала трава,
Точно шкура вспотевшего льва,
И белели средь чёрных, священных камней
Вороха черепов и костей.
В целой Африке нету грозней сомали,
Безотраднее нет их земли,
Столько белых пронзило во мраке копье
У песчаных колодцев её,
Чтоб о подвигах их говорил Огаден
Голосами голодных гиен.
И, когда перед утром склонилась луна,
Уж не та, а страшна и красна,
Понял я, что она, точно рыцарский щит,
Вечной славой героям горит,
И верблюдов велел положить, и ружью
Вверил вольную душу мою.
<1918, 1921>
Мадагаскар
Сердце билось, смертно тоскуя,
Целый день я бродил в тоске,
И мне снилось ночью: плыву я
По какой-то большой реке.
С каждым мигом всё шире, шире
И светлей, и светлей река,
Я в совсем неведомом мире,
И ладья моя так легка.
Красный идол на белом камне
Мне поведал разгадку чар,
Красный идол на белом камне
Громко крикнул: – Мадагаскар! –
В раззолоченных паланкинах,
В дивно-вырезанных ладьях,
На широких воловьих спинах
И на звонко ржущих конях
Там, где пели и трепетали
Лёгких тысячи лебедей,
Друг за другом вслед выступали
Смуглолицых толпы людей.
И о том, как руки принцессы
Домогался старый жених
Сочиняли смешные пьесы
И сейчас же играли их.
А в роскошной форме гусарской
Благосклонно на них взирал
Королевы мадагаскарской
Самый преданный генерал.
Между них быки Томатавы,
Схожи с грудою тёмных камней,
Пожирали жирные травы
Благовоньем полных полей.
И вздыхал я, зачем плыву я,
Не останусь я здесь зачем:
Неужель и здесь не спою я
Самых лучших моих поэм?
Только голос мой был не слышен,
И никто мне не мог помочь,
А на крыльях летучей мыши
Опускалась тёплая ночь.
Небеса и лес потемнели,
Смолкли лебеди в забытье…
…Я лежал на моей постели
И грустил о моей ладье.
<1918>
Замбези
Точно медь в самородном железе,
Иглы пламени врезаны в ночь,
Напухают валы на Замбези
И уносятся с гиканьем прочь.
Сквозь неистовство молнии белой
Что-то видно над влажной скалой,
Там могучее чёрное тело
Налегло на топор боевой.
Раздаётся гортанное пенье.
Шар земной обтекающих муз
Непреложны повсюду веленья!..
Он поёт, этот воин зулус.
«Я дремал в заповедном краале
И услышал рычание льва,
Сердце сжалось от сладкой печали,
Закружилась моя голова.
Меч метнулся мне в руку, сверкая,
Распахнулась таинственно дверь,
И лежал предо мной, издыхая,
Золотой и рыкающий зверь.
И запели мне духи тумана:
– Твой навек да прославится гнев!
Ты достойный потомок Дингана,
Разрушитель, убийца и лев! –
С той поры я всегда наготове,
По ночам мне не хочется спать,
Много, много мне надобно крови,
Чтобы жажду мою утолять.
За большими, как тучи, горами,
По болотам близ устья реки
Я арабам, торговцам рабами,
Выпускал ассагаем кишки.
И спускался я к бурам в равнины
Принести на просторы лесов
Восемь ран, украшений мужчины,
И одиннадцать вражьих голов.
Тридцать лет я по лесу блуждаю,
Не боюсь ни людей, ни огня,
Ни богов… но что знаю, то знаю:
Есть один, кто сильнее меня.
Это слон в неизведанных чащах,
Он, как я, одинок и велик,
И вонзает во всех проходящих
Пожелтевший изломанный клык.
Я мечтаю о нём беспрестанно,
Я всегда его вижу во сне,
Потому что мне духи тумана
Рассказали об этом слоне.
С ним борьба для меня бесполезна,
Сердце знает, что буду убит,
Распахнётся небесная бездна
И Динган, мой отец, закричит:
– Да, ты не был трусливой собакой,
Львом ты был между яростных львов,
Так садись между мною и Чакой
На скамье из людских черепов!»
Дамара
Готентотская космогония
Человеку грешно гордиться,
Человека ничтожна сила:
Над землею когда-то птица
Человека сильней царила.
По утрам выходила рано
К берегам крутым океана
И глотала целые скалы,
Острова целиком глотала.
А священными вечерами
Над высокими облаками,
Поднимая голову, пела,
Пела Богу про Божье дело.
А ногами чертила знаки,
Те, что знают в подземном мраке,
Всё, что будет, и всё, что было,
На песке ногами чертила.
И была она так прекрасна,
Так чертила, пела согласно,
Что решила с Богом сравниться
Неразумная эта птица.
Бог, который весь мир расчислил,
Угадал её злые мысли
И обрек её на несчастье,
Разорвал её на две части.
И из верхней части, что пела,
Пела Богу про Божье дело,
Родились на свет готентоты
И поют, поют без заботы.
А из нижней, чертившей знаки,
Те, что знают в подземном мраке,
Появились на свет бушмены,
Украшают знаками стены.
А вот перья, что улетели
Далеко в океан, доселе
Всё плывут, как белые люди;
И когда их довольно будет,
Вновь срастутся былые части
И опять изведают счастье.
В белых перьях большая птица
На своей земле поселится.
Экваториальный лес
Я поставил палатку на каменном склоне
Абиссинских, сбегающих к западу, гор
И беспечно смотрел, как пылают закаты
Над зелёною крышей далёких лесов.
Прилетали оттуда какие-то птицы
С изумрудными перьями в длинных хвостах,
По ночам выбегали весёлые зебры,
Мне был слышен их храп и удары копыт.
И однажды закат был особенно красен,
И особенный запах летел от лесов,
И к палатке моей подошел европеец,
Исхудалый, небритый, и есть попросил.
Вплоть до ночи он ел неумело и жадно,
Клал сардинки на мяса сухого ломоть,
Как пилюли проглатывал кубики магги
И в абсент добавлять отказался воды.
Я спросил, почему он так мертвенно бледен,
Почему его руки сухие дрожат,
Как листы… – «Лихорадка великого леса», –
Он ответил и с ужасом глянул назад.
Я спросил про большую открытую рану,
Что сквозь тряпки чернела на впалой груди,
Что с ним было? – «Горилла великого леса», –
Он сказал и не смел оглянуться назад.
Был с ним карлик, мне по пояс, голый и чёрный,
Мне казалось, что он не умел говорить,
Точно пёс он сидел за своим господином,
Положив на колени бульдожье лицо.
Но когда мой слуга подтолкнул его в шутку,
Он оскалил ужасные зубы свои
И потом целый день волновался и фыркал
И раскрашенным дротиком бил по земле.
Я постель предоставил усталому гостю,
Лег на шкурах пантер, но не мог задремать,
Жадно слушая длинную дикую повесть,
Лихорадочный бред пришлеца из лесов.
Он вздыхал: – «Как темно… этот лес бесконечен…
Не увидеть нам солнца уже никогда…
Пьер, дневник у тебя? На груди под рубашкой?..
Лучше жизнь потерять нам, чем этот дневник!
Почему нас покинули чёрные люди?
Горе, компасы наши они унесли…
Что нам делать? Не видно ни зверя, ни птицы;
Только посвист и шорох вверху и внизу!
Пьер, заметил костры? Там наверное люди…
Неужели же мы, наконец, спасены?
Это карлики… сколько их, сколько собралось…
Пьер, стреляй! На костре – человечья нога!
В рукопашную! Помни, отравлены стрелы…
Бей того, кто на пне… он кричит, он их вождь…
Горе мне! На куски разлетелась винтовка…
Ничего не могу… повалили меня…
Нет, я жив, только связан… злодеи, злодеи,
Отпустите меня, я не в силах смотреть!..
Жарят Пьера… а мы с ним играли в Марселе,
На утесе у моря играли детьми.
Что ты хочешь, собака? Ты встал на колени?
Я плюю на тебя, омерзительный зверь!
Но ты лижешь мне руки? Ты рвешь мои путы?
Да, я понял, ты богом считаешь меня…
Ну, бежим! Не бери человечьего мяса,
Всемогущие боги его не едят…
Лес… о, лес бесконечный… я голоден, Акка,
Излови, если можешь, большую змею!» –
Он стонал и хрипел, он хватался за сердце
И на утро, почудилось мне, задремал;
Но когда я его разбудить, попытался,
Я увидел, что мухи ползли по глазам.
Я его закопал у подножия пальмы,
Крест поставил над грудой тяжёлых камней,
И простые слова написал на дощечке:
– Христианин зарыт здесь, молитесь о нём.
Карлик, чистя свой дротик, смотрел равнодушно,
Но, когда я закончил печальный обряд,
Он вскочил и, не крикнув, помчался по склону,
Как олень, убегая в родные леса.
Через год я прочел во французских газетах,
Я прочел и печально поник головой:
– Из большой экспедиции к Верхнему Конго
До сих пор ни один не вернулся назад.
Дагомея
Царь сказал своему полководцу: «Могучий,
Ты высок, точно слон дагомейских лесов,
Но ты всё-таки ниже торжественной кучи
Отсеченных тобой человечьих голов.
«И, как доблесть твоя, о, испытанный воин,
Так и милость моя не имеет конца.
Видишь солнце над морем? Ступай! Ты достоин
Быть слугой моего золотого отца».
Барабаны забили, защелкали бубны,
Преклоненные люди завыли вокруг,
Амазонки запели протяжно, и трубный
Прокатился по морю от берега звук.
Полководец царю поклонился в молчаньи
И с утеса в бурливую воду прыгнул,
И тонул он в воде, а казалось, в сияньи
Золотого закатного солнца тонул.
Оглушали его барабаны и клики,
Ослепляли солёные брызги волны,
Он исчез. И блестело лицо у владыки,
Точно чёрное солнце подземной страны.
Из сборника «К Синей звезде. Неизданные стихи»
«Из букета целого сиреней…»
Из букета целого сиреней
Мне досталась лишь одна сирень,
И всю ночь я думал об Елене,
А потом томился целый день.
Всё казалось мне, что в белой пене
Исчезает милая земля,
Расцветают влажные сирени
За кормой большого корабля.
И за огненными небесами
Обо мне задумалась она,
Девушка с газельими глазами
Моего любимейшего сна.
Сердце прыгало, как детский мячик,
Я, как брату, верил кораблю,
Оттого, что мне нельзя иначе,
Оттого, что я её люблю.
Июль 1917
«Много есть людей, что, полюбив…»
Много есть людей, что, полюбив,
Мудрые, дома себе возводят,
Возле их благословенных нив
Дети резвые за стадом бродят.
А другим – жестокая любовь,
Горькие ответы и вопросы,
С желчью смешана, кричит их кровь,
Слух их жалят злобным звоном осы.
А иные любят, как поют,
Как поют и дивно торжествуют,
В сказочный скрываются приют;
А иные любят, как танцуют.
Как ты любишь, девушка, ответь,
По каким тоскуешь ты истомам?
Неужель ты можешь не гореть
Тайным пламенем, тебе знакомым?
Если ты могла явиться мне
Молнией слепительной Господней,
И отныне я горю в огне,
Вставшем до небес из преисподней?
<1917>
Прогулка
Мы в аллеях светлых пролетали,
Мы летели около воды,
Золотые листья опадали
В синие и сонные пруды.
И причуды, и мечты и думы
Поверяла мне она свои,
Всё, что может девушка придумать
О ещё неведомой любви.
Говорила: «Да, любовь свободна,
И в любви свободен человек,
Только то лишь сердце благородно,
Что умеет полюбить навек».
Я смотрел в глаза её большие,
И я видел милое лицо
В рамке, где деревья золотые
С водами слились в одно кольцо.
И я думал: «Нет, любовь не это!
Как пожар в лесу, любовь – в судьбе,
Потому что даже без ответа
Я отныне обречен тебе.
<1917>
«Мой альбом, где страсть сквозит без меры…»
Мой альбом, где страсть сквозит без меры
В каждой мной отточенной строфе,
Дивным покровительством Венеры
Спасся он от ауто-да-фэ.
И потом – да славится наука! –
Будет в библио́теке стоять
Вашего расчётливого внука
В год две тысячи и двадцать пять.
Но американец длинноносый
Променяет Фриско на Тамбов,
Сердцем вспомнив русские берёзы,
Звон малиновый колоколов.
Гостем явит он себя достойным
И, узнав, что был такой поэт
Мой (и Ваш) альбом с письмом пристойным
Он отправит в университет.
Мой биограф будет очень счастлив,
Будет удивляться два часа,
Как осёл, перед которым в ясли
Свежего насыпали овса.
Вот и монография готова,
Фолиант почтенной толщины:
«О любви несчастной Гумилёва
В год четвёртый мировой войны».
И когда тогдашние Лигейи,
С взорами, где ангелы живут,
Со щеками лепестка свежее,
Прочитают сей почтенный труд,
Каждая подумает уныло,
Лёгкого презренья не тая:
«Я б американца не любила,
А любила бы поэта я».
Июль 1917
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































