Текст книги "Нежный театр"
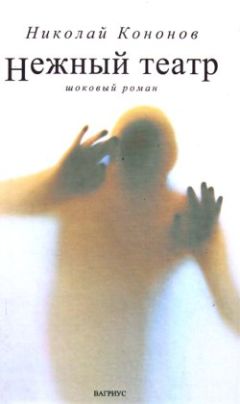
Автор книги: Николай Кононов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Пока я переминался на одном месте, он лег – будто нырнул в ртутные густые воды, не утопая в них. Свет, в котором только что стоял он, остался поколебленным. Мне со всею отчетливостью привиделось как отец легко вышел из себя. Оставив мне так много.
Я мгновенно обнажился тоже. Не стесняясь его, так как он совсем не теснил меня.
Мне какой-то самой легкой моей частью делалось, делалось, делалось мне все свободней и свободней…
– Ну, иди же ты сюда, – позвал он не своим обычным голосом, а тоном высокого охотничьего рога, таким истомленным, что им невозможно даже распугать самых мелких птиц. Я понял: с таким «ты» мне не уравняться никогда.
Я подошел, ни сделав и шага, так как стал слишком легок для шагов, я вплыл в его эфир, в котором было все, что я знал про него, – все, кроме изнурения.
От него шли такая слабость и нетерпение, что я никогда не смог к этому сегменту моей памяти подобрать слова.
Отец оказался не тяжелее одеяла, чью полость он распахнул мне навстречу как моллюск створку раковины.
«Полезай к стене», – кажется, не попросил он меня…
«Не упадешь», – о, и этого мне он не сказал…
И я легко перекатился через сильное тело низкой помраченной волной, рассыпался по нему песком, пеной, чем-то еще – беспамятным и влажным…
Мне было необходимо задеть его собою, так чтобы проникнуть во все его поры.
Хоть на мгновение.
Ну. Вот и…
Где-то внутри меня, на самом моем дне опрокинулась низкая миска с парным молоком.
Я все про себя навсегда понял.
– Спать, – безмятежно улыбнувшись чему-то, позвал он меня, уже замершего рядом. И, кажется, я понял чему он улыбнулся.
Той ночью не произошло инцеста. Это было невозможно. Ни для него, ни для меня.[22]22
Но я теперь думаю о том, что попроси он меня об этом, – и я не проронил бы ни одного звука против, ни то что бы слова. Значит я был с ним ближе самого близкого, став в полной нестерпимой самоотдаче им самим.
[Закрыть]
И я снова, лежа с ним, вытянувшись струною, ощущая его не как корпус, бедра и голени, а иначе – как извещение о самом себе, и я всю ночь нарождался.
Но не наново, а как-то иначе – в другую сторону от моего паскудного завтра, в-туда, в-до-слов, сворачивался в полный покой и беззвучие.
Будто меня уже нельзя было прочесть, так как моя поверхность, мое тело перестали что либо означать, ибо я сам стал больше, чем гудение своей напряженной пустоты и значительнее опасного беззвучия, разлившегося во мне. Звучнее, чем переполненный улей, зудящий на манер отцовской колыбельной.
Я, – слитый с ним в этом порыве близости, останавливаемом мной, за что я еще поплачусь, – недвижимым лег у самой стенки. А потом повернулся. Лицом к нему. Почувствовал его мерное тело, вошел в зависимость от его неукротимого тепла, был понужден им к близости. Уткнувшись, нет, уставившись губами в отворенную только для меня сладкую подмышку. В робкий отцовский лес. Как в сокровенность. Как в сокровищницу с особыми пряностями, которые скоро унесут, но пока – они мои. Будто бы навсегда.
Он тоже, ответив мне, испуганно вздохнув, привалил к себе, обнял за плечи и гладил по затылку, еле слышно приговаривая: «Мой мальчик, ну мой любимый сыночек, мой мальчик. Моя детка».
Это «ну», полное тихой бесконечной горечи, засело в моем сердце.
Он твердил: «моя детка, моя детка…»
Будто улыбался.
Он это говорил не мне, смятенному его лаской, а себе самому, ставшему вдруг в тысячу раз слабее меня, юнее и ничтожнее. Оставшемуся наедине со своей плотью, не имеющей ничего – ни запаха, ни плотности, ни тем более – пола. Он переставал быть всем, чем был раньше – мужчиной, моим отцом, бросившим меня.
Я понял, что становлюсь прозрачным, и во мне уже ничего не держится – ни память, ни слова, ни желания.
Ведь он ни к чему меня не понуждал. Как и я его. Только к жизни. И вот это было неукротимо.
Я понял, что все исполнилось. И мне можно не жить дальше.[23]23
Я до сих пор помню то чувство абсолютного понимания. Ведь я понимал его так, как никто из моих любовниц и жен – меня. Я не хотел от него никаких подробностей. Ни его дальнейшей жизни, ни смерти. Я понимал его как самый лучший императив.
[Закрыть]
Время остановилось.
Я знал, что наша кровь наново смешалась, но не в ужасающем, не в роковом смысле, а в другом, другом, – возносящем меня и оставляющем в живых.
И мы, сползая в сон, по-моему, так и не заснули.
И я понимаю, что и ему великого напряжения стоило не разрыдаться. Ведь мы наконец стали и, не преставая, снова становились ровней. Как не должно было случиться.
Между нами пролег знак великого кровного тождества. Таковой, от которого отказаться будет невозможно.
И он, он, мой бедный отец, будет понужден навсегда, даже когда его не станет, отвечать за скуку, скуку, приключившуюся в моей жизни.
Но я вспоминаю его, уснувшего рядом со мной не по уставу отцовства, а по мере столь глубокой человечности, что никто не смог бы осудить ни его, ни меня, ни темное время суток, ни безропотность веществ всего мира, – за это потакание чувственности и небрежение кромешным законом.
Потому что закона не было.
Всю ночь я поддерживал на весу его тиходышащее нетяжелеющее тело, переставшее быть мужским и отцовским, – подставлялся под бесплотность его чуть колкой щеки, заполняя собой жесткое кольцо его горячих сомкнутых на мне рук, иногда они мягчели и вздрагивали, как будто роняли что-то; и я понимал что этим чем-то был я, и он в ответ на мое понимание туже смыкал кольцо. Я лежал в пеленах колыбели, свитых из зажегшегося внутри меня тленного света, равного отцовскому, овивающему меня со все сторон. Он вдыхал в меня жизнь. Он недвижимый так старался. Стать мною. Как и я им.
Меня обволакивал ватный пустой выдох, приотворяющий его ослабшие губы у самого моего слуха, – и я чуял под своей щекой, как в этом долгом дыхании зыбится глубина его тела, тела, не имеющего отношения к обычной телесности. И насыщая меня своей жалкостью, он не делался жалким, и я не жалел его, так как просто желал, даже не его, а его жизни. И он, будучи слабее видимости и ирреальнее миража, со всею очевидностью сосуществуя со мною здесь, иссякал, – как прекрасная однозначность моего непоправимо опрокинутого выбора.
О, не только моего…
Он легко обвил меня ногами, прижимаясь сильнее и сильнее, если к тому, кого уже не было, можно было прижаться, и мое бедро не уколола травянистая растительность его живота, не отяготил перекатывающийся теплый ком мошонки и мягкого члена, к утру ставшего большим, поправ мой щуплый живот; – и когда сквозь дрему я подавался к отцу, тяжко вздыхая, то в ответ мне вздрагивала раскрывшаяся головка, чуть подталкивая меня; и еще этот ранящий ноздри запах – словно скрипнувшего канифолью распила или дальней речной липкости – мягко и беззащитно настигал меня; – это мой отец, безмерно ослабнув, со всей безутешностью опершись о меня, как о последнюю твердыню, уходил в небытие. Таким вот образом просачиваясь в меня. И эта легкая горючая прель оказалась главным его признаком, достававшимся мне, – куда соскальзывал и я, утеряв опору в нем. В полусне я понимал, что весь он, и тело, и запах, и плотность – исчезают, уводя его как череду видимостей, иллюзий, всего несбывшегося, – и удержать их подле меня не смог бы никто.
Его сил хватало, чтобы оставить о себе такой эфемерный преисполненный пугающей точности и драгоценной зыбкости, отчет предназначенный иссяканию.
Вот, вдохни, не бойся, ну, понюхай, мой любимый, – как будто подталкивал он меня, – ведь почти ничем не пахнет. В тот самый момент когда мы проснемся.
Меня, как припозднившегося маленького гулену, накрыло упавшее в непогоду растение. Огромный влажный куст, чью породу мне ни за что не определить, так как суть ее состояла в характере моего поражения всей путаницей листвы и веток, нежным тактильным ударом, растворяющемся через миг после опознавания легких сумерек этого касанья…
Я боялся разжать объятия. Во мне не было стыда. Потому, что и в нем не было срама. И он, наивно приоткрываясь мне, не изменил своей позы, – слабый с напряженным членом, полный смирения, самоотдачи и признательности. За что? За то, что и я, наконец-то, и я тоже подарил ему жизнь. Как мог. Со мной. Робкий клок жизни. Не отторгнув его в этом ничтожестве слабости и великолепии близости, – мы ведь вырвали с ним лишь несколько часов из всей бездны нашего разобщенного времени.
И он показался мне понурой ровностью, тщетной неизменностью, сокровищем жалкости. Я просто понял то, что он – мой отец, понял в нем то, что навсегда изъяло из нашей неосуществимой близости все тени.
Мне привиделось, как я спал на самом дне его жара, не застав там себя спящим ни одной секунды, которую можно вымерить с помощью обычных часов. Ведь человеческое время для нас перестало что-то означать. Для него – спящего, а для меня – спящего в нем, и не подозревающем о скором времени. Он словно извещал меня об очень важном, – что это известно и ему, а теперь и мне, так как мы стали единственным достоверным извещением друг другу.
О том, что придет смерть.
И его, покоящегося рядом, я уже не боялся.
Я перекрутился лицом к стене как жгут влажного белья, но отец что-то вымолвил детским гортанным тоном, он донесся до меня откуда-то с дальней прекрасной изнанки его жизни, он вздрогнул, – я, поворачиваясь, наверное грубо задел его.
И тут же под его робкий стон я изошел.
Мое напряжение разрядилось от одного прикосновения к стене.
Сырой крупный крот промчался во мне как в просиявшей норе. Случайным толчком по моему распрямленному в дугу телу. Кажется, я ухнул. Будто с трудом потянулся, оживая. И так – быстро и легко, в моей дурацкой жизни больше никогда не получалось. В горькие ночи я толкал стены – каменные и фанерные. И они отвечали мне мертвым покоем.
Глагол «кончил» совершенно здесь не подходит, так как во мне остался огромный сложный остаток. И его низкая, тяжелая, но не низменная взвесь не растворится во мне никогда, чуть колеблясь на самом моем сокровенном дне. Она исчезнет только вместе со мной.
Кажется, отец сквозь предутреннюю дрему ничего не почуял. Хотя, как сказать.
Но та ночь до сих пор предстает мне объятием таким большим и призрачным, что заштриховывает, смывает своим несуществующим временем всего меня. Хотя не было не исчерпано ничего.
Может быть после этого мы должны были бы оба сгореть, как в недошедшей до нас самой ужасной греческой трагедии.
Но то, что было на самом деле, упраздняет меня, ибо я сам себя исполнил.
И самый тяжелый итог тогдашнего эксцесса – то, что мной больше ничто не желаемо. Если вообще возможно подводить какие ни было итоги.
Вот, нет моего отца, у меня не осталось ни одной его вещи, кроме разваливающегося того самого древнего совершенно разлохматившегося «москвиченка».
И мне начинает чудиться, что все это случилось со мной одним, без его участия.
Он утром натягивает галифе, переминая ногами. С трудом попадает в другую кожу.
Я чувствовал, что его тело говорит со мной не на языке строгой военной одежды, этих золотых пуговиц, хищного ремня, погон, а на щемящем и трудно переносимом наречии нежности, оставленности, муки и невозможности не только что-либо исправить, но и вообще сказать, просто произнести.
У меня стоит ком в горле. Я не могу даже коснуться его руки.
И я понимаю моего отца так, как не понимал никто меня в моей жизни. И я не знаю, хотел ли я быть понятым таким образом. Не образом, а чем-то иным, чему нет ни дна, ни предела.
Отец затягивает вокруг своей талии ремень как запрет.
Мы ведь должны продолжать путь.
Жалобная странная фраза, выроненная им оплошно из своего сокровенного нутра под утро: «Мне трусы в паху натирают», – кажется мне посейчас особым подкопом под меня, мою сущность и мое тело, дерзостной диверсией.
Если б он ее не обронил, оборотясь к окну, где уже начало потихоньку сереть и так же серо заурчал грейдер хозяина нашего постоя, то я бы решил, что ночь равна мороку, и все не более чем мой сон после тошнотной дороги.
Не знаю почему, но я заплакал.
Он растерянно и жалко посмотрел на меня. Всего одно мгновенье. Будто испытал боль. Не сделав и шага в мою сторону. Только посмотрел. Таким я его и запомнил…
Этот образ военного человека, поворотившего на меня взор, чуть колеблется во мне как бакен в створе реки. И, кажется, уже ничего не значит.
Он мне не сигналит.
Это не подробность. Это мотив моих дальнейших затравленных воспоминаний о нем. Они зарастут как луг, где не косят траву.
Вот я смотрю сегодня из себя тогдашнего на тот придорожный домик.
На грейдер, который пятится по обочине шоссе сам по себе. Он посейчас не прекращает своего тихого обратного движения. Но, обречено удаляясь, он почему-то не уменьшается.
В этом есть порча, порочность.
У меня начинает кружиться голова, и меня вот-вот стошнит. В мой рот забит кляп. Из осенней холодной травы. И земля, прилипшая к глобусу, поползла подо мной. Как скальп.
Дальнейшего пути я не помню. Мы ехали вместе с однообразием пейзажа. Тяжесть была непомерна, она ведь состояла в том, что мы должны были позабыть друг о друге. Однообразие дороги переходило в чистую муку.
Из тех ночных руин, обрушившихся когда-то на другого, но равного мне подростка, я так никогда и не выбрался.
Вот, совершенно не помню его взгляда, не подберу название к цвету его глаз. И могу все только досочинить со всей безутешностью потери. Его свойства остались во мне как смолкнувшее предание. И я помню все сюжеты – на ощупь, на запах, на вес, – хотя и они скользят во мне, не цепляясь ни за что. Будто я только и делал, что прикасался к нему и пробовал на вес его тело. Его взгляд вдруг упершийся в меня. Вся эфемерная память о нем осталась неисчисляемой, не подверженной анализу, – просто в виде плотного шевелящегося осадка. Будто во мне, в моем средостении есть тяжкий сгусток ртути, не смачивающий меня, но организующий мое равновесие, – и если меня кто-то бросит в цель, то я непременно приземлюсь на обе ноги. Как трофейный боевой нож, по скважине которого бегает ртутный груз.
II
Для связности стоит сказать, что прошла уйма времени, но я не претендую на связность.
Отец умер, словно только для того, чтобы я от него еще раз, окончательно отвык. Я еще расскажу об этом. Мы были дико далеки, и искры небывших споров, неразразившихся скандалов всегда стояли между нами, как (это я теперь понимаю) между любовниками, когда один из них еще любит и ревнует, а другому не побороть свою неистребимую скуку и тоску, и он не может ничего с этим поделать. И я не виноват, что Господом мне была дана именно такая родительская любовь. Я ведь сам не ждал и не просил ее. Все сложилось само собой, помимо моего злополучного, горящего неярко изнутри, словно торф, желания.
Как становится по ходу лет ясно, я был связан только с самим собой, со своим немилым телом и желаниями своей утробы и в основном с тем, что в своем теле искал некую точку нового великого отсчета.
Такую, чтобы всё, бывшее со мной, не утонуло в пошлом тумане приукрашенного прошлого. Ведь оно-то было, оно было поганым. А проступило бы резко и отчетливо, как скелет. Дерзко, как порез. Цинично, как рифма в стихотворении, оборачивающая и обваливающая мерно текущий смысл моей скуки.
В чем состоял мой тревожный поиск?
Что я хотел обрести?
Бешенство и переполненность той ночи с отцом?
Да-да, именно перенасыщенность меня и влекла.
Мне стало казаться, что именно тогда я был уничтожен и упразднен той полнотой, над которой проливал слезы утром в домике, простите мою сентиментальность, дорожного мастера на двести семидесятом километре стратегического шоссе между Пензой и Ртищево.
В конце концов я дошел до того предела, что повез туда свою вторую жену.
Я всматривался в почти ту же самую дорогу, но кроме сухости отчужденного зрелища, меня ничего не наполняло; лента шоссе не преисполнила меня ни трепетом, ни страхом, и мне стало ясно, что этот путь давно лишен для меня и тени эротизма. Пустая обеззвученная форма развертывалась за окном автомобиля, и ни одно имя произрастающих на этом ландшафте населенных пунктов ничего не сказало моему сердцу. Спрямленная дорога бесстыдно рассекала села, асфальт ложился под машину дешевым штапелем. Села хранили прошлую косину, которую уже никто не учитывал. Они дешевели на моих глазах – дома, люди, животные, деревья. Настоящее явно принадлежало не их насельникам. Им было уже не приноровиться к ленте шоссе, к спрямленному бегу времени.
Слишком далеко от обочин изредка стояли тетки с молоком, яблоками, свежей убоиной, прикрытой покрасневшей пятнами тряпицей. Добраться до них было бы целой историей – перемахнуть кювет, черную лужу, гурт бревен… Хотели ли они хоть что-то продать, или просто исполняли обряд, стоя в отдалении? Я боялся, что жена на что-то накинется, примется торговаться, тратить время, которого и так оставалось мало.
Но буквы названий придорожных сел сменялись теми же, но пересеченными черной диагональю. И это пронзительно ничего не обозначало, кроме того, что мной совершена дурная растрата. Я мог ехать так же и в другую сторону.
Я ожидал столба с нужной километровой отметкой. И я не ошибся – трехзначное число вызвало во мне томление, которое не имело конечной точки. Оно, повеяв угаром, мягко перелилось через меня, оставляя меня с моим прошлым, за которым простирались желание и смерть. Не признавав ничего, я все увидел.
На склоне слабого осеннего дня (он просто просачивался, делался мнимостью) семейная пара насилу сдала нам на одну единственную ночь за циничные деньги пыльную дворовую халупу с продавленной койкой. Я полчаса перед этим под удивленными взорами жены клянчил ночлега и позорно унижался перед наглым мужиком-хозяином и молчаливой толстухой. Они взглядывали на меня и на жену, с трудом догадываясь о сути моего вычурного желании. Припоминали мои черты по неказистым портретам серийных маньяков, прикнопленным к стендам «их разыскивает милиция». Эти листки словно богохульная пародия на плащаницу. Я говорил с новыми хозяевами на заумном языке небожителя. Это были совсем другие люди, разлюбившие великое шоссе, не имеющие к прекрасной асфальтовой ленте никакого отношения. Фермеры. Арендаторы. Переселенцы. Жадные жестокие беженцы. Фавориты сумерек и филистеры самогона.
Запустение вокруг построек было искусственно пролито кем-то непомерным и неумолимым. Траченная полная луна безыскусно колупала все, объятое ее мертвенной жалостью, как очерствелую краюху, не высвечивая в домовье никаких частностей и не скрашивая общего смысла уныния. Свет колыхал и чернил безымянную округу. И наступившая тишина предстала мне оглушающим бедламом. Плохая ткань этой ночи почти колола меня, будто я был голым.
Я обнаружил, что это место не имеет пейзажного смысла, и оно – вне ландшафта. И подробности не то что не видны, а несущественны под грудой шелухи моего прошлого. Луна наконец замерла в стороне как стеклянный понятой, ее просто сюда привели. И вот я понял, что уже прошел огромный твердый период, ничего не задевший, не преобразивший, а просто пнувший меня напоследок. Будто я уже сам валяюсь на обочине как покрышка, лишенный всего – желаний, жизни, ничтожного прошлого. Даже возможности сгореть жирным пламенем. По жидкому холоду, вдруг заколебавшемуся во мне на уровне сосков, я понял, что на этом месте происходили и еще не раз произойдут великие преступления. Что самым первым злоумышленником был и остаюсь я, так как не наказан. Как в античные времена.
В дальнем углу сумеречной халупы, куда мы все-таки вошли, засветив пыльную больную лампу, свисающую со стропил, я побоялся признать сваленные грудой мои детские пожитки. Армейский вещмешок. Заваливающиеся набок высокие отцовские сапоги. Может быть, хотя бы оттиски их подошв. Но я даже мельком не взглянул в угол. Ведь если бы я что-то там углядел, то это зрелище своей сокровенностью настолько бы изнурило меня, обессмыслив предстоящее, что я, наверное, тут же бы умер.
Но мелкий мусор на широких половицах хранил только следы жестокой метлы. Он словно был расчесан.
Жена сказала мне что-то. Я не расслышал. То ли: «идиот ведь ты», то ли: «от света уйди». То и другое годилось.
Я уже что-то почуял, почти не слушая длиннот гигиенического экскурса раздраженной изнемогшей женщины,[24]24
Жижа раздражения надвигалась на меня из ее уплотнившегося тела, как слизь из потревоженной улитки.
[Закрыть] что я, дескать, никудышно «подмылся» (я ненавидел этот народный бабий глагол) и, судя по всему, сильно пропотел, да и, наверно, по-песьи пропах за идиотскую непостижимую для ее нормального ума дорогу. Она с каким-то новым глухим удовольствием именовала свойства моего озверевшего и, наверное, действительно запахшего тела. Будто на мне, безволосом, шевелится и щетинится жуткая шерсть, будто я при ней покрываюсь чешуею. И я пережил отчетливое чувство, что через мой пах протягивают жгутом перекрученную пеленку, сотканную из засмердевших слов. Жена шумно втянула ноздрями жирный запах человечины, сутуло протопавший от меня к ней.
Она полусонно выругалась в окно на проносящиеся фуры. Они хлестали по худым стенам ластами света, взбаламучивая холодный воздух, нагло раздвигая кисею полной низкой луны.
– С утра – назад, – скомандовала она самой себе, расправляя спальные мешки.
– Ничего, поместишься, – она кинула в меня липкий глагол, но я ей не возражал. Наречием «ничего» она поименовала меня.
– И значит так, – она, если мне так уж этого хочется, согласна на одно, а на другое, что мне всегда подозрительно потребно от нее в полнолуние особенно (она догадывалась всегда, да-да всегда о моей вурдалачьей породе), не согласна в этом чертовом месте, где все слышно, где щели, мусор, разбитое окно и проносятся большегрузные фуры с каким-то говном. Я понял, что неистовый свист фургонов, насквозь пробивающий все сквозящее жилище, подхлестывает ее чувственность, но она не хочет в этом волнении сознаться. Чтобы перекричать прибой звуков она изъяснялась чрезмерно настойчиво.
На сквозняке, приспустив джинсы, оседлав ее тяжкое тулово в спальнике, примерно в одну из таких фур, подталкиваемый в ягодицы валящимися лучами света, я и кончил. От резкого света фар зад мой должен был стать фосфоресцирующим.
И исступленная фура, выхватив наперсток скупого семени, ревмя ревя, унесла его к чертовой матери – из меня самого, из этого убогого становища кочевников, подальше от тихого ноя как-то влажно запыхавшейся жены.
Она ничего не проглотила.
Она будто сумела вообще не прикоснуться ко мне.
Моя мошонка обмякала на ее подбородке.
Семя стекло из ее рта как из трупа.
Подумав это, я обтер ее мягкую щеку обшлагом. Она не отвернулась. В спальнике лежала мумия моего прошлого.
Только детский высокий звук, испущенный ею, напомнил мне доплеровский эффект из школьного фильма по физике – мимо глуховатого наблюдателя проносится в левый угол экрана тяжелый как судьба поезд. Наблюдатель, отшатываясь, обмирает.
___________________________
Самым серым в мире утром, стоя перед полувылезшей из кокона спальника чужой женщиной, сглотнув надежду, я тревожно спросил ее, будто увидел впервые. Ровность спальника нарушалась только зашевелившимися ступнями. Увидел ее как плохую девочку на нехорошем заднем дворе. Будто она наигралась в одинокую неподобающую тайную игру.
– А тебе трусики не трут в паху?
Она, не изменив позы червеца, не обретя еще рук и ног, взглянула на меня не отрываясь, будто на ее глазах я, тоже став насекомым, сжевал самый важный лист дорожной карты, будто она поняла суть моего взора, вошла в меня по его тусклому умаляющему лучу. Словно по шелковине.
Я почуял как сузились мои глаза, как я увидел ими все в черно-белом варианте. Как я ощутил то, что увидал и объял скупым бессмысленным даром моей жизни, за который надо теперь платить бесконечно долго, все время возобновляя муку расплаты, разматываясь на нити.
Я смог увидеть только серую копию серого барельефа – скучный бошардон. Все сцены были погребальными и плоскими.
На фоне серого разбитого окна мне почему-то захотелось признаться ей в чем-то, что мучило меня всю мою жизнь. Тысячекратно попросить прощение за это самое что-то. Но для обозначения этого «чего-то» я не находил слов. Только тихо сказал, когда застегнул последнюю пуговицу куртки:
– Ты знаешь, я ведь хочу заплакать.
Это мое «ведь», полное безнадежного доверия, люто завело ее. Она вмиг вскочила с лежбища. Она отбросила спальник. Она мгновенно прошла все стадии насекомого. Она пригнулась в высокий борзый старт, словно должна бежать эстафету, она набрала полные легкие, будто долгие годы готовила эту неправдоподобную тираду, тщательно выбирая слова из сокровищницы, полной невероятных ругательств и унижений:
– Лучше пассссы, вот гад ведь, тогда не захочется. На слезы желтой жижи не хватит.
Это было бесчеловечно и это так привлекло меня. Во мне забил теплый фонтанчик, – глубоко внутри обмочился несуществующий прелестный малыш – я сам в миллион раз меньше себя, стоящего пред ней.
В ругательстве мне послышался неумолимый ритм народной пляски, и на меня двинулась толпа самодеятельных плясунов, топоча подметками и хлопая в ладоши. Я переживал восторг и омерзение одномоментно. Последнюю сладость, приступом овладевающую мной.
Я одиноко надвинулся на нее, на всю толпу, я задел ее прекрасную высокую грудь под тонким джерси, я положил руки на ее мягкие округлые плечи, которые так мне всегда нравились. Она одним неуловимым движением стряхнула мои ладони. Словно эполеты мизерной награды, унизившей победителя.
В тот миг, ломая ритм пляса, до меня дошла смутная мысль, но очень важная. Как императив вины, понимая который скрипят зубами или мычат. Я ведь никогда не говорил с ней, вернее не спрашивал ее, а только слушал, внимал ей особым безразличным, как крупная мережа, слухом, ничего из ее бессмысленных слов и сообщений не удерживавшим. Мне только помнится как они серебрились и плескались во мне, когда она убалтывала меня, – такая обычная полудетская глупость. От ее свойств ведь ничего не уцелело. «Почему? Почему? Почему?» – проносилось во мне. На этот вопрос отвечать было поздно. Опоздание предстало мне со всей очевидностью. Она ведь никогда не попадала в мой сердечный фокус. Она, эта женщина, в ответ вопиюще меня не понимала, находясь не на дальнем конце моего взора, а около – скользя и не задевая. Вроде особенной дисциплины, которую мне никогда не осилить со всем тщанием и подобострастием, оттого что ею мне не предстоит пользоваться в грядущем. Я смотрел не в ее мрачные глаза, а в покрасневшую со сна и чуть помятую кожу переносья. Я считал еще не появившиеся складки морщинок.
В мое подполье она не заглядывала, и вход туда был закрыт, ведь я никогда не приоткрывал свой люк. В одно мгновенье мне почудилось, что своими плечами я приподымаю груз чугунины, тяжкой как время, прожитое с нею. Я будто двинулся с этой тяжестью в ее сторону, может, меня зашатало.
Мне почудилось: ее тело в метре от моего, звук ее голоса, доходящий до меня как сквозь слой воды, со дна застойной бочки – единственные обстоятельства моего шаткого существования здесь, единственная подмога, чтобы все не исчезло.
И я посмел просить и умолять ее, такую прекрасную и завершенную в этот миг, позлащенную брезгливостью. Она была изумительно ровна, даже рот ее не кривился. Вся сложность, вся многослойная необъясняемая логика наших отношений исчезала.
Она предстала мне статуей, так как моя работа завершилась.
Мой голос сгустился до плотности ткани, которой можно было вытереть что угодно – пот, словно бронзовый высол на ее влажном высоком лбу, стереть крупную родинку на шее под мягким подбородком, где тикает жилка, промокнуть пролитую прямо под ее ступни кровь тщедушного жертвенного животного:
– Ты не можешь сейчас же здесь ударить меня, ну уколоть, порезать?! Вот, этой… Этой булавкой. Да?… – Взмолился я.
Я мгновенно расшатал и вытащил ржавую булавку, воткнутую в оконную раму. Со стороны мне привиделось, что я торжественно протягивал ей ее. Как подношение. Острое? Тупое? Неважно.
Я почти захрипел, я зашелся:
– Послушай! Я потерял точку отсчета! Всего один укол. Один! Только! Не можешь… Хотя бы удар… Ударь! Ну!!! Куда хочешь!!!
Она отшатнулась, будто испугалась поветрия страшной заразы, идущей от меня. Я видел все – ее, крепкую, непричесанную, крашенную. Я увидел ее в профиль как на чернофигурной вазе со всей очевидностью – столь необъяснимо важной для меня. В хлюпающем развале декораций всей моей невыносимой жизни. Как в пьесе. Увидел с ужасно высокой точки, откуда-то с притолоки, будто в детстве залез на шкаф.
Прошло и чавкнуло время. Жидкое, как кисель.
Она захлебываясь затарахтела, как перегретый движок комбайна в чистом поле, как грейдер во дворе. Я вдруг возлюбил разнузданные механизмы. Я отчужденно увидел, как ее всю колотило:
– Ишььь! Ищщщи ее без меня. Свою точку! Опору?! Опереться?! А, захотел опереться значит? Наконец-то! Ах ты…
Она сразу перепачкала все буквы моего чувствительного алфавита, составляющего мою робость. И мне уже не из чего было сложить ни жалобу ни мольбу.
Она, наконец, что-то поняла, но совсем не то, что было во мне. Просто поняла. Хотя бы – как уже далеко я зашел. В прямом смысле.
Она одевалась для долгой дороги, закутывалась в теплое, она насыщалась смыслом. Из нее полетели слова, как голые зерна после обмолота:
– А ударят тебя, зараза, упором в суде и будут бить еще три года. До самой точки. Понял? Пока я буду раздумывать, как мне порезать нажитое, ублюдок.
Я молчал, стоя против нее. Между нами было шага три. Я почувствовал, что токи только что сновавшие между нами превращаются в тонкие пересохшие резинки, не могущие мне предать ничего. Совершенно. Ну разве что щелчок.[25]25
Я начал тихо, но очень глубоко дышать, даже нос мой стал мерзнуть изнутри, как от кокаина. В этом состоянии, близком к экстазу, я начинал слышать несуществующие запахи. Первым выступал из сумерек дух холода, будто скалывают лед. Запахи, естественные и измышленные, наступали на меня как ансамбль плясунов – с топотом каблуков и шорохом юбок, с хлопками сухих ладоней. В конце концов химический «Шипр» хлестал меня по лицу еловыми лапами. Будто я заваливался в глубину припадка. Я силился cдержаться.
[Закрыть]
Прошел длинный високосный год, и я спокойно и, кажется, безразлично сказал, подведя осмысленный и неумолимый итог, будто надул шарик к демонстрации
– … Но ведь тебе было неплохо со мной?
Она опешила.
Я надул еще один, поменьше, жалкого бледного цвета:
– Все эти годы.
Но она опять заработала, как от умелого толчка в точную точку. Она, стоя совершенно недвижимо, чтобы я смог насладиться ее телесной завершенностью, она как будто замахала руками и затрясла головой в такт ругательствам. И мне не позабыть тяжелого разлитого между нами чувства невоплощенного жеста. Это было особенным зримым парадоксом. Ее слова так отличались от общей мимической сдержанности, вдруг спеленавшей ее. Она говорила только ртом. Но я не сдерживал ее в объятиях. Она говорила как механизм, не вздыхая:
– Да таких мудаков как ты до самого Пекина раком не переставить, – на меня низверглась чья-то цитата.
Остановить ее было невозможно. Мне показалось, что я проваливаюсь куда-то. Очень глубоко.
___________________________
Она всегда умудрялась говорить, не показывая зубов. И слова вылетали из нее словно облизанные, мягко выброшенные губами. Зеленые, розовые, коричневые обсосанные леденцы, никогда не вызывающие обиды. Может я ее не слышал.
Я понял, что все другие истории моей жизни с нею, если они случатся, слетятся к этой сцене, будто шустрые дробинки, и легко попадут в маленькое углубление того осеннего дня. По желобкам. В центре будет стоять она – неподатливая, но живая, неизмышленная.









































