Текст книги "Литературные воспоминания"
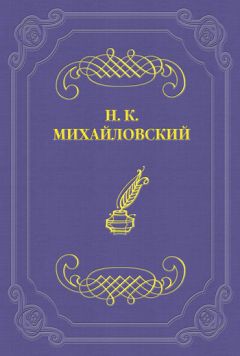
Автор книги: Николай Михайловский
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
II
«Гласный суд», «Современное обозрение», «Отечественные записки». – Некрасов. – Роман «Борьба» и статья «Что такое прогресс?» – Салтыков, Елисеев, Успенский. – Некрасов как человек.
Продолжаю вспоминать.
Я был молод, здоров, силен, одинок, а известно, что одна голова не бедна, а и бедна, так одна. И все-таки туго приходилось летом 1867 года, – туго и от невольного, вынужденного безделья, когда только что попробовал сладкого яда литературной работы, туго и прямо от материальных лишений. Для воспроизведения нашей «богемской» жизни на Черной речке нужно бы перо Мюрже{62}. Уже кое-что из мебели Н. С. Курочкина пошло на растопку плиты… Уже не раз кухарка на вопрос: «В долг, что ли, в лавочке-то взять?» – получала веселый ответ: «Да, да, в долг, Долг прежде всего». Уже не раз веселое богемское житье, при котором, восстав от сна, не знаешь, будешь ли сегодня сыт или нет, становилось в тягость. В особенности Курочкину, который был и старше, и избалованнее, и требовательнее меня. И вот в один прекрасный день явился вестник избавления. Это был П. А. Гайдебуров, нынешний редактор-издатель «Недели». Он приехал приглашать Курочкина в ежедневную «судебно-политическую» газету «Гласный суд», издателем и ответственным редактором которой был некто Артоболевский. По профессии Артоболевский был не литератор, а стенограф, и притом человек малообразованный. «Гласный суд» он предпринял в 1866 году, я полагаю, просто с спекулятивными целями, в расчете на заголовок: новый суд был тогда действительно новинкой. Сверх того Артоболевский издавал «Самоучитель стенографии», выходивший еженедельно. Первый год газета, то есть подписка на нее, шла, кажется, бойко, но уже на следующий год выяснилось, что на одной спекуляции в литературном деле далеко не уедешь. Как и когда попал в «Гласный суд» г. Гайдебуров, я не знаю. Знаю только, что летом 1867 года он приехал к Курочкину с просьбою о сотрудничестве. Курочкин взял на себя отдел иностранной политики и рекомендовал г. Гайдебурову меня для критического отдела и, помнится, Демерта для внутренних известий{63}. В этом последнем я не уверен. Домовитый, хозяйственный Демерт не выдержал нашего слишком уже цыганского житья и летом же 1867 года уехал в провинцию на службу или искать службы. Но я не помню, уехал ли он до или после неудачной пробы с «Гласным судом». Если после, то, по всей вероятности, и он участвовал в этой «судебно-политической» газете, в сущности, впрочем, издававшейся по обыкновенной программе ежедневных газет. Но зато я хорошо помню себя и Курочкина за работой в «Гласном суде». Курочкин по своим обязанностям заведующего отделом иностранной политики должен был ездить в город, в редакцию, каждый день, я же лишь время от времени. Помню, как мы, окончив дела в редакции, отправлялись с спокойствием людей вполне обеспеченных трапезовать в греческую кухмистерскую «Афина», на углу Троицкого переулка и Невского. Не знаю, существуют ли подобные благодетельные учреждения теперь. В «Афине» можно было копеек за тридцать наесться разной дряни до хорошего расстройства желудка, а истративши рубль, сам Лукулл остался бы много доволен, особенно если бы знал, как знали благодаря «Гласному суду» мы, что и завтра, и послезавтра расстройство желудка вполне обеспечено. Не житье, а масленица. Однако и этой масленице пришел конец, и наступил настоящий великий пост. Дела Артоболевского шли все на убыль. Однажды он предложил нам сбавку гонорара, причем выдал нам какие-то расчетные или памятные книжки, по которым впоследствии, когда дела поправятся, мы могли дополучить свой заработок. Но дела не поправлялись и, как очень скоро с очевидностью выяснилось, не могут поправиться. Прекратился ли за истощением средств издателя «Гласный суд» или мы не дождались этого конца, не помню. Произошла трогательная сцена расставания, причем Артоболевский в благодарность за сотрудничество предложил нам подарок – «Самоучитель стенографии». Он великодушно отдавал это еженедельное издание в наше полное распоряжение. Подписчиков у «Самоучителя» было, правда, очень мало, но Артоболевский указал нам другую выгоду: так как значительная часть «Самоучителя» печаталась не обыкновенным шрифтом, а стенографическими знаками, то под прикрытием их мы могли бы совершенно свободно излагать свои мысли – цензура ничего не поймет. Это была блестящая мысль, достойная стенографического гения Артоболевского, но при осуществлении ее предстояло то маленькое неудобство, что и читатель ничего не поймет. Эта маленькая тучка на открывавшемся пред нами широком горизонте заставила нас отказаться от подарка.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На этот раз, однако, дело делалось почти так же скоро, как идет мой рассказ. Если мне не изменяет память, то двумя фельетонами и одною передовою статьею исчерпывается мое сотрудничество в «Гласном суде»{64}.
Приближалась и приблизилась осень, впереди была зима, а зимой бывает ужасно холодно в летнем пальто. Тут подошли и еще некоторые обстоятельства, и я решил уехать из Петербурга к родным в деревню{65}. Несмотря на все невзгоды, у меня ни разу даже не мелькнула мысль изменить литературе для какой-нибудь другой деятельности. Очевидно, я был в этом отношении уже конченый человек. В самом водовороте цыганской жизни мне удалось все-таки работать, приготовляясь к исполнению обширных литературных планов. В деревню я повез с собою таковых два.
Еще под влиянием Ножина и отчасти под его руководством я заинтересовался вопросом о границах биологии и социологии и возможностью их сближения. Ножин был мало сведущ в общественных науках, но в области биологии он, наверное, очень быстро занял бы одно из самых видных мест, если бы его не подкосила ранняя смерть. Он много работал самостоятельно, между прочим, над историей развития низших морских животных, и одна такая специальная работа – результат его личных наблюдений на берегу Средиземного моря, – напечатанная в бюллетенях нашей Академии наук, обратила на себя внимание и в Европе. Но узкая специальность не удовлетворяла его, он рвался вдаль и вширь. Он был ярый дарвинист в биологии и столь же ярый противник дарвинизма в социологии. Дарвина он называл «гениальным буржуа-натуралистом». Не могу достаточно высоко оценить пользу, доставленную мне общением с кругом идей Ножина, но в них было все-таки много смутного, частью потому, что они в самом Ножине еще только развивались, частью по малому его знакомству с областью обществознания. Я получил от Ножина собственно только толчок в известном направлении, но толчок сильный, решительный и благотворный. Не помышляя о специальных занятиях биологией, я, однако, много читал по указанию Ножина и как бы по его завещанию. Эта новая струя чтения бросала своеобразный и чрезвычайно меня занимавший отблеск на тот значительный, хотя и беспорядочный, а частью и просто негодный материал, фактический и идейный, которым я запасся раньше. Постепенно, сначала в очень смутных очертаниях, скорее угадываемых, чем сознаваемых, складывался план обширной социологической работы. Появившиеся в 1866 году по-русски первые тома сочинений Спенсера придали несколько более определенные контуры одной части этого смутного плана – теории прогресса. Резкая противоположность идей и приемов Спенсера всему тому, до чего я мысленно не то что доработался, а дорабатывался, уяснила мне многое. Однако и эта часть общего плана была еще далеко не ясна, когда я уезжал в 1867 году из Петербурга. Тем более что в то же самое время меня преследовал еще другой литературный план – роман. Из этого романа, никогда не конченного, я впоследствии, в 1876–1877 годах, выбрал значительную часть материала для полубеллетристических-полупублицистических очерков «Вперемежку». Перепечатывая эти очерки в IV томе своих сочинений[8]8
Первого издания. – Примеч. Н. К. Михайловского.
[Закрыть] рядом со статьей «Что такое прогресс?», я писал в предисловии: «Несмотря на то, что обе эти вещи писаны в разное время, несмотря, далее, на разницу формы, читатель, надеюсь, усмотрит их внутреннее единство и, следовательно, оправдает такое на первый взгляд странное соседство»{66}. С тех пор я имел случай убедиться, что внутреннее единство обеих половин IV тома не так уж ясно для многих читателей, как я предполагал. Но для меня-то оно тем яснее, что хотя обе эти половины писались в разное время, но обдумывались и зарождались как раз одновременно. Убедившись в слабости своего художественного дарования, я бросил роман (хотя позже, в восьмидесятых годах, меня опять потянуло к беллетристике{67}), но в 1867 году он меня очень занимал. Он настолько подвинулся вперед, что, вернувшись 1868 году в Петербург, я уже мог подумывать о том, куда бы его пристроить.
В 1868 году в петербургской журналистике после полуторагодового затишья наступило значительное оживление. Некрасов взял в аренду «Отечественные записки» и совершенно их преобразил. Книгопродавец и книгоиздатель Тиблен{68} открыл новый ежемесячный журнал «Современное обозрение»{69}. Появилась «Неделя», издававшаяся Генкелем{70} и редактировавшаяся П. Ф. Конради. Н. С. Курочкин, приглашенный Некрасовым для заведования библиографическим отделом в «Отечественных записках», усиленно тянул меня в этот журнал, но я упорно отказывался. Громкое, дорогое нам, тогдашней, да, надеюсь, и теперешней молодежи имя Некрасова очень потускнело со времени закрытия «Современника». Надо заметить, что уже в 1864 году «Современник» стал терять свой престиж, равного которому дотоле не было во всей истории русской журналистики. Нечего и говорить о нас, тогдашней молодежи, – мы упивались «Современником». Но и гораздо более солидные и значительные сферы испытывали на себе его обаяние. Есть два рода, два характера литературной деятельности. Одни писатели думают влиять непосредственно на ход государственной жизни в ее механике сегодняшнего дня. Другие рассчитывают влиять лишь на общественное мнение, воспитывать в обществе известное настроение, известные идеалы, подлежащие практическому осуществлению, может быть, завтра, а может быть, через много лет. Нет принципиальных оснований для разлучения этих двух видов литературной деятельности, но жизнь то разлучает их, то дозволяет им сливаться в одно течение. В Европе, где представители общественного мнения могут быть вместе с тем и официальными руководителями практической жизни, упомянутое различие двух видов литературной деятельности весьма слабо. Оно определяется, может быть, исключительно личными вкусами и темпераментами самих писателей. Один более склонен к разработке общих идеалов, озаряющих жизнь в ее целом и отражающихся на умственном и нравственном настроении всей массы общества; другой, напротив, по своему темпераменту, привычкам, воспитанию предпочитает оказывать непосредственное давление на людей, стоящих у власти. Но ничто, кроме личных склонностей, не мешает им в любой момент поменяться ролями или совместить их в одном лице. У нас дело происходит несколько иначе. Белинский, например, имевший огромное влияние на общество и воспитавший не одно поколение, не был даже и последнею спицей в официальной колеснице русской жизни. Блестящим и едва ли повторимым, по крайней мере в ближайшем будущем, образчиком литературной деятельности противоположного характера может служить Катков{71}. Однако и у нас в некоторые приподнятые моменты жизни возможно до известной степени сочетание обоих характеров деятельности (я говорю о характере, а не о направлении деятельности). Таково именно было положение «Современника». Это, впрочем, мимоходом. Для нас, молодых читателей и почитателей, уже смерть Добролюбова и удаление Чернышевского{72} произвели непоправимый изъян в физиономии «Современника». А рядом с этими тяжкими потерями в составе «Современника» поднималось значение «Русского слова», в особенности Писарева. И когда «Современник» устами М. А. Антоновича завел длинную и грубую полемику с «Русским словом»{73}, престиж «Современника» и еще поблек. Русский читатель любит присутствовать при полемических схватках, но есть пределы и содержания, и формы полемики, перейдя за которые даже такой даровитый писатель, как г. Антонович, может лишь уронить свое дело. Так и случилось. Охлаждение к «Современнику» вообще осложнилось еще слухами о неблаговидном поведении Некрасова в трудное время 1866 года{74}, – слухами, вызвавшими известное послание «неизвестного друга», озаглавленное «Не может быть»{75}:
Мне говорят твой чудный голос – ложь,
Прельщаешь ты притворною слезою,
И словом лишь толпу к добру влечешь,
А сам, как змей, смеешься над толпою
И т. д.
Известную степень справедливости дурных слухов всенародно признал несколько позже сам Некрасов в своем ответе «неизвестному другу»{76}:
Не торговал я лирой, но, бывало.
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука
И далее:
Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!
И бросить хоть единый луч сознанья
На путь, которым Бог тебя ведет;
Но, жизнь любя, к ее минутным благам
Прикованный привычкой и средой,
Я к цели шел колеблющимся шагом,
Я для нее не жертвовал собой
Враги, которых всегда много у всякого видного литературного деятеля, ликовали, друзья и сторонники отшатнулись или сконфузились. Мне, горячему почитателю поэта, самому случалось слышать злорадные возгласы: «Ну, что ваш Некрасов? Хорош?!» Нехорош, конечно, но как-то горько и обидно было признать это… Оскорбление, нанесенное моей юной душе Некрасовым, было слишком велико, и немудрено, что я упирался идти в «Отечественные записки». Тогда в литературных кружках много говорили, между прочим, и о противоестественности союза Некрасова с Краевским{77}, который тянул в старых «Отечественных записках» совсем неподходящую ноту. Но это меня не смущало. Я знал от Н. С. Курочкина, что никакого союза тут нет, а есть простая денежная сделка, в силу которой Краевский отдавал на известный срок и за известную ежегодную плату свой журнал Некрасову, обязуясь не вмешиваться в литературную сторону дела. Дела «Отечественных записок» при Краевском шли все хуже и хуже. Ни борьба г. Страхова с «Западом» и с «нигилистами», ни другие перлы не спасали журнал от очевидного падения. И даже после 1866 года Краевский не мог бы повторить фразу Скалозуба: «Довольно счастлив я в товарищах своих, – те, смотришь, умерли, другие перебиты». Прекращение «Современника» и «Русского слова», благодаря которому сильно очистилось поле конкуренции, не улучшило дел «Отечественных записок». Пришел Некрасов и предложил Краевскому выгодные условия. Краевский, человек, собственно говоря, совершенно чуждый литературе, хотя и наживший на ней каменные палаты, согласился отдать свой журнал представителям враждебного ему направления (если позволительно говорить о направлении Краевского). Эта сделка бросает тень уж, конечно, не на Некрасова, хотя враги Некрасова пробовали эксплуатировать и этот факт. Меня он, повторяю, не смущал. Но смущала сама личность Некрасова, которого я когда-то так горячо, хотя и заочно любил, которым зачитывался до слез. Напрасно добрейший Н. С. Курочкин соблазнял меня перспективой возрождения «Современника»; напрасно указывал, что если в новых «Отечественных записках» не будет таких сотрудников «Современника», как гг. Антонович и Жуковский, то будут Салтыков и Елисеев, имена которых достаточно гарантируют направление журнала; напрасно объяснял поведение Некрасова в 1866 году исключительностью обстоятельств. Самым тяжелым для меня был тот аргумент ad hominem[9]9
по человеку (латин.).
[Закрыть], который наконец пустил в ход Курочкин. Он спрашивал: если он, Курочкин, старый, опытный, никогда себе не изменявший писатель, находит возможным работать у Некрасова, то неужели же мне, писателю начинающему и еще ничем себя не заявившему, это постыдно? И неужели я, хорошо его знающий, имею к нему так мало доверия? Я мог бы на это, конечно, многое возразить, но не возразил ничего. Курочкин был моим литературным крестным отцом, он приютил и кормил меня в трудное время, никогда ничем не давая мне почувствовать, что делает одолжение. Но и помимо этих личных отношений я, несмотря на все его слабости и смешные стороны, искренно уважал его как человека. Естественно, что у меня не повертывался язык возражать на его argumenrum ad hominem. Мы порешили на том, что я попробую работать в отделе библиографии, которым он заведует, а что будет дальше – посмотрим.
Оставались еще «Современное обозрение» и «Неделя». После некоторых колебаний, навеянных одной нелепою фразой в объявлениях об издании «Современного обозрения», я отправился весной того же 1868 года в редакцию этого журнала с первою частью своего романа (он назывался «Борьба»), и со статьей публицистического характера «Письма о русской интеллигенции».
Всегдашняя моя беда как писателя состояла и доселе состоит в том, что я никогда не мог оградить свой сюжет от вторжений текущей жизни с ее пестрым шумом сегодняшнего дня. Я не уверен, впрочем, что это действительно беда, потому что если это обстоятельство мешало цельности и сосредоточенности работы, то взамен придавало ей, может быть, известную жизненность. Может быть, далее, это совсем не моя личная особенность, а общая, воспитанная обстоятельствами времени и места черта всей той литературной среды, в которой окончательно сложилась моя литературная физиономия. По крайней мере в «Отечественных записках» семидесятых годов подобрались все люди, в писаниях которых всегда громко билась беспокойная жилка публициста, то есть более или менее страстного докладчика по делам сегодняшнего дня. Не говоря об Елисееве или Демерте, которых обязанность именно и состояла в освещении текущих событий, черта эта отразилась и в Некрасове, и в особенности в Салтыкове и Г. И. Успенском. Что касается меня лично, то когда г. Слонимский озаглавил одну из своих, направленных против меня статей «Мнимая социология»{78}, он обнаружил лишь свое незнакомство с делом, о котором взялся говорить. Но если бы он написал «Публицистическая социология», то каково бы ни было содержание этой статьи, а заглавие было бы и довольно правдиво и с известной точки зрения достаточно обидно. Я бы, впрочем, не обиделся: еже писах – писах{79}. Когда чисто теоретическая статья, уже изрезанная разными публицистическими отступлениями, все-таки не вмещала в себя всего, что меня оскорбляло или радовало в текущей жизни, я начинал рядом с ней другие статьи, уже прямо публицистические, и часто не доводил своего теоретического плана до конца. Так было еще и в те времена, когда я отправился в редакцию «Современного обозрения». В голове у меня был план статьи о прогрессе, на бумаге – первая часть романа, но в то же время непреодолимо хотелось говорить о сегодняшнем дне. Принесенные мною в «Современное обозрение» «Письма о русской интеллигенции»{80}(боюсь, что не совсем точно помню заглавие) должны были служить началом целой серии статей и печататься ежемесячно.
Редактор-издатель «Современного обозрения» Тиблен, отставной кавалерийский офицер, немножко чересчур развязный, но человек образованный, издавший перед тем несколько хороших переводных книг, между прочим, первые томы сочинений Спенсера, принял меня очень любезно и стал вдвое любезнее, когда прочитал мои рукописи. Надо заметить, что «Современное обозрение» началось при участии некоторых бывших сотрудников «Современника»: гг. Пыпина и Жуковского, отделившихся от Некрасова, Салтыкова и Елисеева. Но гг. Пыпин и Жуковский участвовали лишь в редижировании программы и первого нумера журнала. Во всяком случае, к тому времени, когда я пришел в «Современное обозрение», Тиблен хозяйничал там один. Он решил начать печатать «Письма» с июня, а роман с июля – с тем, чтобы к августу я приготовил вторую часть. Вышла июньская книжка, печаталась июльская. Я продолжал писать роман и «Письма». Однажды Тиблен вручил мне чистый оттиск моего романа и пригласил к себе на дачу, где-то на Неве, и довольно далеко. Мы поехали на пароходе. День был солнечный, тихий, Нева такая ласковая, нос парохода так красиво и сильно резал синюю воду, и на душе у меня соловьи пели. Немудрено: в кармане моего пальто лежал сброшюрованный печатный оттиск, на первой странице которого красовались слова: «Борьба. Роман. Часть первая». Кончены все мытарства! Я у пристани! Как только кончу роман, примусь за статью о прогрессе, а «Письма» пойдут своим чередом, а из-за статьи о прогрессе уже виднеются неясные контуры других работ…
Одно меня немножко смущало. Статья о прогрессе складывалась в форме критического разбора первого тома сочинений Спенсера, причем мне пришлось бы очень мало в чем согласиться со Спенсером и очень много в чем решительно не согласиться. А между тем, Тиблен был не только издателем русского перевода Спенсера, но частью и переводчиком и вдобавок горячим поклонником. В 1866 году, когда Тиблен задумал издание сочинений Спенсера в семи томах (это издание не было кончено), знаменитый ныне английский мыслитель был весьма мало известен на Европейском континенте, – не существовало ни французского, ни немецкого перевода ни одного из его сочинений. Тиблен, так сказать, опередил Европу. Да и сам Тиблен, издавая для пробы опыт Спенсера о «Классификации наук», считал, как видно из предисловия, Спенсера «недавно умершим». Между тем, в том же предисловии находим следующее пророчество: «Спенсер займет, вероятно, в современной рациональной философии такое же место, какое заняли Бокль в философии истории и Дарвин в философии естествознания»{81}. Вот это глубокое уважение Тиблена к Спенсеру и смущало меня: я боялся, что он не допустит в своем журнале отрицательного отношения ко многим основным мыслям излюбленного им английского писателя. Но и эта черная точка на моем веселом горизонте была все-таки не очень страшна ввиду некоторых своеобразных взглядов Тиблена на права и обязанности редактора журнала. Он рассказывал мне однажды, как поступил со статьей, которую в общем не одобрял и автор которой доставил ее без своей подписи. Тиблен ему сказал: «Нет, батюшка, я не могу вам позволить трепать восемнадцать веков философии от имени редакции; выставляйте свое имя под статьей, иначе не напечатаю». При чем тут восемнадцать веков философии, я уж не помню, но этот прецедент давал мне надежду, что и статья о Спенсере пройдет.
Мы провели на даче Тиблена весь вечер вместе, благодушно и весело беседуя. Я и ночевать у него остался. Прощаясь со мной на другой день, Тиблен просил меня торопиться с работой к августу, спрашивал, не нужно ли мне денег вперед и т. п. Никоим образом не мог я думать, что вижу его в последний раз и что через какую-нибудь неделю все мои розовые мечты о конце мытарств и надежной пристани и проч. рассыплются прахом. Зайдя через неделю в редакцию «Современного обозрения», я услышал die traunge Mahr[10]10
печальную весть (нем.).
[Закрыть], что Тиблен бежал от долгов за границу и бросил журнал на произвол судьбы… Бедному малому, как я потом слышал, очень плохо приходилось за границей. Да простятся же ему мои разбитые мечты!
Так и не увидало свет произведение, на первой странице которого значилось: «Борьба. Роман. Часть первая», – июльская книжка «Современного обозрения» не вышла. Впоследствии я был очень рад гибели «Борьбы», в достоинствах которой очень сомневаюсь. Готов был не только простить, даже благодарить Тиблена за сюрприз. Но тогда этот сюрприз просто ошеломил меня. Опять скитальчество! Курочкин возобновил свои настояния, да и сам я уже с некоторою завистью поглядывал на книжки «Отечественных записок»{82}, завоевывавших все больше и больше симпатий в обществе, да и во мне самом. Однако мысль еще все упрямилась. Отделавшись опять от Курочкина обещанием писать в его библиографическом отделе, я попробовал работать в «Неделе», но там что-то очень скоро не поладилось, не помню уже почему{83}. Кажется, меня задело за живое какое-то замечание П. Ф. Конради, который очень мало понимал в деле литературы и, будучи практическим врачом по профессии, попал в редакторы случайно, просто по знакомству с издателем Генкелем. Пошел я к Курочкину сдаваться. Я мог предложить «Отечественным запискам» остатки от крушения «Современного обозрения»: «Борьбу» и статью о Кельсиеве, первоначально написанную в виде одного из «Писем о русской интеллигенции». Курочкин обещал поговорить с Некрасовым, но с своей стороны, как личное свое мнение, выразил, что писать романы совсем не мое дело. Мне показалось, что он в этот раз был со мной холоднее обыкновенного. Может быть, мне это именно только показалось, потому что собственная моя совесть могла подсказывать Курочкину укорительную мысль: «Что?! брыкался, брыкался, да и сдался?!»
Мне помнится, что этот день моей сдачи был и днем моей первой встречи с Гл. И. Успенским. Я уходил от Курочкина. На лестнице, этажом ниже, стоял у дверей молодой человек с неправильным, но чрезвычайно оригинальным лицом, на котором внимание не могло не остановиться. К удивлению моему, молодой человек обратился ко мне с вопросом: «Вы Михайловский?» – «Да». – «Я Успенский. Зайдемте ко мне, я вот тут живу». Оказалось, что мы стоим как раз у дверей квартиры Успенского. Он меня знал понаслышке от Курочкина и от других, я его знал как автора «Нравов Растеряевой улицы» в «Современнике» и рассказов «Будка» и «Остановка», только что напечатанных в 1868 году в «Отечественных записках». По понятным причинам, мне не придется распространяться в своих воспоминаниях о Гл. И. Успенском{84}. Но именно поэтому мне и хочется помянуть наше первое знакомство. Он был тогда холост и жил вполне необыкновенно. Квартира его состояла из одной комнаты и кухни. В кухне, которая, разумеется, никогда не исполняла своего специального назначения, он устроил себе спальню, а комната изображала собою кабинет, салон, приемную и все прочее. Прислуги не было. Разная хозяйственная утварь если и была, то в весьма незначительном количестве. Зато была половая щетка, и, когда нужен был самовар или что-нибудь в этом роде, Глеб Иванович стучал этою щеткою в потолок. Это был условный знак, по которому из квартиры Курочкина являлась его кухарка, хорошо известная многим писателям, ворчливая, но добродушная, иконописного вида старуха Аксинья Васильевна. Кухня-спальня отоплялась плитой, а в салоне было какое-то особое отопление, без топки изнутри комнаты и требовавшее аккуратного открывания и закрывания каких-то душников или заслонок. А так как хозяин не отличался аккуратностью, то в салоне было очень сыро и скверно. Это не мешало хозяину блистать заразительным весельем и неподражаемым мастерством рассказов…
Не знаю, что говорил обо мне Курочкин Некрасову, но, должно быть, что-нибудь очень лестное. Сужу по тому, что мою «Борьбу» не просто взяли для прочтения, а предложили мне прочитать ее самому в присутствии всей редакции. Так обыкновенно не делается, и я был сконфужен. Конфуз мой достиг высшего предела, когда я в назначенный день и час приехал вместе с Курочкиным в редакцию «Отечественных записок» и увидал там Некрасова, Салтыкова, Елисеева и, помнится, еще многих. Как будто и А. М. Скабичевский тут был{85}, и красивое, точно точеное, но, как маска, мертвенное лицо Слепцова помнится. Но в этом я не уверен. Внешнею обходительностью редакция «Отечественных записок» никогда не отличалась, даже в тех случаях, когда по существу была вполне доброжелательна. В данном же случае смущение мое было тем сильнее, что, когда мы уселись за большой стол, покрытый зеленым сукном, возле меня оказался Салтыков и стал смотреть в тетрадь, по которой я читал, своими якобы суровыми, слегка выпученными глазами, время от времени покряхтывая громким басом: э-гм! Как близки и понятны стали мне потом эти якобы суровые глаза и как они меня смущали тогда! Между прочим, дойдя до одной главы, я почему-то вдруг тут же сообразил, что она неудачна и требует таких-то и таких-то переделок. Я хотел ее пропустить, и это было тем удобнее, что она была вводная. Я уже перевернул две-три страницы, ища следующей главы, но Салтыков меня остановил: «Что же вы пропускаете?» – «Да тут переделать надо». – «Нет, уж читайте все подряд!»
Чтение кончилось. Прочитал я только первую часть, так как из остального были лишь наброски и я даже не захватил их с собой. Наступило молчание. Прервал ею Салтыков сердитым басом: «Надо кончать! А то что же так-то, без хвоста!» Некрасов сказал то же самое, но гораздо любезнее. Елисеев сидел молча, насупившись, поглаживая правою рукой левый ус и, по-видимому, совсем о моей «Борьбе» не думая. Курочкин отвел Некрасова в сторону и что-то пошептал ему, после чего Некрасов подошел ко мне с вопросом, не нужно ли мне денег. Деньги были очень нужны, но я сконфузился и отказался. Выходя вместе со мной из редакции, Курочкин меня очень бранил за этот отказ, а о романе выразился так: «Бойко написано, бойко прочитано, впечатление получилось недурное, а в сущности, бросьте-ка вы этот роман: право, не ваше дело!» Я и сам в эту именно минуту почувствовал, что надо бросить и что это не мое дело{86}. Несколько позже, нуждаясь в беллетристическом материале, Некрасов напомнил мне о романе, но я ответил, что решительно не могу его кончить, не пишется{87}. Он просил меня по крайней мере выделить из «Борьбы» один эпизод – он указывал, какой именно, – и обработать его в рассказ, но я и этого не мог сделать, будучи увлечен совсем другими работами.
Несмотря на все предыдущие мытарства, несмотря на только что пережитую беду с «Современным обозрением» и неудачную пробу с «Неделей», несмотря, наконец, на то, что я в самый вечер торжественного чтения «Борьбы» решил, что кончать ее не буду, – мне именно в этот же вечер стало ясно, что я действительно у пристани. Конечно, великое дело молодость, легко оправляющаяся от погромов и легко окрыляемая надеждой. Но на этот раз дело было, я полагаю, не в одной молодости. Я в первый раз подошел к вершинам русской литературы, настоящим, несомненным, общепризнанным. Бурная жизнь Некрасова создала ему много недоброжелателей. Литературная и в особенности редакторская его деятельность тоже много этому способствовала. Но как бы далеко ни шло в некоторых сферах отрицание не только личных достоинств Некрасова, а и достоинств его поэзии, перст истории уже давно отметил его как достояние даже отдаленного будущего, а в настоящем вся грамотная Россия зачитывалась его стихами. Салтыков также давно занимал положение первого в своем роде человека. Елисеев был неизвестен в большой публике, но в литературных кружках его ценили очень высоко, а мы, тогдашняя молодежь, не зная его лично, хорошо знали его «Внутренние обозрения» в «Современнике». А из-за этих трех выглядывали еще образы Добролюбова, Чернышевского, Белинского, как бы передавших им свой авторитет. Далее, все трое независимо от своих собственно литературных талантов были опытные и горячо преданные своему делу журналисты, убежденные в возвышенности задач журналистики. Немудрено, что от этих людей и от руководимого ими дела веяло спокойною, сознающею себя силой. Примыкая к ним, вы чувствовали, что вступаете на какую-то, хорошую или худую, это как кто посмотрит, но, во всяком случае, прочную, смею сказать, историческую дорогу. Эта дорога, с одной стороны, уходила в даль прошедшего, где была пробита не одним поколением тружеников и страстотерпцев мысли, а с другой – расстилалась в перспективу будущего. Велики и ярки были таланты Салтыкова и Некрасова, крупную литературную силу представлял собою и Елисеев, но их личные силы удваивались тем историческим путем, на котором они стояли. Отнюдь не связанные преданием в том смысле, чтобы не сметь сделать ни единого шага за свой собственный страх и счет, они, кроме силы личного убеждения, еще в своих связях с прошлым черпали уверенность в правоте своего дела. Чем глубже коренится идея в прошлом, тем спокойнее выносит она всякие бури и невзгоды, все равно как дерево с глубоко сидящими корнями. Спокойная, уверенная в себе сила чувствовалась во всем обиходе редакции «Отечественных записок» и давала себя знать при первом, даже самом поверхностном сближении с нею. Я разумею, конечно, не спокойствие личных характеров. Изо всех трех ровно спокоен был только Елисеев. Некрасов был скорее замкнут и скрытен, чем спокоен, и я расскажу ниже случай, когда он был совсем выбит из седла. А Салтыков был весь нервы и постоянное волнение. Но все эти индивидуальные особенности ничем не отражались на общем литературном деле, которое стояло не на темпераментах и характерах, а на убеждениях. Эти-то убеждения, прочные сами по себе, еще упрочивались сознанием преемственной связи с рядом предшествовавших работников.









































