Текст книги "Духов день (сборник)"
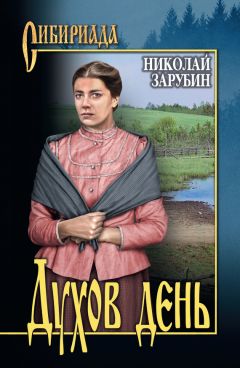
Автор книги: Николай Зарубин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Между тем пронёсся слух в народе, будто скоро надобно ожидать ещё большей воды, и стали люди строить плоты, так как полагали, постройки их, на которых спасались, другого напора не выдержат.
Но вода так и не пришла. Фёкла же между тем родила девочку, и нарекли её Августой.
Вода принесла семье Юрченкиных и прежнюю бедность. Снова поехали, на этот раз в Иркутскую область, где и остановились в деревне Заусаево.
Колхоз небогатый, но всё ж землица под окошком, а на ней и картошка, и морковочка, и зелень какая-никакая произрастает. В лесу за огородами – грибы, ягоды, трава луговая для скотинки. Ещё речка Курзанка, а в ней – рыбёшка неказистая, а где рыба, там и люди. Селясь у речки, старые люди смекали по-своему разумно, соображая: не родит землица, так рыбка пойдет в дело – не пропадут.
Работы же в колхозе – видимо-невидимо. Только поворачивайся.
Тут и Катерина пошла робить: поначалу свинаркой, а затем и дояркой на скотном дворе. В войну – страшную, проклятую – трактористкой.
А почему та война страшная и проклятая, так это потому, что взят был приглянувшийся ей паренек, с которым обменивались взглядами на вечёрках, да так и не сказали друг дружке потаённого, что в сердечках их зародилось. Взяли на войну и – убили.
Тошно стало девоньке от того известия, да не одна она подпала под каток войны – всем её сверстницам было тошно, потому как гибли их женихи тысячами на той страшной и проклятой бойне, и почти каждую ожидало впереди мыканье горемычное – вовсе ли без мужа, с мужем ли, но нелюбым и постылым.
Её подружка разлюбезная – Иришка Салимонова – так та никогда и не вышла замуж, а она вот, Катерина, пошла за калеку, но о том будет сказ ниже.
В смутную, тяжёлую весну сорок третьего года пахали они своим звеном из трёх тракторов землицу под посевы. И случилось так, что в чьей-то взбалмошной начальственной голове родился план – поднять болотную залежь. Очень кому-то хотелось, видно, выслужиться, и на Никитаевскую МТС пришла разнарядка. Начальник отряжает трёх трактористок, в числе коих и Катерина. Прибыли на место на своих газгенераторах, попробовали пахать землицу, но плуги увязают, машины натужно гудят – и ни с места. Попробовали взять мельче, но получается одно ковыряние. Бросили такую работёнку: сидят, ждут с моря погоды.
Наехало начальство с проверкой, ругалося – и саботажники они, мол, и вредители. И осудили их звено в полном составе, дали срок заключения по четыре месяца на каждого. А там и вагон вонючий, и колючая проволока лагеря, что находился под самым Иркутском.
Два месяца мантулила Катерина бок о бок с такими же, как и она, угодившими за колючую проволоку за пустяковину, – лопатила землю, таскала на себе брёвна, кирпичи. И надо же было выпасть случаю: делал обход лагеря начальник его, Александр Борисович, как выяснилось, с целью подыскать себе в дом работницу взамен освободившейся, и выбор его пал на Катерину Юрченкину.
Привели к нему в дом за пределы лагеря и оставили. Тут уж и вздохнула она свободной грудью, переделывая работёнку домработницкую с песнями, будто играючи: ходила за скотиной, полола грядки на огороде, мыла, скоблила, стирала, гладила, вытирала сопли единственному отпрыску хозяев, которого обучал игре на скрипке мужчина, тоже из заключенных, но на долгий срок, бывший музыкант откуда-то с запада. Отъелась, нагуляла бока, обрядилась в платьишко новенькое, сшитое на руках из переданного ей хозяевами отреза ситечного.
И минули те два месяца, как один день. И надо было возвращаться в деревню.
Вернулась, и в первый же день побежали за ней местные сорванцы, обзывая каторжанкой.
Тошно стало девахе и так восхотелось бежать из деревеньки сломя голову куда глаза глядят. Ведь хоть и в заключении побывала, да увидела-познала иную жизнь, в которой и война не война, и не надо думать о том, что в рот положить, да и чужие люди к тебе с добром.
Уж опосля, засыпая, часто грезила о том, как бы вырваться из Заусаева, поехать-полететь в незнаемые дальние края – не видеть и не ведать этой деревенской безнадёги.
На работу пошла прежнюю – и потекли денёчки тягучие, как смола, и такие же прилипчивые то одной прорехой, то другой дырой.
И закончилась та страшная и проклятая война. И возвернулись в деревеньку три калеки с фигой в придачу. А таким, как Катерина, уж по двадцать пять годков от роду и всё «в девушках». И тоска гремучая, безнадёга неминучая.
Тогда-то и объявился в Заусаево племянник Настасьин, Костя Маленький. Поспрашивал местных, пронырял по деревне, заявился на вечёрку. Приглядывался, принюхивался, задевал словами, производя впечатление человека ловкого и приживчивого.
Приступился и к ней.
– Я, слышал, Катериной тебя зовут?
– Так вроде звали до сих пор, а тебе чё надобно? – недобро глянула в глаза непрошеному гостю.
– Да вот… – мялся, представившийся Костей. – Купец у меня есть в сродственниках, но без хозяйки в дому…
– И чё он сам-то с тобой не приехал?
– Да есть одна закавыка в ём…
– Стеснительный шибко аль калека какой? – спросила в упор.
– Не стеснительный и не калека: при ногах и при руках, не горбатый, не кривой…
– Ну, дак чё ж тогда?
– Глухонемой он, Катя. От рождения глухонемой. Но ладный из себя, при деле, избёнка у него с матерью имеется. Пошла бы за него, бросила бы к чертям собачьим свой колхоз и жизнь эту каторжную, а?..
– Нет уж, – поднялась Катерина с лавки. – По мне лучше уж калека, чем немтырь.
– Да ты подумай, девка, сейчас мужика днём с огнём не сыщешь, а я днями подъеду уже с ним… – крикнул во след.
Запечалилась-закручинилась девка, сама не понимая отчего. Да и какая девка в двадцать пять лет? Перестарок, почти вековуха. Девки-то до годов осьмнадцати, и те уж торопятся, абы суженого не проглядеть. Хороводятся и хорохорятся, в окошки, где парни живут, посматривают. Ворожбу затевают на Святки, да так заиграются, что обо всём на свете забудут. Смехом звонким, надрывным заливаются. Каждая боится припоздниться с этим вопросом, к каковскому, видно, на свете всё сводится.
И она, Катерина, хороводилась – все известные на деревне гадания на жениха испробовала. Считала попарно принесённые с морозу поленья, бросала катанок за ворота, зажигала моченую в проруби лучину. И то выходило – замуж идти, то выпадала какая-нибудь нелепость. Скажем, катанок ложился носком в сторону какой-нибудь избёнки, в коей проживали старик со старухой. Иль моченая в проруби лучина и вовсе не хотела зажигаться, а надо, чтобы зажглась и потухла вперёд других, какие в руках у сбившихся девонек. Тогда и замуж идти. Что до поленьев, тут считай не считай, всё одно толку никакого: на дню-то охапок шесть надобно принести, и то попарно сойдутся, то хоть лоб разбей о печь – одному пары не будет.
Но на балалайке тренькать не переставала, песнями изводилась, томилась и маялась, как и её подруженьки-сверстницы. На парней посматривала, примечая, что и как. Взгляды ловила ответные, обмирала и опадала чувствами. Ни в чём не бывала плоше других-то – в работе, в песнях, в гулянках. Но не сложилось у Катерины чего-то: то ли бедность беспросветная тому виной, то ли работа от зари до зари, то ли норов казала, да парни обегали со страху перед незнаемым, – кто ж поймёт.
А ей нравился один. Любовалась она им на сходах молоди. И ничего вроде не было в нём особенного, но млело сердечко, мечталось и думалось об нём же. Даже было – раза два провожал до дому. На лавочке сидели. И она ему глянулась – видела то Катерина, чуяла тем местом в девке, коему нет названия ни на каковском языке.
Робкий был парнишка, несмелый с девками. Не лапистый и не горластый. Она потом сколь ни пыталась, сколь ни силилась, не могла даже припомнить, об чём спрашивал, да и спрашивал ли? Затянулось, будто паутиной столетней, заросло мшистым покровом, закрылось наглухо створками ставень то заветное, единственное, несказанное.
Взяли его в первые дни войны, и в первый же год пришла похоронка, мол, пал смертью храбрых под Москвой.
– Мама, – оборотилась к Фёкле Катерина, когда уже посуду убрали со стола и помыли. – Был сёдни тут один из городу, сговаривал за немтыря, сродственника своего, идти замуж.
– Чё это ещё за немтырь? – отозвалась Фекла.
– Не калека, говорит, и не голь перекатная. Работник хороший и домик есть, где он с матерью-старухой проживат. Хозяйка, мол, ему нужна….
– А, девка, смотри, как сама знаешь. Сидеть тебе с нами уж дальше некуда – замуж давно пора. Смотри, а я тебе не советчица.
Походила по избе, добавила:
– Насоветую чего неладное, потом будешь меня клянуть до конца дней своих…
И приехали. Взошёл в дом один Костя, позвал на улицу вроде как на смотрины и для знакомства.
– Да у меня и одеть-то нечего, – сорвалось с языка Катерины. – Пусть уж сам в дом входит, поглядит сам, какую богачку хочет сговорить в жёны.
– Вижу, что не богачи, да и кто нонече-то богат? – настаивал сводник. – Но послушай, чё скажу: иди себе на вечёрку, и мы там будем, вот и поглядишь на брата моего сродного Капитона. Да лучше гляди, а завтра мы опять заявимся и уже в дом к вам пожалуем.
Приволоклась ни живая ни мёртвая к месту схода деревенских, уселась одеревеневшая на лавочку, оглядывая украдкой собравшихся, и чуть ли не прямо перед собой, шагах в пяти, увидела Костю, а с ним того самого, что прочили ей в мужья. И ведь готовилась к худшему, а тут мужик как мужик: в хорошем полушубке, в доброй шапке и валенках, с завернутыми голяшками. Улыбается, смотрит осмысленно и твёрдо.
«Разыгрывают меня, чё ли? – ворохнулось в голове. – Где ж немтырь-то?»
Огляделась вкруг себя снова и никого более не нашла из чужаков – только эти и есть.
Разглядывала уже в открытую, не стесняясь, теша любопытство женское.
Лицо чистое, приятное. И фигура в полушубке проглядывается ладная. Держится свободно, уверенно, будто бывать на вечёрках – дело для него и знаемое, и привычное.
И тот её разглядывает. Улыбается во весь рот.
Сколь так-то продолжалось – нельзя сказать. Но вот Костя вроде что-то махнул руками Капитону и тот кивнул головой. Глянул в сторону Капитон-то и будто бы чуть поклонился ей, вроде как прощался. И она, Катерина, кивнула в ответ, чувствуя притом, как заливается лицо краской. Повернулись и пошли мужики к привязанной поодаль лошади.
Ночь эту Катерине уснуть не привелось. Лежала, подложив под затылок ладошки, думала, вспоминала, грезила. Вся жизнь её пробежала перед глазами – от детства, которого у девки не было, до дней сегодняшних. И сколь ни пыталась, сколь ни выдавливала из себя такого, об чём подумалось и пожалелось бы как о невозвратно потерянном и потому дорогом и желанном сердцу, ничего не могла найти. Всё у неё было и в бедности беспросветной, и в работе ломовой.
«Да разве ж для этого на свет-то рождаются? – думалось горестно. – Да что это за судьбина моя горькая такая?» – жалела самоё себя.
А под утро наплакалась вдосталь и решила твёрдо: «Пойду за немтыря. Брошу этот колхоз треклятый, а там, может, и от немтыря сбегу…»
С тем и подалась на работу.
Вечером явились Костя с Капитоном. Прошли в избу, поклонились. Капитон прошёл к столу и положил на него отрез яркой с цветами материи. Обернулся к Катерине.
– Это, Катя, тебе на платье от моего брата. Шей и носи на здоровье, – сказал за Капитона Костя.
Прошёл к столу и сам, вынув из кармана полушубка пол-литра водки. Поставил, поклонился Фёкле, произнёс:
– Вы, уважаемая, не обессудьте мужиков: без чинов мы и к вашей семье со всем нашим уважением. Хотим вот сосватать дочку вашу Катерину за молодца Капитона Семёновича. Он хоть и не без изъяну, но и работник отменный, и специалист лучший у себя на производстве, и хозяин в дому хоть куда, и мужик справный. За им Катерина не пропадёт. И на её мы поглядели, и хорошо знаем, какая она у вас и работница, и любящая родителей дочь. И красавица писанная: приоденется, приобщается, будет на загляденье и на зависть всем.
Капитон и в самом деле оказался мужиком хоть куда. Очень скоро молодая убедилась, что руки его ко всякой работе приспособлены: табуретку ли изладить, шкаф ли посудный, щеколду какую на ворота, ведерко жестяное, заплот поставить ли, стайчонку ли срубить.
Въедливость его в работе порой раздражала Катерину: семь раз отмерит, прежде чем отрежет. А ты стой рядом, смотри и жди, когда надо будет поддержать чего-нибудь, подсобить там, где одному несподручно. Ну, уж после, когда дело сделано, в радость – обнова в доме ли, во дворе ли, в стайке ли. На многие года излажено и добротно подогнано, чисто отфуговано, красиво и со вкусом сработано.
С настроением и желанием суетился мужик – это видела молодая женщина, не слепая ведь она и не бесчувственная. И стала прикипать она душой к этой чужой для неё ещё недавно семье, а со свекровью Настасьей Степановной сошлась сразу же, как, почитай, в дом вошла.
– Ты, Катерина, поспи лишку, – скажет иной раз Настасья. – Не спеши вставать, намаялась, чай, за неделю-то на работе своей, да в дому работёнки – только поспевай. А я, старая, и скотинку обихожу, и завтрак сготовлю, и деток досмотрю. Отдохни…
Или так-то:
– Ты, Катерина, примай Капку таким, каков есть, и ему ведь несладко таковским-то жить. А ежели с добром, дак горы свернёт Капка-то. Немчура он, канешна, все навыворот понимат, всё с другого какого боку. Ти-ир-пи-и-и, милая. Чё уж тут боле…
Терпеть приходилось непомерную ревность мужика. Идут, скажем, улицей к кому в гости, ты – рядом ступай, да не приведи господи на мужика какого встречного глянуть – пыль до неба подымется: засверкает глазищами, замахает ручищами, того гляди кулаков испробуешь.
Или, скажем, чуть припозднилась на работе, а он уж и прибег к воротам нефтебазовым и затаился где неприметно, ожидая, когда покажешься и с кем покажешься рядышком.
Всю эту науку познавала не разом и не в один день. Через ругань домашнюю, через замахи и выкрики мужиковы. А с годами Капитон осваивал слов всё больше и больше, выделяя из них самые жалкие и потому до слёз обидные, ею, Катериной, незаслуженные. Обучился и подзаборным матюгам.
– Врёщ-щь! – кричал. – Обманываешь! – напирал, делая ударение по-своему на предпоследний слог. – Разговариваешь! Хочешь делать!
Страшно становилось от того крика и угроз. И что там говорить: выскакивала в окошко, в чём была. Пряталась в картошке. Ночевала у соседей.
Отходил от припадков.
Отыскивала её свекровь, уговаривала, и снова переступала она порог избы. И продолжалась жизнь дале – до припадка следующего.
Свой угол
Давно обжилась и обнюхалась стайка. Прясла выгона, скрипучая калитка, ясли, в коих не убывало корма, – вся жизнь Майкина здесь. Стоит себе, поглядывая немигающими глазами вперёд себя, перекатывая в голове жернова своих коровьих дум.
Приходит к ней бабка Настасья, прибегает невестка её, Катерина, заглядывают подраставшие детки хозяев: бросают сенца, ласкают за шею, заглядывают в глаза, что-то лопочут на своем ребячьем языке.
Время от времени ворочает лопатой и молчаливый хозяин – долго, старательно, после него не остаётся ни свежего, ни застаревшего навоза – вычищает после лопаты под метлу, и это Майке нравится. От него, от хозяина, зависят и корма, хотя хозяйка ни в чём не уступает хозяину: косит, гребёт, подгребает и подбирает за Капитоном, а уж он укладывает заготовленное в копны, в зароды, доставляя всё это добро на усадьбу, и тут же укладывает самолично. Это ему Майка обязана тем, что сено никогда не отдаёт прелостью, сберегая в себе до самой весны все запахи, свойственные жаркому месяцу июлю.
В какое-то время хозяйка стала забегать к ней реже, хозяин и вовсе позабыл про корову. Работу Катеринину переделывала бабка Настасья, работу Капитонову – подросшие ребятишки, каковых в семье было уже четверо.
Дело же оказалось в простом: хозяева строили собственный дом. Дело хлопотное, нелёгкое и не всякому посильное. Но её, Майкина, семья могла это себе позволить, к тому же под строительство государство давало ссуды, и семья взяла в рассрочку семь дореформенных тысчонок.
Поехали в лес и навалили сосен на сруб. Привезли и ошкурили, перекатав в штабель, чтобы проветрились и обсохли. В мае месяце собрались друзья хозяина, сродные братья и принялись за сруб. Сам Капитон трудился над брёвнами, доводя до требуемой чистоты и гладкости каждую лесину. Другие подымали те лесины, вырубали паз и углы и укладывали на заготовленный ещё зимой длинный болотный мох, который выпиливали из вечной мерзлоты ножовками, а затем подрубали топорами, и получались кубы неправильной формы. Работёнка, понятно, тяжёлая, зато мох, на славу, укладистей и теплее любой пакли.
Где-то к августу сруб уже стоял, выпирая в небеса стропилами, но не было дранья на крышу. Договариваться насчет дранья в деревню Кокучей ездила Катерина. Она вообще и ходила, и ездила всюду, где требовался язык и слух, и чего, понятно, не мог проделать Капитон по причине отсутствия оных.
В Кокучее драньём промышлял некий старик, имя которого давно забылось – с ним-то и сговаривалась Катерина.
К осени сруб стоял под крышей – над ней колдовал муж старшей сестры Капитона – Лёня Мурашов, вернувшийся с войны с покалеченной ногой.
До крыши настелили потолки, и всю зиму до первых весенних денечков на стройке обитал или один Капитон, или вместе с хозяйкой своей Катериной: подгонял, подконопачивал, подпиливал, подстругивал, подбивал, подстукивал. В общем, работа находилась на каждый день, а вот дней этих недоставало.
Помимо всего, в местной столярке выстругивались и вырубались косяки, изготавливались рамы, двери, плинтуса, опанелка и обналичка.
Готовились доски на полы. Пилился штакетник, строгались доски на заплоты, на навес, на прочие нужды. Зимой же заготовлен был лес на стаечный сруб, а сама стайка рубилась всё в том же мае – это уже для Майки, её телков, для поросят и курей.
– Сами измотались и меня, старую, измучили, – ворчала иной раз бабка Настасья. – Прибегут с работы, как ошалелые, и на стройку: хлещутся тамако, хлещутся, а возвернутся к часам десяти-одиннадцати вечера, похватают-похватают еды какой – и падают замертво на постель.
Но более всего, сокровеннее всего выговаривалась, сидя с подойником меж коленок, под Майкой.
– Ишь, – бормотала Настасья, – строить вздумали. Хорошо-то как, ведь угол свой иметь – это душе радость, да ещё какая. Хлещутся оглашенные, бьются, как рыба об лёд, на стройке и мне, старухе, радость. Може, и Капка одумается маленько, не станет цепляться к жене с ревностью. Заживут своим домишком ладненько, и мне будет где косточки сложить.
Майка ворочала ушами, вздыхала шумно, пыталась оглянуться на старуху, отчего слегка сдвигалась со своего места.
– Стой, тебе говорят! – одергивала её Настасья. – И чё с тобой, окаянной, поделалось, не стала стоять на месте…
И грозила:
– Я вот тя понужну счас чем ни попадя!
Майка успокаивалась, а Настасья далее наговаривала во след за своими старческими думами:
– Сливочек сёдни выгоню свеженьких, блинчиков напеку к обеду. Вечером тесто поставлю на печечку, поутру завтрева попекушек настряпаю, пряничков… Ребятишки небось с родителями пойдут на стройку прибираться. Щепок небось да стружек всяких – вороха немеряные. Ну а я уж в дому управляться. Мне не впервой с хозяйством. Явятся уставшие, вспотевшие, а у меня в чугунке – картошечка с мясцом упаренная, молочко в криночке, прикрытой блюдечком. Хлебец нарезанный под полотенчиком. Огуречек малосольненький. Славно покушают, работнички, да меня похвалят, старуху. Ох-хо-хо-хо-хо-о-о…
И суетилась Настасья, силёнки ещё были в бабке. В воскресный день, если позволяли переделанные и не переделанные дела домашние, торопилась в Никольскую церковь – помолиться за души умерших сродственников. За настоящий день, чтобы всё в нём складывалось как надобно. За день завтрашний, чтобы был, как у людей, с прибытком и приростом.
В церкви отдыхала душой и телом, не замечая времени. Высоко вздымались голоса певчих, ещё выше летела её душа к тому, кто был выше всех.
В этой церкви она и венчалась со своим унтер-квартирмейстером. Здесь крестили старшего, Зиновия, а за ним – ещё шестерых. Только жить осталась тройня: Петька, Клашка да Капка.
Умилялось сердечко Настасьи, глаза оглядывали старинные образа. За всех молилась – за близких, за недругов, за вовсе незнамый люд сторонний. Хотя как тут скажешь – сторонний… Вот когда лежали они с Петькой в тифу, сторонние-то и спасали. Ходили за ними, прикладывали на головы холодные тряпочки, кормили с ложечки, пичкали лекарствами. А своя-то невестушка, братки Гани жёнушка, коровёнку-то и умыкнула. Пошла утром в стайку – нет коровёнки. Обегала все местечки окрест, нет родимой. И как тут жить? Голод был повсеместный, убогость и шатание в людях. Детишек нечем кормить, с себя последнее сымали, чтобы только выжить. Тогда-то и снесла на базар медаль золотую, что от мужа осталась: на самое необходимое потратила – на пропитание и отрез материи, чтобы было из чего мальчонке штаны изладить, а Клашке – юбку какую – о себе-то и не думала. А медаль ту Семёну Петровичу дали за свершённый подвиг на войне с японцами в Порт-Артуре, вроде как спас от смерти какого-то высокого начальника.
Жалко было расставаться, да делать нечего – спасаться надобно было, себя и деток спасать.
Спустя какое-то время подсказали соседи, что, мол, в ельнике шкура и голова коровы лежат. Пошла посмотреть – и точно, выпотрошили, злодеи, Белянку-то. Пала тогда Настасья животом на землю, обхватила руками ту шкурёнку и пролежала безгласная, не помня себя, может, час, может, и два. Лежит и чует – кто-то дёргает её за подол юбки. Повернула голову, глянула из-под руки, а то Капка дёргает. И встала на ноженьки-то, а они дрожат, будто под кулями ходила. Прижала к коленкам Богом обиженного мальчонку, и стояли они так-то неведомо сколь времени.
И дальше стали жить. Без коровёнки-то собственной пришлось в батрачки наниматься – на чужих людей косить, чтобы перепала какая кринка молочка.
Вовсе тяжко пришлось Настасье. Скотинка для неё – всё одно что живой человек, с коим и поговорить можно, и время убить за работой, и с пользой силы употребить, ведь недаром говаривают – у коровы молоко на языке. Уход, кормёжка и словечко ласковое – в том вся мудрость и заключается.
Ведь чем бывает человек зависим от другого человека? Хлебом насущным бывает зависим. Вкалывает на чужой полосе – вот и зависим, потому как вырабатывает себе на кормёжку. Вкалывает где-нибудь на «железке» – и тут зависим, потому как получает казённую зарплату, которая опять же пускается на пропитание. Свободным человек бывает только при собственном продукте, потому в жизни этой всему голова – живот. А с полным животом можно и на печи лежать, да в потолок поплёвывать, можно куда поехать, можно и ворога какого ломить.
Не-ет, для Настасьи скотина во дворе – почище сторожевой башни с пушками, ведь ежели от чего и ограждаться человеку, так это от праздности. А трудящемуся человеку нечего опасаться. Он всё пересилит, от всякой напасти спасётся и других подле себя спасёт.
Правда, кроме всего прочего, есть ещё злые люди, которые плохо спят, ежели кому-то сегодня какую пакость не сделали. Ничего не пропустят мимо себя, всё узрят и всему учинят свой суд.
После того как схлынула гражданская междоусобная бойня, в которой одни горлопанили, другие шли стенка на стенку, а третьи под шумок перебивались разбоем, крестьянину пришло некоторое послабление, и многие добрые хозяева возвернулись к земле. Много было поднято и восстановлено пашни, а по деревням в пору утреннюю, росную побрели неспешно, пощёлкивая бичиками, пастухи – стала, значит, разводиться во дворах и скотинка.
Но в каждой деревне наряду с хозяевами, кои хотели жить своим трудом, было двое-трое таковских, что не оставили мысли о сладком житье-бытье за счёт других. Таким при новой власти оказались открыты все двери. Засели в сельсоветах, комитетах, перерядились в активистов и атеистов. И то коммуну какую-нибудь организуют, то ещё чего. Проедят-пропьют обобществлённое, не ими нажитое добро и снова думают думу: «Как, где и чего прибрать к рукам?»
Когда пошли колхозы, то тут уж и вовсе осатанели. Лучших хозяев повыдернули из деревень да угнали неведомо куда. А те, что поплоше достатком, поневоле оказались в колхозниках.
Ларион Белов недолго ходил в председателях – не угодил чегой-то новой власти. На его место прислали из Тулуна вовсе пришлого с чужой стороны человека. Этот по деревне ходил в брюках-галифе, кожаной тужурке, с наганом на боку. Называл себя «полномоченным». Тут же пояснял:
– Я полномоченный партии. Гнил в царских тюрьмах, проливал кровь, борясь с врагами трудового народа, теперь вот веду вас всех в новую жись, где не будет хозяев-богатеев, а где будет советская власть плюс еликтрификация всей страны.
Последние слова про «еликтрификацию» произносил с особым нажимом и значением. И каждый, кто посмекалистей, понимал – ради этих слов «полномоченный», которого деревенские зубоскалы живо переиначили в «подмоченного», и затевал свои речи. Очень уж, видно, хотелось тем самым то ли унизить деревенского неуча, то ли подчеркнуть собственную роль положенца.
Пошла к уполномоченному с делом – корова поднялась, к быку обобществлённому надо бы. Глянул, не поворачивая головы, эдак с боку, буркнул себе под нос:
– Тебе самой ишшо быка надобно…
– Ах ты, такой-сякой! – налетела на него вихрем. – Быка мне надобно, говоришь? Я вот тебя счас…
В руках откуда-то взялись вилы, и, ежели б не сбёг, то запорола бы на смерть.
Дня через два деревенские комсомольцы собирают собрание, и Петька там же. Встаёт секретарь Гришка Татарников и говорит:
– Повестка нашего собрания одна – об утере комсомольского билета Петром Зарубиным.
– Как это об утере? – вскочил со своего места Петька. – Я свой билет не терял – с чего это вы взяли? Счас принесу.
Кинулся домой, где в сундуке, на самом его низу, с другими документами, хранился комсомольский билет. А там его и нетути!
Долго шарил Петька в сундуке, все тряпки перетряс, но билета так и не нашёл.
Получалось, кто-то из посторонних побывал в избёнке, из посторонних, но не чужих. Лишь через несколько лет выяснилось, что билет, по наущению председателя Гаврилова, выкрала та же Ольга с пьяными дружками. Она же зачала травить обобществлённых коров, а указали на попавшего в опалу Петьку – будто это он подсыпал чегой-то в корм. Спасти от тюрьмы могло только бегство из колхоза. Бежать пришлось, оставив и домишко, и скотину во дворе, всему немногочисленному семейству. И пошли мыкаться по чужим углам уже в Тулуне. Она-то в Тулуне, а сыну Петьке пришлось выехать и вовсе куда подальше. Хорошо хоть картошку подмогли люди добрые вызволить из деревни, не то и вовсе ложись помирай. Картошка и спасла от голода: ею рассчитывалась за постой у чужих людей.
Потому у Настасьи и к картошке особое отношение. Когда чистить садится, повторяет про себя слышимое в родительском доме: «Матушка-картошечка, нет тебе поста…»
Любит Настасья ту пору летнюю, когда картошка в земельке наливается сладостью через обращённую к свету крепкую, кустистую ботву. Чаще, чем когда-либо, ходит она тогда в огород, подолгу стоит, прислонившись к пряслам коровьего загона. Оглядывает простор огородний слезливыми глазами – глаза-то у неё видят худо, и тому тоже есть причина.
В самый разгар войны потчевала как-то внучек своих, деток Клашкиных. А чем можно было потчевать, кроме картошки?
Пришёл Капка на обед – ему поставила на стол приготовленное. Откушал, сел на порог покурить. Долго чего-то сидел, а ей, старой, привиделось, будто на работу с обеда опаздывает. Возьми и ткни пальцем в сторону ходиков, что висели на обеленной заборке, мол, времени уж много, пора на работу шагать…
А немчура чего-то озлился, подскочил к матери, подвёл грубо к самым ходикам и тычет, мол, гляди, старая, сколь времени ещё, он и сам знает, когда ему на работу придёт пора отправляться. Настырно так тычет. Хотела она сбросить руку его с плеча, и надо же было неловко ворохнуться, что растопыренные пальцы свободной Капкиной руки угодили ей прямо в оба глаза.
Одному-то маленько досталось, так как, видно, палец был согнутый, другой почти что выколол.
Долгонько потом мучилась, никакие примочки не помогали, и потеряла зрение, считай, наполовину. Один глядит вроде ничего, другой – муть одна.
С Настасьей в огород тащатся и дитёнки Капитоновы. Колька – тот ещё сорванец растёт. Зайдёт в картошку, станет на четвереньки и спрячется. И вот зовёт его бабка, вот надрывается.
– Здесь я, баба, – откликнется мальчонка, показав голову из-за ботвы.
Она к нему, а он снова нырнёт в ботву и отползёт в сторону.
– Тута я! – опять кричит.
Покудова не наиграется со старухой, не выползет из картошки.
Или с соседским парнишкой раздерутся, а она ходи их унимай. Много в те годы рожали ребятни бабы.
Будто горох, высыпят из барачных клетей – головы светлые, потемней и вовсе тёмные. По головам только и разберёшь, где свои. Залетит в дом, кусок хлеба схватит, только его и видели. Рта не успеешь открыть, мол, поешь, внучек, приготовлено ведь…
Хлопотно с ними, но в радость. Болезни бы не привязывались.
Бабка Настасья то и дело крестится, вздыхает, что-то припоминает, о чём-то печалится. Вспоминает…
В пору, когда только что купленная корова Майка стала в силу входить, – заболел старшенький. Болезни посыпались, будто кто куль развязал с болезнями-то. Одна, другая, третья, а мальчонка уж в былинку превратился. Обескровился личиком, истончился ручками и ножками. День и ночь: кхы да кхы, кхы да кхы…
Пришёл фельдшер Ян поутру, глянул и даже укол не поставил. Покосился в сторону сидевших к столу спиной Катерине и Настасье, пробормотал, будто про себя:
– Если до обеда доживёт, то хорошо…
Повернулся к двери и вышел.
Поднялись мать с бабкой, молча придвинулись к сундуку, откуда вынули чистую простынку, длинную белую рубашонку мальчонкину.
Настасья принесла в тазике тёпленькой водицы. Отёрли тельце влажной тряпочкой, обрядили, положили дитё всё на тот же сундук, который стоял в избе как раз под образом Святителя Иннокентия, вернулись на прежнее место к столу.
Сколь так-то сидели, дожидаясь мальчонкиной смерти, – никто не знает, только вдруг и говорит свекровь невестке:
– Слышь, Катерина, чего я подумала? А не сбегать ли тебе в «Заготзерно» к бабке Варваре?.. Может, она чё поладит?..
Без слов выскочила Катерина на улицу и всю-то дороженьку летела, земли не касаясь. До этого «Заготзерно» – километра с три будет. Влетела в Варварину избушку и чуть ли на колени не пала перед старухой – выручай, мол, баушка…
Та чего-то прихватила с собой, и пошли они теперь уже длинной дороженькой, ведь Варвара не смогла бы угнаться за молодой отчаявшейся матерью.









































