Текст книги "Духов день (сборник)"
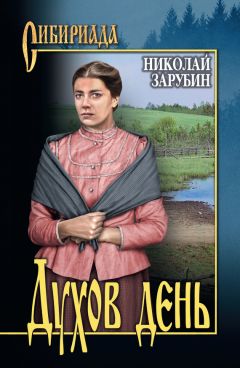
Автор книги: Николай Зарубин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Настасья и Устин
В первый день Рождества пришёл братка Ганя. Поставил кринку молока на стол, потрепал за волосы Петьку, сунул в руку Клашке леденец. Словом да лаской выпроводил на улицу.
– Чё не разболакашься-то? – спросила из кути.
– На минутку я, Настасьюшка, – гости должно наедут.
– Кто же?
– С Заводу кум с кумой.
– Чё там Ольга не управится? Посиди уж, я счас стопку поднесу в честь праздничка.
Гаврила засопел, начал раздеваться. Она тем временем давай на стол собирать. Из курятника достала четверть самогона почитай годичной давности. Налила в ковшик, чтобы четверть не ставить.
Села напротив. Налила брату, себе.
Гаврила выпил, по-хорошему крякнул, вытер усы.
– Крепка, зараза, – потянулся за огурцом, – у тебя только такая, нигде боле.
– Не подговаривайся, братец, вижу – с новостями пришёл…
– Не спрашивай, сестрица, дай закусить мужику, окосею – баба ухватом с избы понужнёт.
– Ну, так что ж, тебе не впервой косеть.
– Ладно тебе, хватит поминать прошлое.
– Прошлое ли? – засомневалась Настасья. – Давно ли пузырил, шляясь по деревне с пьяными дружками?
– Было, да сплыло, – отозвался грубоватым баском. – С семьёй живу, работаю, ни у кого на шее не сижу.
Не спросясь, налил себе ещё, так же молча выпил. Не закусывая, полез за кисетом.
– Ты, Настасьюшка, вопче-то, угадала – с новостью я, – перевёл разговор в другое русло. – С кумовьями Устин Брусникин приезжает, передавал, чтоб в избе была – сватать приедет.
– Вот так-так, – недобро отозвалась, поднимаясь с табуретки Настасья, – тебя счас турнуть или когда с Устином придёшь?..
– Да успокойся ты! – почти выкрикнул Гаврила. – Сядь и послушай пока. Я твой ближний сродственник, хочу добра тебе и твоим ребятишкам.
– Ну-ну… Выкладывай.
– Ты погляди, чё за эти годы с тобой сталось – кожа да кости! Семён, канешна, был мужик правильный, такому памятник на могилке поставить мало, и тебя при новой власти надо на руках носить, что не мешала ему дело делать да ребятишек блюла. Но власть-то – власть, а тебе зубы на полку класть?
Гаврила быстро обогнул стол, мягко за плечи усадил её на место. Сел сам, тут же потянувшись за ковшиком.
– Хватит глотку наливать, – осадила Настасья. – Говори лучше, я слушаю.
– Ты его помнить должна, он до Семёна сватался, да ты матроса захотела.
– Не твоего это ума дело! – опять вскочила Настасья.
– Да я не к тому говорю, а к тому, что помнить ты должна Устина-то. И в деревне он часто был, только не знаю – видела ли?..
– Как не видеть…
С самой прошлой осени надоедать начал. Она с поля, и он тут как тут, она к Ольге, и он там сидит.
И Гаврила о том не мог не знать – хитрый братец, давно уж спелись с Устином, только не знали, как подъехать.
– Должна, говорю, была видеть-то…
– Ну?
– Мужик он справный, хозяин, не пьяница, не бабник и к тебе присох, согласный взять с тремя ребятами.
– Работница ему нужна!..
– Да работницу он и в Заводе мог бы сыскать – тебя ему нада. Не могу, говорит, без неё, по сердцу мне Настасья…
– А я тебя счас ухватом по хребтине – вот полюбовно и договоримся…
Прислонилась к печке, задумалась.
К братке Гане у Настасьи отношение особое – жалела она его, горемычного. Отчего горемычного – на сей счёт соображение у неё также имелось, хотя в глаза никогда подобным образом его не прозывала.
Вернулся с германской калеченым – ногу прострелили ему в той войне. Ходил с палочкой. Но нога – ногой, эту напасть можно превозмочь – мало ли таких-то мужиков возвёртывалось с фронта. Душой был калеченный братка, насмотревшись на кровь, вдоволь покормивший вшей окопных, вдосталь поголодавший и всласть пострадавший мужик.
Другое мучило. Видел, понимал, что русское воинство, к коему принадлежал сам, способно было сломать хребет не токмо немцу, а какому ворогу пострашнее. Русские солдаты лезли вперёд, даже ежели нечем было стрелять – на штыки полагались, да на собственное бесстрашие. И ломили врага. Гнали постылого, радуясь каждой малой удаче. Но вот командиры чего-то недопонимали, иль их самих дурили более высокие начальники: отобьют передовые позиции солдаты, напитается кровушкой павших землица там, где только что кипела жестокая схватка, зачнут обосновываться и осматриваться, чтобы идти дальше, а тут и приказ – отступать. И сколько ж можно отступать от, по сути, поверженного вражины – непонятно. И роптали солдаты, тут уж приступали к горлу со своей агитацией то большевики, то эсеры, то анархисты, то ещё какая-нибудь рвань. Иные бежали с позиций к своим деревням, иные поддавались на агитацию, иные просто замыкались в себе, не прибиваясь ни к какому берегу. Этим было тяжельше всего – лучше уж в огонь кинуться, на пулю иль на штык вражеский напороться. Эти вот и являли в боях чудеса храбрости, только храбрости пустой – не на пользу ни себе, ни Отечеству.
Потому и пришёл с войны сам не свой: за что ни брался, всё валилось из рук. Подолгу задумывался. По старым дружкам не ходил, да и дружков-то осталось – всего ничего. Минул месяц, другой – чернел лицом, глядел отрешёнными от всего глазами. На вопросы отвечал односложно, часто невпопад.
Пробовал прикрикнуть тятенька, прижимала уголки платочка к глазам маменька – оставался безучастным. И однажды явился к сестрице с бутылкой в кармане. Молча сел за стол, так же молча налил в стакан и молча же выпил. Пододвинула к нему тарелку с каким-то варевом, тыльной стороной ладони отодвинул.
С того дня запил. Страшно, запойно запил, спустив аж трёх лошадёнок, коих воровски свёл со двора родительского и продал в соседней деревеньке Никитаевской. И сгинул бы, да однажды не выдержал такого позора крутой характером тятенька Степан Фёдорович: запер сына в бане, на двери повесил тяжёлый амбарный замок. В довесок – рамы снаружи досками заколотил. Неделю держал Гаврилу в бане на одной воде. Убедившись, что тот протрезвел окончательно, выпустил ранним июльским утром и приказал садиться на телегу – семья готовилась ехать на покос.
– Не наладишься жить по-человечьи, своей волей порешу, до смерти порешу, – молвил, глядя вперёд себя.
Все, кто был рядом и слышал хозяйскую угрозу, разом повернули головы в сторону Степана Фёдоровича, ни у кого не осталось сомнения насчёт того, что угроза будет в точности исполнена. Наталья Прокопьевна даже придвинулась к сыну, взяла того за руку, и Гаврила почувствовал, что тело матери подрагивает – видно, плачет сердечная. Молча плачет, дабы муж не увидел и по своему обыкновению не остудил резким словом её неуёмную любовь к их совместному чаду. «Телячьих нежностей» этих Степан Фёдорович не любил, и в семье Долгих не принято было выказывать какие-либо особые чувства к детям, а тем более – на людях. Гаврила на материнский порыв ответил лёгким прикосновением руки к плечу Натальи Прокопьевны, и скупой ласки сына было достаточно, чтобы мать успокоилась.
Радостно было ей глядеть на Гаврилу и на покосе: обливаясь потом, махал косой мужик, насколько хватало сил. Когда садились обедать, ел от пуза, отъедаясь на родительских харчах, а ночью отсыпался в душистом сене. Даже хромал меньше, а может, не хотел показать излишней слабости и терпел мужик, превозмогал боль – о том никто не ведал и про меж собой никто не заикался.
Косил глазом в сторону сына и Степан Фёдорович и, видимо, оставался доволен результатами своей отцовой «науки». А как-то вечером, уже перед тем как на следующий день выехать с покоса, заметил вполголоса супруге, мол, его «воспитание кнутом и батогом» не в пример действенней её слёз и уговоров, на что Наталья Прокопьевна молча кивнула головой.
– Так-то будет с него, – прибавил, подняв к небу палец, Степан Фёдорович. – Не усвоит мою «науку», выгоню к чёртовой матери из дому – пускай где-нибудь в канаве подыхает.
До призыва на германскую жениться не успел, поглядывая в сторону Белых Ольги – девки спелой и слишком уж вольной на язык, что не нравилось родителям Гаврилы, и оба они были против такой невестки. Про таких-то говаривали: «бой баба». И нельзя было понять – в осуждение ли говаривали, в похвальбу ли. Крутила как хотела парнями, особенно безусыми, каким в ту пору был и он. Смеялась звонко, раскатисто, задирая при этом голову к небу и выставляя на обозрение высокую грудь.
Таскался за девкой Гаврила, торчал у заплота усадьбы, заглядывал в окошки, и о том Ольга хорошо знала. Неведомо, чем бы всё это кончилось, но наступил 1914 год и Гаврилу призвали в армию. Не успел парень отъехать от Тулуна на гремучем поезде, как Ольга выскочила замуж, да за такого же призывника, что и Гаврила, только прибранного чуть позже. Однако Гаврила возвернулся, пусть и калеченым, а безусый муженёк Ольгин так и остался безусым, потому как его убили чуть ли не в самом начале войны.
Гаврила зазнобу свою не позабыл и, как ни противились тятенька с маменькой, привёл однажды вдовицу в дом, заявив, что будут они с молодой женой жить отдельным хозяйством, для чего тятенька должен отделить ему некоторую часть от хозяйства своего. И стали нарождаться детишки. Видно, и молодая поспела, и мужик стосковался на фронте по женской ласке.
Не спорил Степан Фёдорович, решив про себя, что так-то, может, будет и лучше, чем не привязанная ни к чему путному, постоянному жизнь уже зрелого мужика. Так и почал братка своим углом, и вроде бы налаживалась его совместная с Ольгой жизнь.
Мало-помалу родители попривыкли к новому положению сына как человека женатого, принимали в доме не шибко желанную невестку, ублажали внучат. А сам Гаврила держал себя с ними так, как будто ничего в их общей на всех жизни не случилось. Крестьянское же дело, к каковскому привязан был с детства, складывалось само собой, благо тятенька в своё время приучил его ко всякой работёнке.
Совсем выпивать Гаврила не бросил, но хватался за рюмку уже с оглядкой, правда, Ольга его не одёргивала, а напротив – сама была не дура выпить, что опять же не нравилось свёкру со свекровью, ведь в крестьянстве женщины держали себя строго, а уж о спиртном и речи не могло быть.
Грешно было Настасье обижаться на братку, один он помогал ей: телегу настроит, смажет, хомут подладит, заплот поправит, косы отобьёт.
Избушку, в какой проживали, ещё Семен купил у старухи Ивленьи: отдал десять пудов хлеба да телка-однолетка.
Пока хлопотала о теле покойного мужа, избушку её чужие люди и заняли. С боем отстаивала своё право на жилище Настасья, и опять же подмог братка. Нацепив пару медалек, что получены были им за фронтовые заслуги, шагнул в дом к непрошеным хозяевам с дробовиком в руках и тех только и видели. Вернулся к сестрице со словами, мол, иди, занимай углы, хозяйствуй…
Привела ребятишек, узлы с барахлом принесла, печь затопила, а она чадит. Полезла – батюшки!.. Середина-то вся провалилась…
Обливаясь потом, приволокла на себе от речки камень в пуда три, положила на кирпичи да глиной обмазала. Так и начали жить. Избушка ветхая, да своя: два входа – со двора и с улицы, в сенях – крылечко в три ступеньки, прясла – так и так; напротив – Беловы, поодаль – Котовы, за огородом – Травниковы.
И Капка вроде стал поправляться, ножками потихоньку переступать. Покряхтывая, вошёл с улицы Петька, свалил возле печки охапку берёзовых дров. Потоптался, будто мужик, исподлобья поглядывая на мать.
– Там кампания валит, к нам, видно, идёт…
– Кто? – всполошилась Настасья.
– Дядя Иван с теткой Лукерьей, дядя Ганя с теткой Ольгой и дядька тот, с которым ты давеча у колодца стояла, да ещё какие-то…
– Вот нечистая несёт, прости меня Господи… Угощать-то чем буду?..
Выскочила, сама не ведая зачем, в сенцы и попала прямо в объятья невестки Ольги, браткиной хозяйки.
– Чё забегала-то, чё забегала? – задышала та ей в ухо дыхом от принятой стопочки наливки. – Встречай кумпанию, за стол сади да покрепче чего. На вот…
Сунула узелок, видно, пирожков с ватрушками. Сама повернула из сенцев на крылечко, где уже топталась незваная-нежданная «кумпания», зазывая певучим голосом в избу.
– Идите, не робейте, ухват я у хозяйки отняла, да скалку та успела припрятать…
Послышался сдержанный смех мужиков, и через минуту человек шесть снимали полушубки, дохи, шапки и платки. Проходили к широкой, стоящей ближе к божнице лавке, прежде чем сесть – крестились.
– Прости ты нас, – говорила за всех Ольга, – знам, что незваны, но теперя ничё не поделать. Не гневись на нас и не гневи Бога – праздник вить большой, потчуй чем есть.
– Да уж, – в тон ей отвечала оправившаяся от волнения хозяйка. – Чё уж теперь, сидите да ждите – ничё у меня для вашего приходу не сготовлено. Не помышляла о гостях…
Сказала сие, знамо, для форсу, по стародавнему обычаю в такой большой праздник, как Рождество Христово, всякий мог наведаться, и не угостить считалось великим грехом. Потому и щей чугунок томился за заслонкой зева русской печи, и сырники сладкие творожные ожидали своего часа в кладовой на жестяном листе, и огурчики, и грибки, и брусника, и в самоваре тлели уголёчки: только раздуй – и запыхтит-засопит толстопузый… И юбка кашемировая была на ней, поверх которой навязан чистый фартучек.
Сновала из кути да к столу, от стола да в куть без показной суетливости, а с достоинством, отвечая коротко на шутливые слова братки. Статная, хоть и небольшая росточком, сохранившая полноту груди и упругость бёдер.
– Ах, сестрица, ах, ненаглядная… Куды там моей Ольге до тебя, – поворачивался к мужикам братка, – всем взяла!..
– Ку-уды мне, – с деланой обидой в голосе отзывалась Ольга. – Родная сестра завсегда краше опостылевшей жены…
Остальные сдержанно посмеивались, искоса поглядывая в сторону стола и отмечая про себя, что уже всё на своём месте, остаётся дождаться приглашения хозяйки, перекреститься и с благословления Божьего принять первую рюмочку крепкого хлебного самогону. А там и пойдёт всё своим чередом.
И по рюмочке первой выпили и закусили, пора бы по другой. Но вот, нежданно для всех, а больше всего для Настасьи, встал со своего места Устин Брусникин и, глядя куда-то ей в плечо, проговорил твёрдо:
– Сватов бы нада, Настасья Степановна, да, видно, я не в тех годах, чтоб женихаться-хороводиться… При всех вот твоих сродственниках хочу сказать: давно, давно желаю видеть тебя в своей избе хозяйкой полновластной и детишек твоих готов пригреть, будто родной отец…
И уже тише, просяще, неуверенно, заглядывая в её тронутые скорбью глаза:
– Иди за меня… В Завод съедем, жить вместях зачнём…
Хорошо молвил, и Настасья рада тому была в душе.
Но как ответить?.. Как ответить, ежели не улеглось, не перекипело в ней всё то, чем жила доселе – и с Семёном, и без него?.. Чем мучилась, от чего страдала, чего страшилась и что свершилось, чем собиралась дожить остаток жизни своей около детей своих, и ради детей же не помышляя об ином и не доверяясь никому в самом потаённом, сокрытом в самой глуби сердца?.. Только Бог, Единый Всевышний и Милосердный, только Он и мог читать в её сердце, скорбящем и безутешном. Всеблагой и Всезрящий…
Слова нашлись, и в том она тоже усмотрела перст Божий. Встала напротив, некоторое время спокойно вглядываясь в черты лица будто незнакомого ей мужика, в общем-то и впрямь мало знаемого, в её жизни – стороннего… Молвила:
– Не гоню. Но и не торопи. А за честь – спасибо…
И поклонилась низко.
На том сватовство и закончилось. Только Ганя подзадержался, помял её за плечи, не найдя слов, заковылял через порог.
Скупая на слезы, не выдержала на сей раз Настасья, добрела до кровати и плюхнулась всем телом на мягкую родительскую перину, заброшенную поверх старым атласным покрывалом, справленным ещё тятей и мамой в приданое любимой своей дочери Настеньке лет эдак около тридцати назад, когда бегала она по двору несмышлёной девчонкой.
И через вещи эти – перину и атласное покрывало – сообщилось, видно, истерзанной, настрадавшейся душе её тепло родительской ласки, дошедшей из-под надгробных камней старого деревенского погоста, где успокоили свои косточки Степан Фёдорович и Наталья Прокопьевна на год раньше Семёновой гибели – в семнадцатом. Почти враз померли в тот год они и легли рядом, под единым камнем.
В крестьянстве редко надолго хозяин переживал хозяйку или хозяйка хозяина. От того, видно, что единым духом жили, по одной житейской тропиночке ходили, единое дело делали, единую думу думали, единую беду ли, радость ли чувствовали.
На своих ногах помирал человек, никто ни за кем не ходил, никто ни с кем не мучился, никто никому не был в тягость. Потому и память о сошедших в могилу была крепкой и чистой. С благодарностью в сердце жили – за свет, за работу, за детей, за родителей. С благодарностью принимали смерть, от дедов переняв святую веру в то, что всё во благо – и самое жизни начало, и самая её середина, и её неизбежный конец.
Но и оттуда, из погребной дальней дали, из-под тяжёлых камней и лиственничных крестов продолжали в тлении своём греть души тех, о ком более всего печалилось сердце в их земной жизни. Разрастались раскидистыми берёзами да буйной травой, поддерживая во всяком живущем веру в вечное и непереходящее.
Но и берёзы старились. И трава перерождалась в пырей, а всё не угасала память о сошедших в небытие, всё где-то кто-то, ну хоть единая родная живая душа нет-нет, да и вспомянет, призадумкается, опечалится – в светлой ли радости за полноту счастья жить, в беспросветной ли скорби по утраченному, чему-то большому и невосполнимому.
Устин Брусникин живность держал на глухой заимке. Сразу после окончательного утверждения Советов в двадцать первом часть скотины пустил на мясо, чтобы выгодно или продать, или выменять на одежонку и прочую необходимую в хозяйстве справу.
Война будто не коснулась его: приходили партизаны, агитировали – ссылался на ранение, полученное в германскую. От белых прятался на заимке. Между делом распахал целик, но сеять ничего не сеял, соображая про себя, что все его труды могут пойти насмарку.
А тут развернулся – бояться было некого и нечего. Белочехи, взорвав на пути отступления мост через реку Ию, свершили тем самым последний в своем бесславном походе акт разрушения и вскоре были выдворены за пределы государства, Колчака большевики расстреляли на Ангаре в Иркутске.
Слухи обо всех этих событиях доходили с солдатней, возворачивавшейся к своим избам, да от бедняцких горлопанов, хозяйничающих в поповском доме.
Скотину Устин побил из политических соображений, отлично понимая, что лишнее всё равно отберёт новая нахрапистая власть. Но и того, что оставил, хватило бы на иную многодетную семью.
Возвращался с поля усталый, злой, садился на лавку у окошка, придирчиво наблюдая, как сухопарая, изработавшаяся Ульяна налаживала на стол.
Из мужиков знался более с Тимофеем Дрянных от того, видно, что оба они ещё смолоду лютой ненавистью поглядывали в сторону Сеньки Зарубина – парня статного, спокойного и, как казалось, гордого какой-то своей особой внутренней силой.
И в самом деле, была в том парне сила, не в руках могутных и упругости крутой груди, а в ином чём-то, понять чего не дано было им, деды, а потом и отцы которых первыми на деревне захватили лучшие пахотные угодья и близкие сенокосные луга. Не вертелся Семён на вечёрках перед девками, не тряс чернявой головой, не заходился в плясе, а если и появлялся, бывало, в кругу сверстников, то всё вроде особнячком, только и позволяя себе изредка короткие взгляды в сторону дочки Степана Долгих.
Характерной, надо сказать, девицы, хотя ещё и не вошедшей в года.
И было в кого ей иметь характер. Степан Фёдорович, тятя её, пониже стоял от Дрянных и Брусникиных по богачеству, но такой человек был приметный, что ежели идёт по деревне и с чего-то не всхочет глянуть на встречного, то и не глянет. А глянет – не то чтобы рублём одарит – кланяться подмывает за его внимание, да бормотать слова благодарности во след.
Но удивительное самое, может быть, было в том, что никто не таил на него обиды – уважали, не зная сами, бог весть за что.
На сходы сельские, будто нарочно, приходил, чуть припоздав, а уж рот откроет – и говорить другим вроде бы уже незачем и не о чем.
От такого вот корня происходила Настя, породниться с таким корнем сочли бы за честь не только афанасьевские, а из более дальних, усядистых сёл, более крепкие хозяева.
И роднились. Самая младшая, Авдотья, была отдана за первого афанасьевского богатея – Демьяна Котова. К средней, Мавре, ездили договариваться из самого Тулуна. Но не шла Мавра, и здесь была своя причина, о коей рассказ будет впереди. Ну а Настеньке, этой, видно, дано было неоценимо редкое право решить судьбу свою самолично – по сердцу девичьему, по душе христианской. Так будто бы молвил сам Степан-от Фёдорович супруге своей, Наталье-свет Прокопьевне, и всяк тому верил, потому что Степан Фёдорович по причине любой говорил только раз.
Так оно впоследствии и сложилось: сунулся было Устин – чуть повернула голову в его сторону, залепетал чего-то Тимофей – чуть скосила глаза. И засела «в девках» до того глубокого времени, когда и телу, и душе давно приспела пора рожать детишек, петь над их колыбелью немудрёную материнскую песню – печаль-радость.
И никто не мог понять – отчего.
Сёмка Зарубин тем временем два года батрачил в другой стороне от Тулуна – в Манутсах, вернувшись с парой добрых лошадей, продал их и своей волей пошёл служить службу царскую заместо уже многодетного младшего брата своего, Ивана.
И ещё на четыре года канул. А когда объявился, уже после японской в 1906-м унтер-квартирмейстером и с золотой медалью на груди, то тут и сватов в дом Степана Фёдоровича направил. И переполненная спелостью девка, так будто бы сказывали, на грудь ему без всяких слёз и разговоров кинулась.
Тут-то и очухалась деревня, тут-то и забалабонила, мол, во-она кого девке надобно было…
И свадьба. И мужняя жена. Избёнку купили в Тулуне, где, как стало известно, Семён подался в путевые рабочие на железнодорожную станцию.
И скорые вести стали доходить до деревенских, будто веру какую-то принял, ещё будучи в Порт-Артуре, и теперь мутит народ, забивает головы таким же дуракам, как и сам, ненужной трудящемуся человеку по-о-лити-и-кой…
Но живут они с Настасьей будто бы ладно, имея то же, что и всякая крепкая деревенская семья, – пару лошадей, тройню коров, ну и прочую необходимую в хозяйстве справу и живность.
А там, как и положено, детки пошли один за другим. И в деревню иной раз наедет к родителям в Афанасьево с детьми на неделю-другую.
Не спесивясь, никого не сторонясь, а с Устином так даже иной раз не прочь перемолвиться словом радушным, но душевно сторонним, как и положено, венчанной мужней жене.
И Устин к той поре был обженён родителем на взятой с Заводу Ульяне Полиной.
После встреч таких он чаще напивался, реже, если было заделье на родовой заимке, садил в сани, в телегу ли Ульяну и вёз с глаз долой. И видели будто люди, как, отъехав подальше, сдёргивал нелюбимую жену с саней ли, с телеги ли, перехватывая обе её руки тугим узлом длинных вожжей. И вёл эдак-то до самого места, идя следом и нахлёстывая время от времени по Ульяновой спине приготовленным заранее берёзовым прутом и покрикивая, будто Ульяна была вовсе не человеком, а лошадью.
В один год, то ли весенней, то ли осенней порой, съехали в Завод на постоянное жительство, взяв, конечно, положенную долю хозяйства от родителей. В одночасье преставились женины отец и мать, и по причине отсутствия других наследников к Брусникиным перешли и дом, и заимка, и всё прочее, что было у покойников и чем жили они на этой земле.
Здесь-то и развернулась вся его жилистая, жадная и до работы, и до богачества натура. Теперь уже не битьём изматывал жену, а работой чёрной. И какой прок было добивать единственного бессловесного работника, ежели жила в нём потребность выделиться в первые во всем Заводе на зависть афанасьевским и в усладу себе, как думалось, обойдённому незаслуженно вниманием приглянувшейся смолоду девке? Не было проку, и это Устин смекнул скоро. И в самое время, потому как Ульяна, хоть и была бессловесная и во всём покорная мужу, но всерьёз подумывала о тёмных изворотах перекатистой Ии…
Высохла раньше срока Ульяна, обернула тёмным платочком голову и замолчала на года. Молвит Устин – пошла. Глянет – замерла на месте. А способность рожать, видно, выбил из неё остервенелый мужик ещё в зачатье их совместного жития. Может, и не хотела, тоже по-своему, по-женски озлобившаяся, и заморила утробу свою слезами да наговорами. Какая жизнь, ежели по потребности разворачивал, как валёжину, и отваливался, будто выпил лагун студёной воды. Здоровый и всегда – чужой.
Не ласки хотелось Ульяне – о том и думать не смела. Признания за ней права на половину супружеской кровати хотелось, того признания, какое есть во всякой семье, даже если красну девку выдали за урода.
Родители её оставили столько, сколько за жизнь не пережить. Крепкий пятистенок, под единой кровлей завозня, стайки для скотины, для свиней. По другую руку, тоже под единой кровлей – амбар с ларями для муки и зерна, загородка для всякого инструмента. Здесь же вся лошадиная справа и ещё один уже небольшой амбар и далее – летняя спальня и погреб.
Посмотришь с улицы через бревенчатый забор – ничто не бросается в глаза, но тут же почуешь – здесь крепко устроено и облажено хозяйство.
Понятно, подзапустили старики-то хозяйство, но Устин ещё при жизни тестя с тёщей нередко наезжал в Завод, жил по дня три, вкладывая в приходящую в упадок усадьбу с утра до ночи всю свою молодую силу. Знал потому что – его будет, не унесут ведь старики с собой во гроб.
Была и заимка, правда, попроще строениями, но с удобными пахотными, сенокосными и выпасными угодьями.
С переселением в родительскую избу как бы схоронила себя заживо Ульяна – не надеясь на перемены, не веруя в переменчивость своей загубленной на корню судьбы.
Понимал её положение и Устин, поглядывая теперь из хозяйского угла на заученно-суетящуюся у печи бабу, так и не ставшую за десять лет совместного проживания своей. Поглядывал, как на печь, около которой та суетилась, как на всхрапывающего за окном коня, как на улёгшегося мордой на лапы цепного кобеля.
Думал думу о своём, доступном только ему одному.
Может, только когда наезжал со своей бабой Матрёной давний дружка Тимоха Дрянных, в избе четы Брусникиных и селился жилой дух. Мужики усаживались на своей половине, бабы – на своей, и всяк по-своему отводил душу.
– Слышко, Устин, – хрипловато клонился к приятелю Тимоха, – навезла чего-то тятьке с маткой, а Степан Фёдорыч ей швейную машину отвалил. Моя бегала, так все спознала. Малец-то, Петька, вроде и не похож ни на Настю, ни на ейного политика. А девчонка – вылитая Сенька, так и глядит исподлобья.
Отвалился, хихикая.
Устин сдерживал себя, хорошо зная дружка закадычного, – неспроста говорил тот ему про занозу.
Но, бывало, и кулаком по столу треснет, испытывая наслаждение и от враз заметавшихся глазёнок Тимохи, и от наступившей вдруг тишины в избе.
Лил в глиняные стаканы себе, Тимохе, и выплёскивалась самогонка в глотки мужиков незамедлительно. И уже Устин клонился к приятелю:
– Ты, варначья твоя душа, затем прибыл, чтоб нутро мне вывернуть? Не радуйся, а попомни моё слово: не быть ей за Сенькой, хоть, бл… натаскать успела от энтого зарубинского отродья…
Матерился, скрипел зубами, но и тут умел совладать с собой.
Менялись на столе хозяйские яства, лилась рекой самогонка.
Засыпали тут же, за столом. И тогда уж в полный голос распускали языки бабы – обо всём, что было и не было в их деревнях, что было и не было в их семьях. Но если Матрёна могла позволить себе на чём свет стоит костерить своего Тимофея – мужика во всём ей покорного и бесхарактерного, то Ульяна больше говорила о прибытках хозяйственного порядка и о том, что Устин уж не тот, что в Афанасьеве, и что всего у неё в достатке – и шалей, и юбок, и кофт, и буднего, и праздничного.
– А счастья-то хватат? – наклонялась к приятельнице захмелевшая Матрёна. – Ласкат он тебя-то?.. Чё деток-то не заводите?..
Изводила, изгалялась. Портила заглянувший в душу Ульяны праздник. Насладившись своей бабьей извечной усладой – укорить в чём бы то ни было, говорила примирительно:
– И с ими, девка, тож мука. То пелёнки, то сопли, то одевай, то обувай, то жени, то замуж отдавай.
И заканчивала:
– Живёте – и живите себе. Добро в избе – тоже счастье.
И пели бабы песни, и полыхал медью и жаром на столе самовар.
Дня через два вслед за Дрянными собирался в Афанасьево и Устин. Знала, зачем едет, молча подсобляла собираться, выходила за ворота и с каждым разом всё больше чувствовала, как усыхает в ней даже не женская гордость – человек усыхает.
Ни горести, ни вздоха, ни сожаленья.
…К туго завязанному житейскому узлу стремится живая русская женская душа: в счастье ли, несчастье ли, в горе ли, радости ли. Чего умом не постигнет – сердцем почувствует. Чего сердцем не почувствует, до того через дитя, рождённое в муках, дойдёт. Но всяким умом она хороша – большим ли, малым ли. Всяким сердцем чиста – полным ли любовью ответной или поруганным. Всякой статью. Во всякие года – молодые ли, зрелые, унёсшие ли жизнь за черту одряхления. И хотя у каждой своя молитва, своя дорога – и молитва об одном, и дорога к единому – к семейному очагу. До гробовой доски кладёт силы она, дабы огонь в очаге том не затухал. Ну а ежели огня и духом не бывало, души своей живой раскалённые угли подкладывает в тот очаг, пока не истратит последний. Тогда уж – конец. И жизни, и самой земле.
Допёк-таки Настасью Устин. Переехала к нему в начале июня, посадив в огороде картошку и всякую овощную мелочь – кто ж знает, как сложится жизнь с новым мужем и чем потом будешь жить.
На заимке Устиновой жила с ребятишками почитай два месяца. Отсеялись, приспело время косьбы.
С вечера отбивал Устин литовки, приспособившись подвешивать черенок к прибитой между берёзиной и стеной жилой избы жердине, на которой обычно висели телячьи и бараньи шкуры. Высокий звук ударов кривого молотка проникал через стены, тревожа душу Настасьи давними воспоминаниями о подготовке к покосу в родительском доме, а затем и в её собственной, образовавшейся с Семёном, семье.
Три года не слышала она этот звук, снося в пору сенокосную, пока была еще коровёнка, литовки к братке Гане. Теперь двигалась по избе, ловила слухом знакомый от рождения стук, никак не могла отделаться от привязливых своих дум.
В Заводе никто не выказал особого внимания к появлению новой хозяйки в избе Устина Брусникина. Не до того было. Спиртовое производство с исчезновением неведомо куда исконного владельца Федора Акимовича Черемных – пришло в запустение, а Советы не торопились налаживать. И чем было питать то производство при всеобщей скудности? Картошки – себе бы нарыть, свёколка, та и вовсе вывелась – каждый норовил запастись на зиму чем посытнее. Мало приспособленный к земле народ здешний от века кормился от ведра произведенного в Заводе спирта. Корову, конечно, держал всякий. Лошадь, понятно, тоже имел. Огород на семью. Но заимок, как у родителей Ульяны, по пальцам одной руки сосчитать.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































