Текст книги "Венец всевластия"
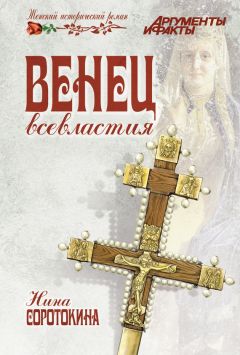
Автор книги: Нина Соротокина
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
5
Я почему согласился идти к Ивану Макаровичу? Попробую объяснить. Вот только не знаю, с какого конца взяться за это объяснение. Ничего особенного не произошло, обычный день, обычное возвращение домой после некоторого отсутствия. Объяснить, почему ты пошел кодироваться, так же трудно, как ответить на нелепейший вопрос – зачем ты пьешь? Разница только в том, что в первом случае был порыв, минутное затмение, а во втором… такой у меня образ жизни. А вообще-то – пошли вы все!
Просто я сцен семейных не переношу. Ни Люба, ни мать меня не понимают и не в состоянии понять. Обе хотят мне счастья, но на свой манер. А я хочу жить собственным умом – не ихним. Пока я особого смысла в жизни, то есть в существовании, не вижу. Вокруг – полное безобразие, которое никто не в силах изменить. Всё видели – и кровавые революции, и бархатные – исход всегда один. Гнусность. При социализме плохо жилось, при капитализме стало еще хуже. Кругом ворье и вранье. Наверху, в мутных олигархических водах, плавают акулы, так и вгрызаются в живую плоть, аж трепещут от жадности, а прочая масса, эта самая живая плоть, тихо шевелится на дне, в иле. Видно, такова природа сущего и ее не изменить.
Итог: общественное по нулям, но есть личное – семья. То есть нет, не так. Я понимаю, что я муж, отец и сын. И они не переставая хором твердят, что я нужен им именно в этом качестве. Неправда ваша… я вам только обуза. И как только я это осознал!.. В общем, хреново было.
Приобщился к алкоголю я в армии. Хотя Люба говорит, что в десятом классе я уже прикладывался. Но это было просто баловство. Мне хотелось выглядеть старше. То, что она – «студентка, спортсменка и красавица» – снизошла до верзилы-школьника, совершенно потрясло мое воображение, я из кожи лез, чтоб быть ей под стать. И в институт поступил дуриком, выбирая не профессию, а маленький конкурс. Потом бросил эту тягомотину к черту. Ну какой из меня педагог? Бросил и тут же загремел в армию. Мы были уже женаты.
Армейская жизнь была вполне сносной. Тогда уже отшумел Афган, меня не убили, не покалечили. Мать, правда, говорит, что меня сломали. Никто меня не ломал. Вообще про службу в армии говорить не будем, это запретная тема. Я даже во сне запретил себе видеть армейские будни.
Когда началась наша с Любочкой любовь, у нас была разница в год. Когда я вернулся домой после армии, разница была в десять лет. Уму непостижимо, как ей удалось столько сделать за два года. Она не стала олигархом, депутатом и крупным чиновником – в двадцать четыре года это достаточно трудно. Но она кончила институт, устроилась на работу в иностранную фирму, купила подержанный «ауди» и сделала евроремонт в своей видавшей виды квартирке в Пожарском переулке.
А потом Сашка родилась. Четыре месяца Любочка вскармливала наше дитя, а потом вернулась в свой драгоценный офис. А в доме появилась толстая, благодушная и очень дорогая нянька. Но не нянька, конечно, ставила на ноги Сашу. Здесь моя матушка принимала самое горячее участие, за что я ей очень благодарен. А то, что вслух об этом не говорю, никак не умаляет моего чувства. Но они этого не понимают. Они хотят, чтоб именно вслух – днем и ночью.
Матушка живет полноценной жизнью и того же ждет от меня. Она говорит, что Бунин говорил (какая дурная тавтология! – из нее состоит вся моя жизнь), так вот Бунин считает, что в жизни главное – память и творчество. Память у матери как у больного аутизмом – она помнит все, а потребность в творчестве она реализует в бизнесе. Хотя какой это к шутам бизнес? Какая-то сумасшедшая русская старуха с деньгами, обитающая в Бельгии, приспособила матушку торговать собачьим кормом. Пожалуйста, корм так корм. Чем он, скажем, хуже, чем оружие, нефть и наркотики? И все равно унизительно, что ей, бывшему (или бывшей? как по-русски-то?) ученому, не нашлось лучшей работы. Голова у матери теперь всегда занята собачьим кормом, но, конечно, остался там уголок, который перерабатывает знания, которое накопило человечество. Знания эти, как всегда, касаются философии и литературы. Она без конца цитирует великих и старается приспособить меня к своему бизнесу. Но в этой ситуации я подхожу только на роль собаки – беспородной, но преданной.
Ей нужен Сын с большой буквы, собирательный образ, начиненный хрестоматийными добродетелями, а судьба-здодейка подсунула полуфабрикат, которой никак не вылепляется в окончательный продукт. Мать жалуется: «Я не ожидала от судьбы такого подвоха. Я даже простила ей, что твой отец был пьяница. (К слову скажу, что до армии я этого не подозревал. Вообще я отца помню плохо. Мне было семь лет или около того, когда он от нас ушел.) Но Сын! Этого я судьбе не прощаю!» Так и видишь Судьбу в виде суровой жрицы в суконном хитоне. Она – эта, в хитоне – заламывает руки и канючит у матери: «Как же – не прощаешь? А как же мне быть? О, прости меня, прости…»
Мать очень не глупый человек, образованна, добра, но иногда бывает так наивна, так театральна. Меня с души воротит от кокетства словами. Пьющий человек изнанку жизни постиг, для него ненатуральность – нож острый.
Помню, упал в собственном подъезде, долбанулся о какой-то крюк в стене, а может, об угол почтового ящика. Упал и раскровянил щеку – сильно. Обычно в отключке я домой не прихожу. Иногда дня по три, а то и больше дома не бываю, что правда, то правда. То есть живу на стороне столько, чтоб в себя прийти. И каждый раз, конечно, сцены. «Мы тебя по моргам, больницам милициям ищем, а ты!..» Ну и так далее. А что меня искать. Я тот пес, который гуляет сам по себе. Природа у меня такая! А они: «Ты должен ночевать дома! В любом виде приходи, но приходи!» Вот я и пришел. И звезданулся о крюк. Лежу на полу, вся морда в крови и руки тоже. И тут вдруг вспомнился совершенно не к месту материнский голос: «Кортасар говорил, что кровь пахнет гелиотропами и прибрежными болотами». Господи, ну зачем русскому мужику знать про неведомую траву гелиотроп? И так поэтично все, что от злости слезы подступили. Как на грех, Люба пошла вниз за почтой. А дальше вопли: «Тебя ранили, порезали, избили? До чего ты дошел? Только не плачь! Лежи здесь, я вызову “скорую”!»
Из моих слов можно представить, что мы живем вместе с матушкой. Нет. У Любы квартирка в Пожарском, а мой родной дом на Чистых прудах. Но мать моталась к нам так часто, что все изгибы нашего бытия ей были известны. К тому же есть телефон, мерзкое изобретение человечества. Минута, и мать уже ловит машину и летит к нам в Пожарский на всех парусах. С моей Любочкой они совершеннейшие единомышленницы.
Про Любу, как и про армию, мне говорить трудно. Она хороший человек. После моих угаров, когда точит стыд – мерзкая штука, – я со всей очевидностью понимаю, что она очень хороший человек. Поэтому и молчу, и не иду на контакт. И она молчит. Что нового можно сказать друг другу? Люба за семью и чистый быт. Все женщины мира за семью и чистый быт. Будь их воля, они бы всех мужиков спеленали, потом уселись на эти мумии, кормили с ложечки и говорили, как они их любят. На ночь можно и распеленывать.
Ну хорошо, я не прав. Да, я испортил ей жизнь. Да, она меня любила, а я все испортил. Дальше что? Ничего изменить я уже не в силах. Если тебе так легче, то я согласен прыгнуть с десятого этажа. Спрашивал, не хочет. Говорит, что ТАК ей легче не будет.
А Сашку я люблю. Люба говорит, что я зло на ней срываю, а это нечестно, ребенок перед тобой беззащитен. Можно подумать, что я сам этого не знаю. Я каюсь, я плачу, и слезы мои пахнут гелиотропом и прибрежными болотами. Нужен ребенку такой отец? Ни в коей мере. Любочка с маменькой моей его вырастят и выучат. И хорошо, что не мальчик. Пить не будет. Хотя жизнь сейчас такая зараза, что ничего нельзя предсказать.
Может, я излишне жесток? Не знаю. Может быть, я пью больше по привычке? И не каждый раз водка дает избавление от… не буду писать – чего. Пьющий меня сразу поймет, не пьющему не объяснишь.
Потом мать принялась меня лечить. Я должен был три раза в день принимать с чаем какие-то гомеопатические шарики. Это, дескать, народная медицина, совокупленная с последним словом науки. Шарики уничтожают зависимость от алкоголя, после них совсем не хочется пить. Покупалась эта панацея на площади Маяковского в какой-то частной лавчонке. Уже одно это не вызывало у меня доверия. Но об этом разговор дальше. Вначале мать давала мне эти шарики тайно, для чего переехала к нам на жительство. Мне она сказала, что собирается делать у себя ремонт. Промаявшись у нас два месяца, мать устала и решила взвалить эту обязанность – подсыпать шарики в чай – на Любу. Та категорично отказалась. И не потому, что с утра до ночи пропадала на работе. Если б она в эту гомеопатию поверила, то с работы ушла, в этом я совершенно уверен. Хотя как бы мы жили на мою тощую и эпизодическую зарплату – ума не приложу.
Шарики были рассекречены. Мать каждый день звонила мне утром и вечером с напоминаниями и составляла какой-то неведомой график моей жизни, по числам – когда пил, сколько дней, какое количество шариков мне надлежит бросить в чай, суп или кофе. Дурдом! Я не выкидывал это гомеопатическое добро в помойку, я честно старался соблюдать предложенный режим. Я видел, как для матери (не для меня!) это важно. Но одно дело – видеть, а другое – просто жить. Работа у меня такая, что я все время с людьми. И у меня много друзей. И трезвенников среди них нет. И подробность с белыми глупыми шариками мне осточертела.
Продолжалось это почти год. И весь год мать вела со мной увещевательные разговоры. Там было много призывов, примеров из жизни великих, но всегда удручающе точно просматривался костяк разговоров: «Любочка тебя бросит. Ты сопьешься и умрешь под забором». Разговоры были скучными, но что удивительно, мать всегда точно угадывала мои мысли. Собственно, это были не разговоры, а монолог с единственным зрителем – мной.
– Любочка тебя бросит. Ты будешь бомжевать и валяться под забором.
Я молчу и думаю: «Как же я буду бомж, если я в твоей трехкомнатной прописан?» И она тут же:
– Ты, конечно думаешь что в бомжи не попадешь, потому что я тебя из собственного дома никогда не выпишу. Но я не вечна. Матери, знаешь ли, умирают.
Я тут же про себя с ехидцей: «Пошло-поехало, любимая тема. Как в опере, честное слово! Посмотри на себя и на меня, я в свои двадцать девять живой труп, а ты в пятьдесят – кровь с молоком. Ты вечная, как скульптура Родина-мать». И вообразите, она тут же в ответ:
– И не смотри, что я хорошо выгляжу. Каждый твой загул – это моя аритмия, моя бессонница, мой расстроенный желудок. Я все время в состоянии медвежьей болезни. Но медведей хоть не рвет на нервной почве. Хотя кто их знает, может, и рвет. Объясни мне, сын, откуда у пьяниц силы берутся? Я думаю, что, проспиртовавшись, они превращаются как бы в растения и продолжают шуметь листвой при любых обстоятельствах. Я умру, а ты, так же шелестя, пропьешь мою квартиру.
Мне хочется крикнуть: «У меня таланта не хватит перевести метры в рубли! Я перед миром растерян. Так что живи и не волнуйся!» Конечно, я промолчал, но ей и не нужен мой ответ.
– Сам-то ты, конечно, не сможешь квартиру пропить. Ты совершенно непрактичен. Без меня ты даже обменять ее на меньшую не сможешь. Но найдутся помощники.
И так по кругу, до бесконечности, пока не взвинтит себя до слез. Плачет и упрекает меня в том, что я с ней спорю – не на словах, конечно, а всем своим видом, тупым взглядом, образом жизни и сцепленными в замок пальцами.
А Любочка пела свою песню: «Кодироваться тебе надо, кодироваться… У меня есть замечательный врач. Он лечит очень богатых людей. Богатые тоже плачут, и у них тоже есть пьяницы. Кодирование дает замечательный результат. Говоришь, не получится? Но попробовать-то ты можешь? Ты ведь измучил нас до крайности. Ты погибаешь, погибаешь!..» Так и жил между двух огней.
А потом случился день, или вечер, а может быть, вообще ночь. Я уже от мужиков знал – ищут меня. Мать висит на телефоне, Любочка обегает общих друзей. И еще сказали – Саша заболела, вроде ангина с высокой температурой. И с Юлией Сергеевной что-то случилось (так зовут мою мать), то ли упала, то ли с сердцем.
Доехал до дому, иду к подъезду, слышу, кто-то за мной торопится, прихрамывает. Оглянулся – мать. В лифт вошли молча, даже не поздоровались. Я нажал на кнопку, лифт пополз вверх. А мать отвернулась от меня, привалилась щекой к стенке и заплакала. Тихо так заплакала, и никакой позы, только щека дергается. Я и не замечал, что у матери такие мягкие, дряблые щеки. И еще хромает. Что с ней случилось? Обострение артрита или правда упала? А ну как и впрямь помрет.
Мы вошли в дом, и я сказал Любочке: «Ладно, кодируйте. Я согласен».
6
Историю нашу можно начать с того, как высокое посольство князей Василия и Семена Ряполовского вместе с дьяком Федором Курицыным в…… год от Рождества Христова (читай, в 1494 году) прибыло в Вильну договариваться о сватовстве княжны Елены, старшей дщери Иоанновой, и великого князя Литовского, Русского и Жомотского Александра Казимировича. Личным толмачом дьяка Курицына был никому не известный флорентиец Паоло, для которого и латынь, и русский язык были родными. О причине этого феномена мы расскажем в своем месте.
Однако такое начало, хоть сватовство и есть в некотором смысле ключ к нашей истории, ничего путного не сулит. Русское посольство принимали пышно, но о сватовстве не договорились, не сошлись в цене. Гораздо важнее для нашего повествования объяснить, как занесло в Вильно Паоло и какое он имел отношение к Курицыну.
Первая встреча маститого дьяка (по-нашему, считай, министра иностранных дел при дворе Ивана III) и мальчишки-итальянца случилась спустя неделю после того, как посыльный царя Юрий Траханиот привез из Италии в Москву мастеровых людей: каменщиков и рудников. Уже был возведен славным муролем, то бишь архитектором, булонцем Фиорованти белокаменный Успенский собор, и не менее славный венецианец Марк возвел на царском дворе палату, названную впоследствии Грановитой, и теперь за Архангельским собором возводили каменный дворец для царя Ивана и семейства его. Работы было много, и вновь прибывшие иноземцы тут же были приставлены к делу.
В весенний день, погожий и свежий, дьяк Курицын, любопытствуя, забрел на строительную площадку, очень ему хотелось посмотреть, как работает нововведение – особое колесо, которое с легкостью поднимает наверх кирпичи. На подходе к строительству Курицын услышал громкую ругань, итальянская речь булькала, как горячая каша в котле. Ругани вторил голос переводчика, и поскольку он был мелодичен и совершенно лишен злобной и обиженной окраски, которой речь итальянца мастерового, то во всем это был скорее не назидательный, а комический эффект.
– Ты что намешал, пащенок? – мелодично взывал переводчик к лохматому, испуганному и подобострастно скособоченному парню. – Это известь, по-твоему? Раствор должен быть клеевит, мешать его надо густо! Нас зачем сюда привезли? Учить! А что я скажу, если ты не учишься? Да за такую работу я имею право вычесть из твоего жалования сколько пожелаю. А я могу пожелать очень много.
Лохматый парень не пытался оправдываться, а поскольку слушал он не грозного мастерового, а ангелоподобного переводчика, то и реагировал на ругань соответственно – застенчиво и приветливо. Терпение мастерового пресеклось. Он схватил парня за холщовую рубаху, притянул к себе и заорал, вытаращив глаза.
– Ты меня слушай! Что таращишься? – повысил голос переводчик. – Вот сейчас пошлю тебя на конюшню, совлекут там с тебя порты да всыпят по заднему, глупому месту!
Лицо парня приняло и вовсе идиотское выражение, он не понимал ни слова и с перепугу улыбнулся. Мастеровой выкрикнул длинное ругательство, и, отлепив правую руку от плеча бестолкового работника, занес ее для удара. Вот тут мальчишка-переводчик и показал себя. Он повис на могучей руке и выбросил в лицо мастерового фонтан слов. Говорил он так быстро, что Курицын с трудом его понимал:
– … этот волосатый юноша не виноват, потому что не он готовил раствор, его приставили только размешивать, а раствор готовил другой, такой бородатый без передних зубов, этот бородатый сейчас ушел, а вести себя так не следует, потому что на севере люди спокойные и степенные, они не понимают нашего романского темперамента, а потому боятся нас, как чертей… А-а-а!
Последний вопль был вызван тем, что мастеровой, устав искать виновного, цепко ухватил переводчика за ухо и потянул с силой вверх, явно намереваясь оторвать.
– Чтоб завтра здесь духу твоего не было! – прорычал он. – Не уйдешь по доброй воле, сообщу куда следует.
– Ну будет, будет, – сказал Курицын подходя.
Мастеровой выпустил ухо, вытер руки о штаны, словно схватился ненароком за змею или другого такого же неприятного гада, и ушел, продолжая ругаться вполголоса. Лохматый парень, считая, что уже получил должную порцию ругани, тут же сгинул. Юный переводчик натянул на уже распухшее красное ухо бархатный берет и с вызовом уставился на Курицына.
– Ты откуда же такой взялся? – с интересом спросил дьяк. – Я тебя здесь раньше не видел.
– Я приехал из Флоренции, – он подумал и добавил: – Вместе со всеми.
– Ты тоже каменщик? – Курицын с недоумением окинул старый, обмахренный на обшлагах кафтан переводчика.
– Я пиит! – гордо вскинул голову мальчишка.
– О Господи… И что же ты сочиняешь?
– Канцоны, новеллы, комедии… Я умею писать погребальные речи, я обучен искусству думать и рассуждать. И еще я играю на арфе и свирели.
– Но государь не заказывал в Италии поэтов. Погребальные слова у нас произносит священник. Умение рассуждать весьма полезно, но государя более интересуют архитекторы, строители и оружейники.
– Это все цеховые люди…
У мальчишки была привычка пожимать не двумя плечами, как делают по обыкновению люди, желая избежать ответа, а вздыбливать одно худенькое, цыплячье плечико. Старательно выбритые щеки (а что там брить-то – пух) поджались в иронической гримасе. У него были рыжеватые, коротко постриженные волосы, надо лбом непокорным веерочком торчала прядь, в простонародье говорят – корова языком лизнула.
– Ты назвался каменщиком. Так? А раз ты пошел на обман, значит… Ты вынужден был оставить Флоренцию. – Курицын сделал ударение на втором слове. – Ты бежал?
Опять молчание, только в карих глазах вспыхнуло вдруг и тут же погасло жгучее выражение испуга, отчаяния, а может быть, скрытой ярости.
– Ты убил кого-нибудь?
– Убивают воины, рыцари, кондотьеры. Еще убивают преступники. А поэты поют песни и славят прекрасных дам.
Курицын расхохотался.
– Во-она как! Но в Москве дамам не поют баллады. Даже при дворе царицы Софьи Фоминишны не принято бряцать на арфе. Наш обычай не допускает такой суеты. Откуда ты знаешь русский?
– Это моя тайна.
– Я вижу, ты нашпигован тайнами, как баранина чесноком. Как тебя зовут?
– Паоло.
– И что с тобой, Паоло, делать?
– Мне надо помочь! – сказал мальчишка страстно, и Курицын опять рассмеялся.
Скольким он за свою жизнь помогал – не упомнишь. Но что делать с этим нахальным иностранным отроком? О том, чтоб устроить его на службу в Приказ, речь не шла, да и молод он – пятнадцать лет, но на роль личного толмача при особе дьяка флорентиец вполне подходил. Уже через неделю Паоло перебрался в хоромы Курицына, что стояли подле древнего Богоявленского монастыря, и поселился в летнике на втором этаже.
7
Много лет спустя, доживая свою жизнь в полной тишине и безвестности на узкой горбатой улочке вблизи дворца Питти, Курицын вспоминал эти давние месяцы как лучшие в своей жизни. Ведь это чудо чудное, что в деревянной Москве, с ее простым неторопливым бытованием поселилась вдруг живая Флоренция. «Идем! – говорил Паоло. – Я проведу тебя по мосту Рубаконте к подножию величайшей лестницы в мире. Об этой лестнице писал поэт наш Данте», – важно добавлял мальчик. И Курицын послушно следовал за ним. Перед изумленным взором Федора Васильевича развертывалось во всей полноте зрелище флорентийской жизни. С высоты собора Сан-Миньянто он бросал взгляд на великий город. Именно тогда он увидел, как отражаются золотистые облачка в темных водах Орно, рассмотрел средь черепичных крыш великолепный Сан-Джованни – флорентийский Баптистерий, и строгие очертания францисканской церкви Санта-Кроче.
Паоло привез бывшую свою жизнь в котомке за плечами, и хоть торба была набита под завязку, это был легкий груз, поскольку состоял он из воспоминаний, грез и надежд. Вначале Курицын мало задавал вопросов, он только слушал, это уж потом пошли споры. И с кем – с отроком неразумным! Речь мальчика торопилась, не поспевала за образами, вязла в русских оборотах, и потому от горячности он иногда путался, сбиваясь на итальянский язык.
– Это дивный город, дивный город! – восторгался юный поэт, сохраняя при этом смешную, детскую важность. – Там много солнца, и сам город – легкий, он весь пронизан солнцем и влагой. Там тихие монастырские дворы, выстланные разноцветными плитами, в аркадах зеленеют лавры в кадках, дороги окаймляют стройные кипарисы. Городские улицы пропахли краской и лаком, знаете, лаком покрывают художники свои дивные картины.
А эти праздники на площади Санта-Кроче… О, там все кипит: кареты, носилки, ученые мужи в алых плащах, чернокожие слуги и дамы в богатых одеждах с волосами цвета меди, сияющими на солнце.
Больше всего Курицина поражала страстность юноши. В каждом слове его, в каждом жесте, а Паоло иногда проигрывал целые картины жизни, крылась столь иступленная любовь к Флоренции и самой жизни, что Курицын забывал дышать. Рассказ уводил воображение дьяка в такие дали, что иной раз казалось – полностью он уже не сможет вернуться назад, потому что часть души его навеки заблудилась в серебристых, мокрых от дождя оливковых рощах.
Страна несуетной красоты и немыслимого очарования – такой вставала Флоренция, родина Паоло. Но при этом сам отрок оставался полной тайной для Курицына. И надо сознаться, что флейтист, поэт и пилигрим, при всем своем обаянии и цветистости, за месяц совместной жизни сумел показать себя мальчишкой скрытным, тщеславным, любопытным сверх меры, неверным, обидчивым, а также оснащенным качеством, почитаемым в православии главным грехом, а именно – болезненной гордыней и свободомыслием.
– Тебя зовут Паоло, а фамилия? Как звали твоего отца?
Молчание. Потом быстрый, резкий ответ:
– У меня никогда не было отца. Но у меня был сеньор, мой хозяин.
– Кем он был, твой синьор? Как его зовут?
Молчание.
– Тебе неприятен этот разговор?
Паоло всем своим видом дал понять, что это именно так.
– Ладно, не надо имен. Но мать-то у тебя была? Про нее ты тоже не хочешь рассказать?
Юноша на мгновение задумался, и Курицын отметил эту заминку. Паоло словно прикидывал – говорить не говорить, хотя чего, кажется, проще – закрепить уже сложившиеся отношения знакомством с родителями и всей семьей. Ан нет! Где-то на свете осталась прекрасная Флоренция, по которой он тоскует и не пытается скрыть этого, но при этом говорит с уверенностью: «Я выбрал Русь. Она теперь моя родина».
Что значит – «выбрал»? Почему ему пришлось выбирать и уехать из Италии, этого земного рая, если он умен, образован сверх меры, любознателен…
– Ладно, оставим этот разговор.
– Но ведь у вас тоже есть тайны, – тут же отозвался Паоло. – Я живу в вашем доме, – он начал загибать пальцы, потом сбился, – уже много месяцев. Вы заставляете меня читать кириллицу, но при этом прячете какие-то русские книги. К вам ходят люди, много людей, и каждому вы выделяете время для беседы. Понятно, что меня вы не приглашаете к разговору, считая, что я слишком молод. Во Флоренции на этот счет придерживаются другого мнения.
– Это дела служебные, – резко одернул юношу Курицын. – Мы занимаемся очень важным делом. Государь повелел ученым мужам составить новый Судебный устав. Бога молю пособить нам окончить сей обширный труд в положенный срок.
– И потому вы обсуждаете дела судебные шепотом? Не надо! Говорите в полный голос. Я не буду подслушивать.
– А ты ничего тайного и не услышишь, – Курицын словно не замечал ехидства, которым был окрашен голос Паоло. – Мы пишем закон, по которому будут судить разбой, душегубство, святотатство, поджоги и прочая.
– Можно я спрошу, можно?
– Конечно, можно.
– Чем определяется на Руси судный устав? – в голосе обычная страстность, словно он без этого устава жить не может.
– Судный устав определяет судей и то, что следует считать судебным доказательством, как то поличное свидетельство, поле – судебный поединок и клятва, – терпеливо пояснил Курицын.
– А когда выбирают поле? Там ведь дерутся, да? Кто победит в поединке, тот и прав? Во Флоренции так не судят.
– Поле – это суд Божий. Если свидетель уличает кого-то в займе или грабеже, то уличаемый может идти биться со свидетелем. Если же ответчик стар, млад, увечен, будет женщиной, монахом или попом, то он волен выставить против свидетеля бойца. Свидетель же должен биться сам.
– А если свидетель стар, млад, увечен… ну и так далее?
– Тогда он тоже волен нанять бойца. Оба присягнут и будут биться.
Вот так они всегда уходили от главной темы – той, с которой начали разговор. И опять незаметно возвращались к прежней теме. Курицына интересовало все о Флоренции. Наезжая по посольским делам в Венгрию, он много раз дружественно беседовал с королем Матвеем Корвином, а тот, в свою очередь, общался с Лоренцо Медичи, неофициальным правителем Флоренции. Лоренцо прозвали Великолепным, и он вполне оправдал этот титул.
– Как секретарь, – важно пояснял Паоло, – я часто сопровождал моего синьора в его деловых и дружественных беседах. И в палаццо Медичи тоже. Лоренцо и мой синьор любили поговорить. И меня от себя не гнали.
– О чем же они говорили?
– Они рассуждали о словесности, поэзии, живописи, управлении общественными делами и прочих достойных делах.
Оказывается, во Флоренции куда более чтится не служебное времяпрепровождение, а досуг. Деловые обязанности и службу за деньги может справлять любой человек, даже недалекий, но использовать свой досуг разумно, то есть заполнить его высокими занятиями и игрой ума, может только человек истинно одаренный. Труды в досуге – это занятие словесностью, философией, созерцание истины, чтение античных авторов, ну и Библии, конечно.
– Они говорят: «Надо распределять время так, чтобы не терять его», – продолжал Паоло. – У них свой круг людей. Они собираются в монастырских библиотеках, книжных лавках, в богатых палаццо или просто у себя дома, чтобы поговорить, поспорить. Они очень любят обсуждать достоинства и недостатки человека. Не конкретного, а вообще как особь. Недаром достопочтенный Джанноццио Манетти, член Синьории, дипломат и викарий, написал замечательный труд «О достоинствах и превосходстве человека». Как жаль, что вы его не читали. Они называют себя «академией», а злопыхатели прозвали их «академией бездельников и болтунов».
Курицын расхохотался.
– И Лоренцо Великолепный тоже принадлежал с этой славной ватаге?
– О, да! Мой синьор говорил, что для высоких бесед необходимы ум, доброта и душевный покой. То есть незаполненность души пустыми деяниями и страстями.
– Неужели Лоренцо Великолепный мог себе это позволить? По-моему, жизнь его как раз не была безмятежной.
Последней фразой Курицын словно масла подлил в огонь.
– О, нет, конечно, нет! Мне был всего год, когда с Лоренцо и братом его Джульяно произошло страшное. Лоренцо был молод тогда и очень богат. Отец его уже умер, и он, естественно, хотел участвовать во всех делах города. И добивался, чтобы его приказы исполнялись. Нашлись люди, которых это не устраивало.
– Власть – страшная вещь, – согласился Курицын. – Многие согласны душу дьяволу заложить, только бы получить возможность распоряжаться чужими судьбами.
– Именно так, – согласился Паоло, недовольный тем, что его перебивают, – нашлись заговорщики, которые решили убить Лоренцо вместе с его братом. Местом страшного действа был выбран собор Санта-Репарата, а временем – воскресная служба. Обычно в соборе собиралось много народу, но это не смущало убийц, они думали, что в толпе им легче будет скрыться. Покушение должно было состояться во время таинства евхаристии.
– Какое злодейство! На Руси не убивают в церквях. Я говорю, разумеется, о соотечественниках, о людях одной веры.
– Дай Бог, чтобы этот обычай сохранялся вечно, – милостиво согласился Паоло.
– Ну дальше, дальше…
– Убили-то друзья. Франческо Пицци умело носил маску показного дружелюбия. Лоренцо был уже в соборе, а Джульяно запозднился, а может быть, он вовсе не собирался в этот день в церковь. Франческо и Бернардо пошли к нему в дом и уговорили пойти молиться. По дороге они веселили Джульяно всякими остроумными замечаниями, шутили и смеялись. Обнимались – да! Франческо надо было убедиться, что на Джульяно нет защитной кирасы. Привели Джульяно в собор и там по сигналу зарезали его, как овцу. На Лоренцо тоже напали, но тот успел увернуться. Ему только легко поранили горло. А дальше он сам выхватил шпагу и стал обороняться. Стоящие рядом синьоры встали на защиту Медичи. Среди них был и мой синьор. Именно поэтому Лоренцо Великолепный оказывал ему особое расположение.
– Как ты можешь удержать в памяти столько имен? – недоумевал Курицын.
– Эти имена держит в памяти вся Италия!
– Заговорщиков казнили?
– Их растерзали сами горожане.
– У нас такое невозможно.
– Чтоб казнили сами горожане? Учитель, возможно все и везде, только сюжет новеллы несколько разнится. И уверяю вас, очень часто действия заговорщиков все находят справедливыми. Например, история с Галеаццо Мария Сфорца. Его убили в Милане за год до моего рождения, и произошло это тоже в церкви.
– Твое появление на свет прямо-таки обставлено заговорами и убийствами!
– У нас, вернее, у них в Италии, – со значением поправился Паоло, – это обычное дело.
– Но почему заговорщики опять выбрали церковь для убийства?
– А где убивать? На охоте, в замке, во время прогулок? Там всегда рядом телохранители. Они не дали бы приблизиться к герцогу близко. Убивать надо в толпе. Но дайте я расскажу вам все по порядку. И в этой истории мне не нравится слово заговорщики, я называю их мстители.
– Пусть будут мстители.
– Милан не был республикой. И герцог Галеаццо Сфорцо, их государь, был дурным человеком. Он был тиран. Кроме того, он был жесток и развратен. Говорили, что он отравил собственную мать, чтобы сосредоточить в своих руках всю власть.
– Мало ли что говорят. Это могли быть просто сплетни, или хуже того – клевета.
– О нет, я верю, что не клевета. Все так очевидно. Престарелая герцогиня, обиженная сыном, отбыла в свое поместье, кажется, в Кремону, а по дороге внезапно умерла. Конечно, она была отравлена! Трое благородных юношей решили отом стить.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































