Текст книги "Венец всевластия"
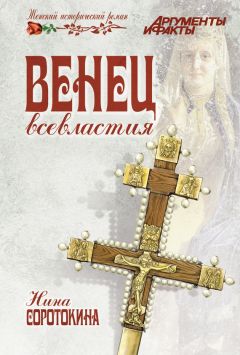
Автор книги: Нина Соротокина
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– О, как прозорливы вы, великодушная. Именно так, хоть и тяжело мне в этом сознаться.
Софья задумчиво посмотрела на юношу.
– Сколько тебе лет?
– Шестнадцать, – выпалил он и тут же добавил со смущенной улыбкой: – Скоро будет. – Весь его вид говорил: вот, опять хотел схитрить, но вижу, что вас не проведешь.
Софья улыбнулась удовлетворенно.
– Ну вот теперь, пожалуй, сыграй мне что-нибудь грустное, – сказала она просто и ласково, словно не со слугой говорила, а с близким и хорошо знакомым человеком. – И будем плакать, вспоминать Италию и благодарить Господа, что обретаемся в Москве.
11
Юлия Сергеевна позвонила с утра. Обычный дежурный звонок.
– Ну как у вас?
– Мы с Сашкой убегаем.
– А Ким?
– Его нет, – голос сух, деловит. – Он ушел вчера за сигаретами и все еще не вернулся.
Выражение «все оборвалось внутри» вовсе не преувеличение, Юлия Сергеевна почувствовала, как сердце ухнуло вниз, стукнулось о желудок и начало подпрыгивать, как бешеный мяч.
– Неужели он посмел? Не испугался?…
– Да пиво он уже пил, и не один раз. На Новый год шампанское пригубил. Просто я вас огорчать не хотела. Но чтоб на ночь исчезать – такого не было. Простите, Юлия Сергеевна, я очень тороплюсь.
– Да, да, я понимаю. Ты звонила Макарычу?
– Конечно. Сразу после Нового года. Он сказал – привозите. Но Ким отказался ехать категорически. Я Сашку одеваю. Простите, вечером позвоню, – ту-ту-ту…
Вечером Любочка позвонила, как обещала.
– Да не волнуйтесь вы, Юлия Сергеевна, ничего с ним не случится.
– Но ведь уже случилось. Наверняка он пил. После кодирования это смертельно опасно!
– Как видите – не смертельно. Его хватило только на полгода. Я устала, Юлия Сергеевна. Я устала бороться. Ничего больше не надо. Пусть что хочет, то и делает. Иван Макарович говорит, что толк будет только в том случае, если Ким сам к нему обратится. Понимаете – сам!
– Ты плачешь? Я сейчас приеду.
– Не надо. Я утром Ленчику Захарченко позвонила. Ну, патлатый такой, они вместе с Кимом выставки организовывают. Не помните?
– Он алкоголик?
– Ленчик? Не знаю. Нет, не алкоголик. Он лгун, подлиза, мелкий книжный клептоман, но он не алкоголик. Позвонила Ленчику, он сказал, что возил вчера Кима какую-то картину посмотреть. Не знаю, какую. Может, купить, может, для выставки. Где-то они пересеклись и поехали по делам. Под картину выпили десять бутылок пива, водки ни-ни. Врет, конечно. Так этот самый Ленчик довел Кима до нашего дома, там они расстались. Ночью, да… Куда Ким потом делся – неизвестно. Да не плачьте вы! Что мы все время рыдаем?
Юлия Сергеевна уселась за пасьянс. Зазвонил телефон.
– Жив Ким. Жив курилка. Мне только что позвонил Олег. Мол, Ким у меня в мастерской, сегодня ночевать не придет, но ты не волнуйся – пить мы ему не дадим. Разве что пивка… Но ему ведь и пивка нельзя.
– Кима надо спасать.
– Как?
– А где эта мастерская?
– Какая разница?
– Она на Полянке, да? – Юлия Сергеевна вспомнила двухэтажный особняк во дворе – приют искусств и возлияний. – Мы как-то с тобой туда за Кимом заезжали.
– Может быть.
– За ним надо ехать.
– Это совершенно бессмысленно. И потом, зачем мне лишние унижения? Он ведь не постесняется закатить при всех безобразную сцену. Скажет, что я за ним слежу, что пытаюсь прятать его себе под подол, а он – вольный человек. Они ведь жен не стесняются, мы для них как бы не люди, а семья – только обуза. Там все уж давно холостяки. Жены с ними не уживаются. Не хочу я туда ехать.
– Да, конечно. Я понимаю. Подождем. Ты только не плачь.
– Я не плачу. У меня просто насморк аллергический. Наверное, на нервной почве.
Ну что же – все правильно. Любочка не несет ответственности из мужа, а она несет. Она мать, ей и суетиться. До метро Юлия Сергеевна добежала бегом. Можно было поймать машину, но как укажешь шоферу правильный адрес? К мастерской она могла танцевать только от печки. Доехать до станции «Полянка», а там, как говорил Ким, «огородами, огородами и к Домбровскому». Такую звучную фамилию носил этот признанный только в очень узких кругах гений, мудрец и пьяница – Олег с Полянки.
Там церковь рядом. Юлия Сергеевна не столько рассмотрела ее в первый приезд, на улице тогда тоже было темно, сколько почувствовала, как гору рядом, как тепло от давно протопленной печки. Конечно, глаз уловил некие архитектурные подробности, и услужливое сознание облекло их в слова: живописный антаблемент, кокошники, фигурные фронтоны с пальметками – словом, добротный XVII век. Она была уверена, что сразу почувствует, что церковь именно та, нужная, а дальше в ста метрах в переулочке двор с неприметным особнячком.
Дом был стар, правое крыло вообще пустовало, а в левом томились какие-то убогие, истово ожидающие переселения, жильцы. Именно в правом, пустом крыле находилась обитая жестью дверь, а за ней коленом изогнутая лестница. Выбежав впопыхах из дому, она не подумала, как попадет в мастерскую. Дверь наверняка закрыта, и стучаться в нее бесполезно. Может быть, ее ждет жалкая участь дожидаться сына на улице? И вдруг неожиданный подарок судьбы! Обитая жестью дверь сама распахнулась и словно вытолкнула во двор молодую пару. У женщины на руках был ребенок. Подвальная темнота еще слала какие-то отдаленные выкрики, последний был: «Просто захлопни!»
– Подождите захлопывать! Мастерская Домбровского здесь? Мне как раз туда надо.
Пара удивилась, но пропустила Юлию Сергеевну без слов возражений.
Затхлость, запах краски, скользкий и холодный, как рельс, поручень и абсолютная темнота. Последнее, что поймала она испуганным взором, перед тем как дверь защелкнулась капканом, были звезды. Они показались необычайно яркими. Им она и стала, как Авраам, молиться, осторожно нащупывая ногой очередную ступеньку. Некоторые из них казались мягкими – гнилыми? Но не может быть, чтобы лестница в подвал была деревянной, наверняка она каменная. Может быть, на ступени тряпья накидали – испачканной красками ветоши? Превозмогая брезгливость, она ставила ногу на эту мягкость (как на дохлую крысу!) и все читала Отче наш… И ведь успокоилась. Более того, она простила в этот момент сына, потому что – отпусти нам грехи наши, как и мы прощаем должников наших. А кого прощать-то? Правительство, олигархов, рэкетиров, Верку Ивановну – стерву с четвертого этажа? Нет, ты прости главного обидчика – сына, который ушел от больного ребенка за спичками, – буквально, как в романе. Ушел за спичками и пропал на два дня. Избитый литературный сюжет. Финн, забыла его фамилию, написал обаятельный роман, над которым хохотали многие поколения на всех континентах. Люди любят пьяниц. Чужих. Своих ненавидят.
Еще поворот, потеплело вдруг, пол стал твердым и устойчивым, полоска света на полу выглядела уютной и надежной. Прежде чем вломиться в чужой мир, она постояла рядом с приоткрытой дверью, прислушалась. Неторопливые, мужские голоса смаковали какой-то текст, в котором она только различила с натугой выкрикнутое имя – Рембрандт.
У них уже все было готово – и колбаска нарезана, и консервы открыты, распластанная на газете селедка отливала серебром, а сын любовно держал в руках непочатую еще бутылку и был полностью готов к разливанию. На лице его застыло выражение… как бы это… довольства, конечно, предвкушения, счастья. Но не это поразило. Главным было выражение полной детской открытости, высшего доверия к миру. И еще взаимной любви со всем мирозданием. Господи, на нее, на мать, он так никогда не смотрел. Разве что в совсем раннем детстве, когда лежал у груди, засыпая, а потом вдруг открывал глаза. Нет, не так. Когда она его кормила грудью, взгляд его был бессмысленным – за гранью. Он ощущал ее не глазами, а телом, кожей, мягкой замшевой щекой. Это уже потом – в три, в пять лет – он просыпался всегда с улыбкой, и ей доставался открытый, без малейшего притворства, без самой малюсенькой задней мысли взгляд. Этот взгляд она должна была сберечь, а потом препоручить другой женщине, и ребенку от этой женщины, а он принес его в пропахший скипидаром подвал, к друзьям-собутыльникам.
И тут только Юлия Сергеевна поняла, что ей нельзя было, ни в коем случае не следовало приходить сюда, что это стыдно – всем здесь присутствующим и ей самой. Сейчас бы уйти, пятясь задом по мягким ступеням, но дело было уже сделано, все глаза были устремлены на нее. Соляным столбом, обрамленным дверным косяком, – вот чем она стала для своего сына.
За столом сидели пять мужчин и одна девица – испуганная, крашеная, вида дешевенького. При виде нежданной гостьи все заулыбались, и непритворно, а вполне искренне. Хозяин дома – аскетически-худой, значительный и гораздо более молодой, чем ей помнилось, встал и придвинул к столу драное кресло. Вот уж гостья так гостья, ах, как хорошо! Юлия Сергеевна готова была поклясться, что сын не разомкнул рта, однако ему удалось напомнить хозяину ее имя-отчество. Но не исключено, что в этой сказочной обстановке мистические силы взвились смерчем, заставив Олега Домбровского самого угадать ее зыбкий, размытый временем облик.
В мастерской хорошо. Кисти в банках похожи на осенние букеты, палитра – смятая радуга, тайна холстов, стоящих лицом к стене. Изнанка серого, натянутого на подрамник полотна чиста, если не считать раскидистой, черной росписи, иногда автор скромнее – ставит только инициалы. В полумраке видны раскрытые, распахнутые полотна – голубые холмы в тумане, чьи-то лица – красивые и не очень, молодые и старые – невольные зрители и собутыльники тихих и буйных попоек. И полная закрытость от мира. Жизнь протекает там, наверху, отгороженная железной дверью и крутой лестницей. «Просто захлопните!» – и ты отшельник и схимник, целое стадо отшельников и схимников…
Хозяин разливал водку, вереща что-то любезное, а сын смотрел исподлобья, понимая, что явление матери не к уютной посиделке, а к полному ее перечеркиванию. И он не ошибся.
Юлия Сергеевна лихо выпила предложенный ей стопарь, вкусно закусила, набрала в грудь воздуха и произнесла речь. С первых же слов она почувствовала их фальшь, но отступать было некуда. Раз закусил удила, будь добр – мчись. По высоте стиля – чистый Шекспир, то есть ни тени юмора, а только высокий, русский надрыв. В грубом, конспективном изложении речь ее выглядела примерно так: «Я пришла, Олег, объявить вам войну. Вы знаете, Киму нельзя пить. Он закодирован. Я его еле вырвала из вашей богемы. Он работает. Он должен ходить на работу».
Все вдруг смутились ужасно, а Олег словно окаменел, и не только лицо, но вся фигура, как в детской игре «Замри». Потом разлепил губы и с усилием сказал:
– Мы тоже, между прочим, работаем. И я ведь никого не тащу сюда силой. Он, Юлия Сергеевна, уже не мальчик и волен отвечать за себя сам.
– Да будет тебе, Олежек. Вы здесь все мужи совершеннолетние, только жены от вас сбежали. Не прокормить их, не защитить вы не в силах. Вы – пьяницы! Вы из пластилина. Для вас жизнь – поговорить и выпить, выпить и поговорить. Я не понимаю, не хочу понять и принять вашего сакрального, бережного отношения к водке. И разговоры я ваши знаю. Вы – страдальцы, вам жить не по силам. А с водкой ведь легче от жизни спрятаться? Правда же? И много под зелье хороших слов наболтать – все о себе любимом. На люмпен, который доводят себя до скотского состояния, я не в претензии. Его, как говорили в девятнадцатом веке, среда заела. А интеллигенцию – пьяную, чванливую, продажную – ненавижу!
– Это кого же мы продали? – Олежек весь был как желвак.
– Россию, – быстро сказала Юлия Сергеевна. – Вы ее пропили. Вы препоручили ее негодяям – заметьте, добровольно! Сами отдали уздечку в руки – управляйте страной – и спрятались в щели, как тараканы. А ведь вы цвет нации, ее генетический фонд. Пропили Россию-то! И баб ваших пропили – всех своих женщин, все поколение.
– А нехмельная, непродажная интеллигенция вам больше нравится? – спросил вдруг сосед Кима за столом, блондин в круглых очках с сильно увеличенными линзами бесцветными глазами.
– Всякую ненавижу! – отрезала Юлия Сергеевна. – Русская интеллигенция обожает ныть. Если при полном штиле тебе вздумалось тонуть – твое право, но не надо при этом тащить с собой все человечество.
– Ну зачем вы так? – сказал кто-то робко, не сказал – вздохнул, ей некогда было рассматривать, кто там вздыхает.
– Я пришла сюда не за разговорами, а за сыном. И я его заберу. Ким, ты идешь со мной? – на ее глазах против воли выступили слезы.
Она совсем не была уверена, что он ее послушает, косая усмешка – сплошная задняя мысль, не предвещала ничего хорошего, но он встал и молча пошел к выходу. Видно, была в ее поведении та степень отчаяния, когда оттолкнуть живое существо – даже если это твоя мать, которая самой природой создана для того, чтобы дети ее отталкивали, было то же, что бросить человека умирать в пустыне, в лесу, в крайнем и абсолютном одиночестве.
И уж совсем неожиданным было, что и Олежек встал и с зажженной свечой пошел их провожать вверх по лестнице. Ступени уже не казались мягкими, и только ветер подвывал где-то в подвальных просторах – о-ох, о-ох… Олежек распахнул перед ней дверь.
– А какая церковь у вас рядом? Как называется?
– Георгия Неокесарийского, – мрачно отозвался Олег. – А что?
– Ничего. Просто так. К слову.
В полном молчании они доехали с Кимом до ее дома на Чистых прудах. К Любочке он больше не вернулся.
12
Елена прибыла в Литву, и в Москву стали поступать первые сведения, из которых было видно, что великий князь Александр принял московскую княгиню с подобающим почтением. Встреча произошла за три версты от Вильны. Князь Семен Ряполовский, сопровождающий Елену, писал: «Сам великий князь сидел верхом на лошади, от коня его до тапканы Елениной послали красное сукно, а у тапканы послы послали по сукну камку с золотом. Елена вышла из топканы на камку, за ней вышли и боярыни. Александр сошел с лошади, подошел к Елене и дал ей руку, приобнял слегка и спросил о здоровье. Потом Елена опять села в тапкану, князь вскочил на коня и все вместе въехали в город». Софья всплакнула, читая эти слова.
В тот же день состоялось венчание. Предварительно Елена в греческой церкви отстояла молебен. Затем боярыни расплели ей косы, на голову надели кику с покрывалом и повели к венцу в церковь Святого Станислава. Князь Ряполовский не оставил без внимания некоторую заминку, случившуюся при великом обряде. Латинский епископ настаивал, что венчание будет производить именно он, и князь Александр его в этом поддерживал. Перепирались долго, но Ряполовский настоял на православном обряде. В результате латинский епископ венчал по-своему, а приехавший с Еленой поп Фома читал свои молитвы. Княгиня Ряполовская держала над невестой венец, а дьяк склянку с вином. Место про заминку царь прочел три раза, потом стукнул кулаком по столу и погрозил неведомо кому.
Но это только так говорится – неведомо, а на самом деле очень даже ведомо. Грозил он не только Литве, а всему чванливому Западу. Поздние историки, состязаясь в остроумии, пишут, что в XV веке для Европы не менее важным событием, чем открытие Америки, было открытие неведомого государства – Московской Руси. Иван III Великий с готовностью откликнулся на иностранное внимание. Дипломатические отношения были налажены не только с Европой, но и с Турцией, Хивой и Бухарой. И все-то московскому государю удавалось, всюду послы его умели найти нужный дипломатический язык.
Но дорожку к соседним государствам должны протаптывать не столько дипломаты, сколько купцы. Иван придавал огромное значение торговле и поддерживал ее, как мог. Даже война не должна была служить препятствием торговым людям. «Хоти полки ходят, а гостю путь не затворен, гость идет на обе стороны без всяких зацепок», – так писалось в государевой грамоте.
Вы знаете, что такое Ганза? Это торговый союз, расцвет средневековой Европы. Англия, Франция, Испания воевали друг с другом, как одержимые, а в Германии возникали вольные города. В тех городах ремесленники и купцы жили и трудились под защитой магдебургского права и богатели без удержу. Что это за право такое, любопытствующий пусть прочитает в другом месте, в одном романе всего не расскажешь.
А на Руси эдак ловко с торговлей не получилось. Русских купцов обижают и в Европах, и на юге, и в Литве сбыта товарам не дают, чинят препятствия. А то и грабят без зазрения совести. Иван сильно обиделся на западных купцов и решил разрубить этот гордиев узел. Ждал только случая, знака, чтобы начать действовать.
И случай представился. Из немецкого города Ревеля пришло сообщение, что тамошние жители учинили над русским купцом гнусную казнь, а именно сожгли его всенародно. Доноситель не сообщил, какой проступок совершил несчастный, прописал только, что русич был уличен в гнусном преступлении. Слово «гнусный» упоминалось в послании два раза, что уже разозлило Ивана, но совсем вывела из себя приписка, де, ревельский народ вел себя на казни гордо, похвалялся силой, и даже нашелся недоумок, который крикнул в толпу: «Мы сожг ли бы и русского князя, если бы он сделал у нас то же».
Жители Ревеля давно были у Ивана на примете. Они считали себя хозяевами на море, поэтому беззастенчиво грабили торговые новгородские судна. Более того, они смели дерзить московским послам, которые ездили в Европу через Неметчину.
Иван не стал выяснять, в чем именно состояло преступление купца-русича. Ганзейские купцы давно стояли поперек горла. Контора Ганзы была и в усмиренном Новгороде. Чтоб выбить из города вольный дух, Иван уже осуществил великое переселение, выслал строптивых прочь из города. А ганзейские купцы словно и не замечали, что Новгород стал тих и покорен, как и прежде, занимали гостиные дворы, так же раскидывали свои палатки, назначали немыслимые цены, отказывались платить надбавку к пошлине. Словом, забыли, что торговать надо без пакостей.
Посетивший Москву барон Герберштейн писал в своих записках с удивлением и восхищением, что царь русский правит своими подданными с небывалой легкостью: «Скажет – и сделано!»
Так было и на этот раз. Иван сказал: «Схватить в Новгороде всех ганзейских купцов, и неважно, из каких они городов – из Ревеля или из прочих немецких. Купцов схватить, а всю торговую рухлядь их, чем торговать хотели, – отобрать».
Скажет – и сделано! Заморских купцов – сорок девять человек – бросили в темницы, для острастки обули в оковы, запечатали их гостиные дворы и лавки, а товары отправили в Москву в казну.
Грустно из нашего далека смотреть на самодурство великого человека. В Европе давно уже поняли – не разоряй купцов и ремесленников, а то и вовсе останешься без денег. Ричард Львиное Сердце (а ведь XII век!), как ни досаждал ему соседствующий с Вестминстером Сити, не стал отнимать у торговцев силой деньги. Зачем разорять кормушку и рубить сук, на котором сидишь? Дави проклятых налогами, но не разоряй товар. Неужели Иван не знал этой простой истины? Можно предположить, что он и не думал на эту тему. Крепкая рука – вот главный аргумент царской власти. «Я вас заставлю себя уважать и торговать так, как мне, а не вам, выгодно!»
Что из этого произошло, об этом разговор дальше, а пока товар ценой в миллион гульденов прибыл на царский двор. Бояре давно пеняли Софье, что она распоряжается государственной казной, как своей собственной. А иначе откуда в царицыных покоях эта небывалая роскошь? Убранством горниц, сенников и светлиц Софья превосходила самого Ивана: лавки и скамьи крыты бархатом с золотой каймой, стольцы-табуреты с парчовыми подушками, а вместо тяжелых седалищ в горнице стоят кресла флорентийской работы. Софья не посмела украсить стены полотнами, на которых итальянские мастера намалевали человечьи лики, но зато развесила всюду ковры, а уж образа в красных углах, главное украшение жилища, так и сияли золотом и драгоценными камнями.
Все так. Но роскошные предметы быта были привезены из Италии в качестве приданого. Ну и, конечно, муж многое подарил, не скупился. Софья желала бы запустить свои полные ручки в царскую казну, но… близок локоток, да не укусишь.
Житие в Московском Кремле было полно тайн. Вот, скажем, построенный еще Дмитрием Донским подземный ход. Этой тайной за семью печатями Иван поделился с женой, сам водил ее по подземелью, а потом вывел в Тайницкую башню, но попроси кто-либо Софью объяснить, как вдругорядь туда попасть, она и не сможет.
Но это дела стародавние. Сейчас в Кремле полным ходом идет строительство, и дьяк Федор Стромилов ладит царю новое каменное подземелье. И опять – куда идет этот ход, кто его строит? Хоть день гуляй по Кремлю, не увидишь признаков подземного строительства.
Еще большей тайной была царская казна. Иван III был богат, это все знали. Предки копили по денежке, и хоть платили татарам дань более двухсот лет, себе тоже оставляли немалые деньги, но потаенно, чтоб не проведали поганые. На пустоту то богатство не тратилось, а завещалось от отца к сыну. Предание рассказывает, что после славной Куликовской битвы разгневанный татарский хан Тохтамыш взял Москву обманом. Церкви с богатством их, царские кладовые, боярское имущество, купеческие товары – все пограбили, сожгли книги в соборных храмах, народу порешили двадцать с лишком тысяч, но главную сокровищницу Руси не нашли. Видно, не тех пытали.
Сколько добра привез Иван III из Новгорода – ведь это уму непостижимо! Отступную дань новгородцев, называемую подарками, везли на трехстах возах. Везли золото, серебро, драгоценности, шубы, утварь, диковинки всякие – всего не перечислишь. Иван одарил царицу одеждой и утварью, изукрасил браслетами, монистами, серьгами, позабавил драгоценными игрушками. Он дал много, но не всё. Царица и опомниться не успела, как богатство растеклось по тайным кладовым. Одной заведовал казначей, другой конюшенный, третью ясельничий держал на замке. Сказывают, есть еще немалая казна на Белозере и в Вологде. Кто в ней держит ключи – неведомо.
А то, что прозывали «царицыной казной» – это только женские игрушки на каждый день. Правда, ткани тоже были немалым богатством, тут тебе и аксамит с серебряной и золотой нитью, и алтабас, и тончайшая двусторонняя камка. Дворецкий без звука выдавал Софье для приемов любую серебряную посуду, смарагды и яхонты, чтоб изукрасить одежду. И каждую мелочь учитывал по бумажке.
Новгородский привоз давно был, Софья тогда по молодости лет еще не окрепла духом, а за двадцать лет правления она почувствовала себя хозяйкой, поэтому, прослышав, что ночью привезли отнятое у Ганзы добро, приказала с утра обрядить себя в шубу и поспешила на служебный двор, где находились главные кладовые. Там приказчики сортировали добро и рассылали его по назначению: зерно в житницы, соль – на Солянку в подземные, сухие погреба, а золото и драгоценности – в сокровищницу в неведомые тайники.
Возов у служебной избы уже не было, снег изрыли, ископали, всюду валялась рогожа, рваные вервия, остатки кострищ исходили слабым дымком. Видно, споро работали, всю ночь таскали тюки, ноги сбили. Завидя царицу, приказчики засуетились, загалдели. Как из-под земли вырос дворецкий и застыл в поклоне, а заслышав строгий приказ, быстро пошел вперед, чтоб успеть растворить перед царицей дверь. Все сени были завалены тюками. Софья пошла в обширную повалушу. Свет здесь обычно был убог, потому что оконца больше напоминали щели, однако сейчас в помещении было светло, как на улице. У полок с драгоценной рухлядью стояло двое служек с фонарями, а высокий, незнакомый приказчик ловко отмерял фламандский гранатового цвета бархат. Была в помещении еще одна фигура, в которой изумленная Софья признала невестку.
– Ты как здесь?
– У нас грамотка, – пролепетал испуганный приказчик, и Елена протянула Софье какой-то невразумительный, с двух сторон исписанный, листок бумаги.
– Нам сам государь дать ее изволил, – подтвердила Елена, – там все написано, что взять на нужды мои и сына.
Список, на взгляд Софьи, был слишком велик. Застывший вначале разговора приказчик – бархат красивыми складками стекал до самого полу – встрепенулся и опять с неприличной скоростью принялся мотать ткань. Софья отметила про себя, как длиннорук этот верзила и мера его длины – локоть, куда больше, чем полагалось ей быть по мерке. Из-за этого она особенно взъярилась и, забыв о царском достоинстве и силе слова, неожиданно для самой себя принялась выдирать бархат из быстрых, ловких рук – при такой скорости этот обалдуй всю ткань Елене отмотает!
– Матушка, что вы, успокойтесь! – взмолилась Елена.
Если приказчик сразу не выпустил из рук бархат, то не иначе как с перепугу. Он отпускал ткань, как мерил – длину за длиной, и ткань цвета крови волнами укладывалась у царицыных ног.
– А вот и отдашь, вот и отдашь, – приговаривала Софья. – Такие бархаты не про твою честь. Гранатовый цвет – царский!
– Матушка, если вы хотите непременно гранатовый – ваше право. Я себе смарагдовый цвет возьму. Государь сказал – выбери, какой пожелаешь.
Волошанке-негоднице он сказал, а про царицу, законную хозяйку всех богатств, позабыл! Последняя мера бархата легла у Софьиных ног, она отерла вспотевший лоб и сказала с придыханием:
– Какой пожелаешь? А что это тебе вздумалось что-то желать? И как ты посмела к государю идти со своими глупыми желаниями. Хочешь подарок получить – жди своего часа. Если не терпится, то попроси. Но у меня, слышишь, у меня! – тяжелой от перстней рукой Софья то тыкала себя в грудь, то грозила Елене, то негодующе и брезгливо показывала приказчику – пошел вон! А тот, дурак, стоял столбом, запустив глаза в цареву грамотку, где перечислены были еще и сукна, и тафта на полавочники, и безделушки для юного князя.
И вдруг Софья успокоилась. Как озарение пришла к ней простая мысль, что криком ничего не добьешься, что против Елены и пащенка ее действовать можно только лаской, приветом и интригой. Да и что в самом деле она раскудахталась? Кто посмеет оспаривать царев приказ? Что написано, то написано.
Тихой яркой змейкой вползла Елена в сердце Ивана. На Руси говорят – жалеет, значит, любит. В любовную страсть мужа Софья не верила. И не потому, что Иван старик – пятьдесят пять лет. Женским своим чутьем Софья угадывала, что прекрасный пол и раньше занимал в жизни мужа мало места. В постели он был прилежен и ласков, но, справив мужскую нужду, тут же засыпал, для того чтоб на утро забыть все, что было ночью. Голова Ивана была заполнена делами государственными. Но о безвременно ушедшем сыне он скорбел, и часть этой скорби изливалась на пригожую невестку и малолетнего внука.
Наверное, как-нибудь ввечеру, усталый после дневных дел, а может быть, отстояв вечерю и оттого проникнутый святыми мыслями, заглянул царь в светелку Елены, увидел, как почивает внук, или застал Дмитрия за чтением книг, до которых, говорят, двенадцатилетний отрок очень прилежен. Неважно, что размягчило сердце Ивана, когда он велел отписать Елене грамотку, мол, придут товары ганзейских купцов, выбери себе подарочек, погрей душу.
– Возьми смарагдового бархату, – милостиво сказала Софья. – Хватит тебе тусклые, вдовьи тона носить. А этот – гранатовый – оставь. Красный цвет царице больше к лицу, чем прочий.
Уже в дверях она сказала дворецкому:
– Я сюда опосля зайду. А ты смотри, все точно по грамотке выдай.
Распорядилась, словно дворецкий мог поступить иначе. Да не приведи господь! А может, государыня боится, что княгиня Елена лишнее унесет? Дворецкий тут же отогнал от себя крамольные мысли.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































