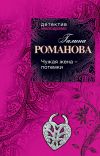Текст книги "Провинциальная муза"

Автор книги: Оноре Бальзак
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
– Вы слишком выдающаяся женщина, и другие женщины любить вас не могут, – ответил прокурор.
Господин Гравье, к которому бедная покинутая Дина обратилась с тем же вопросом, заставил бесконечно себя просить и наконец сказал:
– Но, моя красавица, вы не довольствуетесь тем, что очаровательны, вы – умница, образованная, вы много читали, вы любите поэзию, вы музыкантша, вы восхитительно владеете разговором. Женщины не прощают стольких преимуществ!..
Мужчины говорили г-ну де ла Бодрэ:
– Ваша жена выдающаяся женщина, вы должны быть очень счастливы.
И в конце концов ла Бодрэ сам стал говорить:
– Моя жена выдающаяся женщина, я очень счастлив, – и т. д.
Госпожа Пьедефер, возгордившись успехами дочери, тоже позволяла себе изрекать фразы вроде следующей:
– Моя дочь выдающаяся женщина! Она написала вчера госпоже де Фонтан то-то и то-то.
Кто знает свет, Францию, Париж, разве не согласится, что множество знаменитых репутаций создалось подобным образом?
По прошествии двух лет, к концу 1825 года Дину де ла Бодрэ обвинили в том, что она оказывает гостеприимство только одним мужчинам, и вменили ей в преступление ее отчужденность от женщин. Всякий ее поступок, даже самый невинный, подвергался обсуждению и кривотолкам. Пожертвовав чувством собственного достоинства, насколько это возможно для воспитанной женщины, и пойдя им навстречу, г-жа де ла Бодрэ допустила большую ошибку, ответив одной лжеприятельнице, явившейся оплакивать ее одиночество:
– Лучше пустой стол, чем стол с пустой посудой.
Эта фраза произвела ужасающий эффект в Сансере и впоследствии была безжалостно обращена против самой Сафо из Сен-Сатюра, когда сансерцы, видя ее бездетной после пяти лет замужества, стали глумиться над маленьким ла Бодрэ.
Чтобы понять эту провинциальную шутку, нужно напомнить тем, кто его знал, герцога д'Эрувиля, о котором говорили, что он самый храбрый человек в Европе, ибо отваживается ходить на жиденьких своих ножках; уверяли также, будто он кладет себе в башмаки свинец, чтобы его не сдуло ветром. Г-н де ла Бодрэ, человечек с желтым и почти прозрачным лицом, годился бы в первые камергеры при герцоге д'Эрувиле, если бы этот обер-шталмейстер Франции был по крайней мере великим герцогом Баденским. Г-н де ла Бодрэ, у которого ноги были так тонки, что он из приличия носил накладные икры, бедра были не толще предплечий нормально сложенного человека, а туловище довольно явственно напоминало майского жука, служил бы постоянным утешением для самолюбия герцога д'Эрувиля. Во время ходьбы маленький винодел частенько водворял на место вертевшиеся на голенях накладные икры, не делая из этого ни малейшей тайны, и благодарил тех, кто указывал ему на сию маленькую неисправность. Он продолжал носить короткие панталоны, черные шелковые чулки и белый жилет вплоть до 1824 года. Но после женитьбы надел длинные синие панталоны и сапоги на каблуках, что всему Сансеру дало повод говорить, будто он прибавил себе два дюйма росту, чтобы дотянуться до подбородка жены. Десять лет подряд на нем видели все тот же сюртучок бутылочного цвета, с большими пуговицами из белого металла, и черный галстук, оттенявший его холодное хитрое личико, на котором блестели серо-голубые глаза, проницательные и спокойные, как глаза кошки. Мягкий, подобно всем людям, следующим раз начертанному плану, он, казалось, составил счастье своей жены, никогда явно ей не противоречил, уступал ей на словах и довольствовался тем, что действовал не спеша, но с цепкостью насекомого.
Вызывая поклонение своей несравненной красотой, восхищая своим умом самых светских мужчин Сансера, Дина поддерживала это восхищение разговорами, к которым, как говорили впоследствии, она заранее готовилась. Она видела, что ее слушают с восторгом, мало-помалу сама привыкла себя слушать, а кончила тем, что, войдя во вкус высокопарной речи, стала смотреть на своих друзей как на наперсников в трагедии, которые должны только подавать ей реплики. К тому же она обзавелась великолепной коллекцией фраз и идей – частью путем чтения, частью усваивая мысли своих постоянных собеседников, и превратилась в своего рода шарманку, которая начинала свои песенки, чуть только разговор случайно задевал ее рычажок. Жадная к знаниям – отдадим ей эту справедливость, – Дина читала все, даже книги по медицине, статистике, естественным наукам и юриспруденции, потому что, осмотрев свои цветники и отдав распоряжения садовнику, она не знала, куда девать утренние часы. Одаренная прекрасной памятью и присущим некоторым женщинам умением находить подходящие слова, она могла говорить о чем угодно ясным, затверженным слогом. Зато все – из Кона, Шарите, Невера с правого берега Луары, из Лере, Вальи, Аржана, из Бланкафора и Обиньи с берега левого – спешили представиться г-же де ла Бодрэ, подобно тому как в Швейцарии представлялись г-же де Сталь. Те, кто не более одного раза слышал песенки этой швейцарской музыкальной табакерки, уезжали ошеломленные и рассказывали о Дине такие чудеса, что на десять лье кругом женщины проникались завистью.
В восхищении, внушаемом людям, как и в постоянном разыгрывании взятой на себя роли, таится для кумира нечто опьяняющее, что заглушает в нем критическое чутье. Может быть, состояние непрестанного нервного подъема создает как бы сияние, сквозь которое видишь мир где-то далеко внизу, у своих ног? Чем же иным объяснить то неизменное простодушие, с каким снова и снова повторяются одни и те же представления с теми же эффектами, несмотря на замечания детей, столь беспощадных к своим родителям, или мужей, давно раскусивших невинное плутовство своих жен? Г-н де ла Бодрэ отличался непосредственностью человека, раскрывающего зонтик при первых каплях дождя; когда его жена поднимала вопрос о торговле неграми или о тяжкой доле каторжников, он брал свою голубенькую фуражку и бесшумно скрывался, вполне уверенный, что успеет сходить в Сен-Тибо, чтобы присмотреть там за выгрузкой бочек, и, вернувшись через час, застанет дискуссию в полном разгаре. Если же ему делать было нечего, то он отправлялся на бульвар, откуда открывается восхитительный вид на долину Луары, и прогуливался на свежем воздухе, пока жена его исполняла какую-нибудь словесную сонату или философический дуэт.
Заняв однажды положение выдающейся женщины, Дина захотела дать видимые доказательства своей любви к самым замечательным произведениям искусства, причем, живо восприняв идеи романтической школы, она включала в понятие искусства поэзию и живопись, книги и статуи, мебель и оперу. Поэтому она стала поклонницей Средневековья. Она разведала также, где могут встретиться редкости, относящиеся к эпохе Возрождения, и превратила своих поклонников в самоотверженных комиссионеров. Так, в первые дни замужества она приобрела мебель г-на Руже на распродаже, состоявшейся в Иссудене в начале 1824 года. Она накупила прекрасных вещей в Нивернэ и по Верхней Луаре. На новый год или ко дню рождения ее друзья непременно подносили ей какую-нибудь диковинку. Г-н де ла Бодрэ милостиво взирал на фантазии жены и делал вид, что согласен пожертвовать несколько экю на ее прихоти, – в действительности же землевладелец думал только о своем замке Анзи. Эти «антики» стоили тогда гораздо дешевле, чем современная мебель. Через пять или шесть лет передняя, столовая, обе гостиные и будуар, который Дина устроила себе в первом этаже Ла-Бодрэ, – все, вплоть до лестничной клетки, было битком набито шедеврами, собранными в четырех близлежащих департаментах. Эта обстановка, казавшаяся всему городу странной, вполне гармонировала с Диной. Чудеса искусства, которым вскоре предстояло вновь войти в моду, поражали воображение гостей; все ждали чего-то необыкновенного, но эти ожидания бывали далеко превзойдены, когда, сквозь море цветов, взорам гостей открывались целые катакомбы старинных вещей, расставленных, как у покойного Дюсомерара14, этого мебельного «кладбищенского старика»! К тому же всякий вопрос об этих достопримечательностях как бы нажимал некую пружинку, вызывавшую целый фонтан тирад о Жане Гужоне, Мишеле Коломбе, Жермене Пилоне, о Буле, о Ван-Хейсоме, о Буше – этом великом художнике-беррийце;15 о Клодионе, резчике по дереву, о венецианских инкрустациях, о Брустолоне, итальянском мастере – этом Микеланджело резьбы по дубу; о тринадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом и семнадцатом веках, об эмалях Бернарда Палисси или Петито, о гравюрах Альбрехта Дюрера16 (Дина говорила «Дюр»), о раскрашенных пергаментах, о готике «цветистой», «пламенеющей», «сложной», «чистой» – фонтан тирад, приводивший в бесчувствие старцев и в восторг юношей.
Одушевленная желанием оживить Сансер, г-жа де ла Бодрэ попыталась учредить так называемое литературное общество. Председатель суда, г-н Буаруж, который в то время не знал, как сбыть с рук дом с садом, доставшийся ему по наследству от Попино-Шандье, одобрил создание этого общества. Хитрый чиновник явился к г-же де ла Бодрэ условиться о его уставе, выразив желание быть одним из основателей, и сдал дом на пятнадцать лет в аренду литературному обществу. На второй год там уже играли в домино, в бильярд, в бульот, запивая игру горячим подслащенным вином, пуншем и ликерами. Несколько раз там устраивались небольшие изысканные ужины, а на масленице – костюмированные балы. Что касается литературы, то там читали газеты, обсуждали политические вопросы и говорили о делах. Г-н де ла Бодрэ прилежно посещал это общество – «ради жены», говаривал он шутя.
Такой результат глубоко огорчил возвышенную женщину; она поставила крест на Сансере и с той поры сосредоточила все лучшие умы города в своем салоне. Но, несмотря на все искренние старания господ де Шаржбеф, Гравье, де Кланьи, аббата Дюре, первого и второго товарищей прокурора, молодого врача, молодого заместителя судьи – слепых обожателей Дины, бывали минуты, когда, выбившись из сил, они позволяли себе экскурсы в область тех приятных пустяков, которые составляют основу всех светских разговоров. Г-н Гравье называл это «переходом от назидательного к утешительному». Спасительным отвлечением от почти сплошных монологов божества служил вист аббата Дюре. Три соперника, утомившись от прений «наивысшего порядка», как именовали они свои беседы, но не смея показать и малейшего пресыщения, иногда с ласковым видом обращались к старому священнику:
– А господину кюре до смерти хочется составить партийку, – говорили они.
Сметливый кюре довольно успешно приходил на помощь своим лицемерным сообщникам; он отнекивался, он восклицал:
– Мы слишком много потеряем, перестав внимать нашей прекрасной вдохновительнице!
И пробуждал великодушие в Дине, которой в конце концов становилось жаль своего дорогого кюре.
Этот смелый маневр, изобретенный супрефектом, производился с такой ловкостью, что Дина ни разу не заподозрила своих невольников в бегстве на зеленое поле карточного стола. В таких случаях ей оставляли на растерзание молодого товарища прокурора или врача. Один юный домовладелец, сансерский денди, потерял милость Дины вследствие того, что несколько раз неосторожно проявил свои чувства. Добившись чести быть допущенным в этот храм и лаская себя надеждой похитить из него цветок, охраняемый признанными служителями, он имел несчастье зевнуть во время объяснения философии Канта – правда, четвертого по счету, которым удостоила его Дина. Г-н де ла Томасьер, внук беррийского историка, был объявлен человеком, совершенно лишенным понимания и души.
Трое штатных влюбленных примирились с непомерной затратой ума и внимания в надежде на сладчайшую из всех побед, которая придет, когда Дина станет сговорчивее, ибо никто из них и думать не смел, что она расстанется с супружеской верностью прежде, нежели утратит свои иллюзии. В 1826 году Дина, достигшая тогда двадцатилетнего возраста, была окружена особым поклонением, и аббат Дюре счел нужным поддерживать в ней католический пыл; поэтому ее обожатели довольствовались малым – они не скупились на мелкие заботы, услуги и знаки внимания, счастливые уже тем, что гости, которым доводилось вечера два провести в Ла-Бодрэ, принимали их за церемониймейстеров двора этой королевы.
– Госпожа де ла Бодрэ – это плод, которому надо дать созреть, – таково было мнение г-на Гравье, готового подождать.
Что до прокурора, то он писал письма на четырех страницах, и Дина отвечала на них успокоительными речами, когда прогуливалась после обеда вокруг лужайки, опершись на руку своего обожателя. Хранимая этой тройной любовью и, сверх того, присмотром богомольной матери, г-жа де ла Бодрэ избегла уколов злословия.
Ни один из этих трех мужчин никогда не оставлял соперника наедине с г-жой де ла Бодрэ, это всем бросалось в глаза; и их ревность служила потехой для всего Сансера. От Порт-Сезара до Сен-Тибо существовала в то время дорога много короче той, что ведет через Большие валы; такие дороги в горных странах зовутся «курьерскими», а в Сансере ее называли «костоломкой». Само название указывает, что это была тропинка, проложенная по крутому склону горы, загроможденная камнями и стиснутая между изгородями виноградников. «Костоломка» укорачивает путь от Сансера до Ла-Бодрэ. Женщины, завидовавшие Сафо из Сен-Сатюра, нарочно прогуливались по бульвару, чтобы наблюдать этот Лоншан местных властей, часто останавливая и вовлекая в разговор то супрефекта, то прокурора, проявлявших в таких случаях признаки нетерпения или дерзкой рассеянности. Так как с бульвара открывается вид на башенки Ла-Бодрэ, то не один молодой человек приходил сюда созерцать обиталище Дины, завидуя привилегии десятка или дюжины завсегдатаев проводить вечера возле королевы Сансера. Г-н де ла Бодрэ скоро заметил, что звание мужа возвышает его во мнении поклонников его жены, и, с полнейшей откровенностью воспользовавшись их услугами, добился снижения налога и выиграл два маленьких процесса. Во всех своих распрях – а де ла Бодрэ, как все карлики, был сутяга и мелочно придирчив, хотя и мягок в приемах, – он давал почувствовать, что за ним стоит прокурор, и люди отступались от всех своих притязаний.
Но чем ярче блистала невинность г-жи де ла Бодрэ, тем менее понятным становилось ее положение в глазах любопытствующих женщин. Бывало, дамы известного возраста, собравшись у г-жи Буаруж, жены председателя суда, по целым вечерам обсуждали между собой семейную жизнь четы де ла Бодрэ. Все чувствовали здесь какую-то тайну, а разгадка подобных тайн живо интересует женщин, знающих жизнь. Действительно, в Ла-Бодрэ разыгрывалась одна из тех длинных и скучных супружеских трагедий, которые навсегда остались бы неизвестными, если бы проворный скальпель девятнадцатого века, в жадных поисках новизны, не занялся исследованием самых темных уголков сердца или, если хотите, тех его уголков, которые щадила стыдливость прошедших веков. Эта домашняя драма служит достаточным объяснением добродетельной жизни Дины в первые годы ее замужества.
Девушка, успехи которой в пансионе Шамароль имели побудительной причиной гордость, первый расчет которой был вознагражден первой победой, не должна была остановиться на таком славном пути. Как ни был жалок на вид г-н де ла Бодрэ, но для девицы Дины Пьедефер он был поистине неожиданной партией. Какая тайная мысль могла быть у этого винодела, когда он в сорок четыре года женился на семнадцатилетней девушке, и что она могла ожидать от него? Вот был первый предмет размышлений Дины. Этот человечек постоянно обманывал ее ожидания. Так, в самом начале он позволил ей взять два драгоценных гектара земли около Ла-Бодрэ, пропавшей без пользы под ее садовыми затеями, и, можно сказать, щедрой рукой отсыпал семь или восемь тысяч франков на внутреннее устройство дома, производившееся по указаниям Дины, которая могла тогда купить в Иссудене мебель г-на Руже и осуществить свои замыслы декораций – как средневековых, так и в стиле Людовика XIV и Помпадур. В то время молодой новобрачной трудно было поверить, что г-н де ла Бодрэ так скуп, как ей говорили, она даже думала, что приобрела над ним некоторую власть. Это заблуждение продолжалось полтора года. После второго путешествия г-на де ла Бодрэ в Париж Дина почувствовала в нем тот ледяной холод, каким веет от провинциального скряги, когда дело коснется денег. Обратившись к мужу в первый раз с просьбой отдать ей ее капитал, Дина разыграла грациознейшую комедию, секрет которой идет еще от Евы; но маленький человечек напрямик объявил жене, что он дает ей двести франков в месяц на личные расходы, выплачивает г-же Пьедефер тысячу двести франков пожизненной ренты за поместье де-Ла-Отуа, и, таким образом, тысяча экю ее приданого ежегодно превышается на двести франков.
– Я уж не говорю о расходах по дому, – сказал он в заключение, – я не запрещаю вам угощать по вечерам чаем с бриошами ваших друзей, потому что вам нужно развлечение, но до женитьбы у меня не уходило и полутора тысяч франков в год, а теперь я трачу шесть тысяч франков, считая налоги и деловые расходы, а это уж чересчур, если принять в соображение самую природу нашего состояния. Винодел может быть уверен только в своем расходе: обработка земли, подати, бочки; тогда как доход зависит от солнечного луча или заморозка. Мелкие землевладельцы вроде нас, прибыли которых далеко не верны, должны исходить из своего минимума, так как им не из чего покрыть лишний расход или убыток. Что с нами станется, если прогорит какой-нибудь виноторговец? Поэтому будущая прибыль для меня все равно, что журавль в небе. Чтобы жить, как мы живем, нам всегда нужно иметь деньги на год вперед и рассчитывать только на две трети нашего дохода.
Стоит женщине встретить сопротивление, как ей захочется сломить его; а Дина столкнулась с железной волей, скрытой под ватой мягчайших манер. Она попробовала было пробудить в этом человечке сомнения и ревность, но увидела, что он защищен самой оскорбительной невозмутимостью. Уезжая в Париж, он расставался с Диной так же спокойно, как спокоен бывал Медор за верность Анжелики.17 Когда же она приняла холодный и надменный вид, чтобы задеть за живое этого уродца презрением, – прием, применяемый куртизанками против своих покровителей и действующий на них с точностью винта на пресс, – г-н де ла Бодрэ лишь устремил на жену пристальный взгляд кота, который посреди домашнего переполоха не тронется с места, пока ему не пригрозят пинком. Необъяснимая озабоченность, проступавшая сквозь это немое равнодушие, довела двадцатилетнюю женщину почти до ужаса; она не сразу поняла эгоистическое спокойствие этого человека, похожего на треснувший горшок и выверявшего, чтобы существовать на свете, весь ход своей жизни с той же неуклонной точностью, с какой часовщики выверяют маятник. Поэтому маленький человечек постоянно ускользал от своей жены; сражаясь с ним, она всегда метила на десять футов выше его головы.
Легче понять, чем описать приступы ярости, которым предалась Дина, когда увидела, что ей не вырваться ни из Бодрэ, ни из Сансера, – ей, мечтавшей управлять состоянием и поведением этого карлика, которому она, великанша, сперва подчинилась, в надежде им повелевать. Рассчитывая когда-нибудь появиться на великой арене Парижа, она мирилась с пошлой лестью своих придворных кавалеров; ей хотелось, чтоб из избирательной урны было вынуто имя г-на де ла Бодрэ, ибо она поверила в его честолюбие, когда, трижды побывав в Париже, он всякий раз поднимался ступенькой выше по социальной лестнице. Но, обратившись однажды к сердцу этого человека, она увидела, что стучит о камень!.. Бывший податной инспектор, бывший референдарий, бывший судейский чиновник по принятию прошений, кавалер Почетного легиона, королевский комиссар был попросту крот, занятый рытьем своих подземных ходов вокруг какого-то виноградника! Элегическими жалобами она тронула тогда сердце прокурора, супрефекта и даже г-на Гравье, и все они еще больше привязались к этой благородной страдалице, потому что она, как, впрочем, и все женщины, старательно избегала говорить о своих расчетах и, опять же, как все женщины, не имея возможности наживаться, порицала всякую наживу.
Дина, истомленная этими внутренними бурями, дожила в неопределенности до поздней осени 1827 года, когда вдруг разнеслась весть о приобретении бароном де ла Бодрэ поместья Анзи. Старичок внезапно оживился в порыве горделивой радости, на несколько месяцев изменившей и настроение его жены; когда он начал хлопотать об учреждении майората, ей даже почудилось в нем какое-то величие. Торжествуя, маленький барон восклицал:
– Дина, в один прекрасный день вы будете графиней!
И между супругами состоялось одно из тех внешних примирений, которые не бывают прочны и столько же утомляют, сколько унижают женщину, видимые достоинства которой ложны, а скрытые – истинны. Такое странное противоречие встречается чаще, нежели думают. Дина, которую делали смешной заблуждения ее ума, обладала высокими душевными качествами, но обстоятельства не давали повода проявиться этой редкой нравственной силе, а ум ее под влиянием провинциальной жизни все больше разменивался на мелкую монету, и к тому же фальшивую. По закону противоположности, г-н де ла Бодрэ, бессильный, бездушный и неумный, спокойно следуя раз принятой линии поведения, отступить от которой ему не позволяла его хилость, должен был в свое время показать себя человеком большого характера.
Это был первый, длившийся шесть лет, период их супружеской жизни; за это время Дина – увы! – стала провинциалкой. В Париже есть всякого рода женщины: есть герцогини и жены финансистов, посланницы и жены консулов, жены нынешних министров и жены бывших министров, есть светская женщина с правого берега Сены и светская женщина с левого ее берега; но в провинции есть только одна женщина, и эта бедная женщина – провинциалка. Это наблюдение указывает на одну из глубоких язв нашего современного общества. Запомним хорошенько! Франция в девятнадцатом веке разделена на две большие зоны: Париж и провинцию – провинцию, завидующую Парижу, и Париж, вспоминающий о провинции только, когда ему нужны деньги. Некогда Париж был первым из городов провинции, а двор первенствовал над городом, ныне весь Париж – двор, а вся провинция – город. Как бы блистательна, как бы прекрасна и сильна ни была при своем вступлении в жизнь девушка, родившаяся в каком-либо департаменте, но если она, подобно Дине Пьедефер, выходит замуж в провинции и там остается жить, – она вскоре делается провинциалкой. Несмотря на ее твердую решимость не поддаваться пошлости, убожество мысли, равнодушие к одежде, сорняк грубости заглушают священный огонек, теплящийся в этой свежей душе, и все кончено: прекрасное растение гибнет. И как может быть иначе? В провинции молодая девушка с самого раннего возраста видит вокруг себя только провинциалов; других, получше, взять неоткуда, выбирать приходится среди одних посредственностей; провинциальные отцы выдают своих дочерей только за провинциальных холостяков; никому не приходит в голову скрещивать породы, ум неизбежно вырождается, и во множестве городов способность мыслить уже сделалась настолько же редкой, насколько там дурна кровь. Человек хиреет там душою и телом, так как гибельный имущественный расчет господствует над всеми другими условиями брака. Люди талантливые, артисты, люди выдающиеся – всякая птица с яркими перьями улетает в Париж. Униженная, как женщина вообще, провинциалка унижена еще и в своем муже. Попробуйте-ка быть счастливой с этими двумя гнетущими мыслями! Но униженность в браке и униженность самого положения усугубляется еще третьей и страшной униженностью, которая придает образу провинциалки сухость и мрачность, умаляет, мельчит его, накладывает роковой грим. Разве тщеславию женщины не льстит больше всего уверенность, что она занимает не последнее место в жизни выдающегося мужчины, ею самой сознательно выбранного, как бы в отместку за замужество, где с ее вкусами мало посчитались? Однако, если в провинции среди женатых нет выдающихся людей, то среди холостяков их еще меньше. Таким образом, когда провинциалка совершает грехопадение, предметом ее любви всегда оказывается так называемый красавец или местный денди – молодой человек, который носит перчатки и слывет хорошим наездником; но в глубине сердца она знает, что чувства ее направлены на ничтожество, более или менее хорошо одетое. Дине эта опасность не угрожала благодаря внушенному ей представлению о ее собственном превосходстве. Если бы в первое время замужества она и не была под надежной охраной матери, присутствие которой стало для нее помехой только когда появился интерес избегнуть надзора, – все равно ее охранила бы гордость и та высота, на которую она вознесла свою жизнь. Она была польщена, увидев себя окруженной поклонниками, но возлюбленного среди них она не нашла. Ни один мужчина не соответствовал тому поэтически-идеальному образу, который она когда-то набросала вместе с Анной Гростет. Иной раз, невольно поддаваясь соблазну, пробужденному в ней поклонением мужчин, она говорила себе: «Кого же мне выбрать, если уж все равно придется уступить?» – и в мыслях отдавала предпочтение г-ну де Шаржбефу, дворянину знатного рода, внешность и манеры которого ей нравились; но холодный ум, эгоизм, честолюбие, ограниченное префектурой и выгодным браком, ее возмущали. По первому слову родных, опасавшихся, что он погубит карьеру из-за любовной связи, виконт, еще молодой супрефект, без всяких угрызений совести бросил обожаемую женщину. Наоборот, личность г-на де Кланьи, единственного, чей ум говорил уму Дины, чье честолюбие имело целью любовь и кто умел любить, в высшей степени не нравилась Дине. Когда выяснилось, что ей суждено еще шесть лет оставаться в Ла-Бодрэ, она решила принять ухаживания г-на виконта де Шаржбефа; но его назначили префектом, и он уехал из города. К большому удовольствию прокурора, новый супрефект оказался человеком женатым, и жена его стала близкой приятельницей Дины. У г-на де Кланьи оставался теперь только один соперник – г-н Гравье. Но г-н Гравье был из тех сорокалетних мужчин, ухаживание которых женщины принимают и над которыми в то же время смеются, искусно и без угрызений совести поддерживая в них надежду и дорожа ими, как мы дорожим вьючным животным. За шесть лет среди всех, кто ей был представлен, на двадцать лье кругом, Дина не нашла человека, при виде которого она ощутила бы то волнение, которое вызывается красотой, верой в счастье, соприкосновением с возвышенной душой или предчувствием любви, пусть даже несчастной.
Итак, ни одно из драгоценных свойств Дины не могло проявить себя, она глотала обиды, нанесенные ее гордости, постоянно оскорбляемой мужем, который таким невозмутимым и безмолвным статистом ходил по ее жизненной сцене. Вынужденная зарывать в землю сокровища своей любви, она отдавала обществу только свои внешние качества. Временами она встряхивалась, она хотела принять мужественное решение; но материальная зависимость держала ее на привязи. Так, постепенно, несмотря на честолюбивые порывы, несмотря на жалобные упреки рассудка, она претерпевала все только что описанные провинциальные превращения. Каждый день уносил клочок ее первоначальных решений. Она составила себе программу забот о туалете, но мало-помалу отступила от нее. Если сначала она одевалась по моде и следила за мелкими новинками в области роскоши, то вскоре вынуждена была ограничить свои расходы суммой, получаемой от мужа. Вместо четырех шляп, шести чепчиков, шести платьев она стала довольствоваться одним платьем в сезон. Найдут, бывало, что она особенно хороша в такой-то шляпке, – и Дина носит эту шляпку на следующий год. И так во всем. Нередко она жертвовала нуждами туалета ради приобретения какой-нибудь готической мебели. Наконец на седьмом году замужества она уже считала удобным заказывать свои утренние платья лучшей из местных портних, которая шила под ее наблюдением. Ее мать, муж и друзья находили, что она очаровательна в этих недорогих туалетах, отмеченных присущим ей вкусом. Ей стали подражать!.. У Дины перед глазами не было для сравнения никакого образца, и она попалась в расставленные провинциалкам сети. Если у парижанки недостаточно красиво обрисованы бедра, то изобретательный ум и желание нравиться помогут ей найти какое-нибудь героическое средство против этой беды; если у нее есть какой-либо недостаток, крупица уродства, какой-нибудь изъян, она сумеет и их сделать привлекательными – это часто встречается; провинциалка же – никогда! Если талия у нее чересчур коротка, если полнота у нее развивается не там, где ей надлежит быть, – что ж, она покоряется своей участи, и поклонники, под страхом лишиться ее благосклонности, должны принять ее такой, какова она есть, тогда как парижанка всегда хочет и умеет казаться не тем, что она есть. Отсюда эти нелепые фигуры, эта резкая худоба или смешная пухлость, эти некрасивые линии, наивно выставленные напоказ, – привычные всему городу, но вызывающие удивление, когда провинциалки появляются в Париже или перед парижанами. Дина, у которой была стройная талия, преувеличенно ее подчеркивала и сама не заметила, как, исхудав от тоски, стала смешной, напоминая одетый в платье скелет. Друзья Дины, видя ее ежедневно, не замечали едва ощутимых перемен в ее внешности. Это явление – одно из естественных следствий провинциальной жизни. Молодая девушка, выйдя замуж, еще некоторое время сохраняет красоту, и все его любуются; но все видят ее ежедневно, а когда видятся ежедневно, наблюдательность притупляется. Если, подобно г-же де ла Бодрэ, женщина несколько поблекнет, это едва замечают. Больше того, появись у нее в лице небольшая краснота, – это всем понятно, это даже интересно. Легкая небрежность в туалете восторженно приветствуется. К тому же лицо так хорошо изучено, так привычно, что на небольшие изменения почти не обращают внимания и, может быть, в конце концов даже принимают их за родимые пятна. Перестав обновлять к каждому сезону свой туалет, Дина, казалось, сделала уступку местной философии.
То же происходит с языком, оборотами речи, с мыслью и чувствами – духовно опускаются так же, как и физически, если ум не обновляется в атмосфере Парижа. Но особенно сказывается провинциальная жизнь на жестах, походке, движениях, которые теряют ту легкость, какую беспрерывно сообщает им Париж. Провинциалка привыкла ходить, двигаться в спокойной, лишенной случайностей обстановке; ей не нужно сторониться, она шагает, как шагают новобранцы по Парижу, не думая о препятствиях, потому что их и нет для нее в провинции, где все ее знают, где она всегда на месте и где всякий уступит ей дорогу, – и женщина теряет грацию неожиданных движений. Наконец, замечали вы своеобразное действие, какое оказывает на людей постоянное общение друг с другом? По неистребимой склонности к обезьяньему подражанию их тянет брать себе за образец окружающих. Сами того не замечая, они перенимают друг у друга жесты, манеру говорить, позы, ужимки, выражение лица. За шесть лет Дина приноровилась к сансерскому обществу. Усвоив мысли г-на де Кланьи, она усвоила и его интонации; встречаясь только с мужчинами, она незаметно для себя переняла и мужские манеры. Ей казалось, что насмешкой она охранит себя от всего, что было в них смешного; но, как это и случается с иными насмешниками, на ней остался налет того, над чем она сама смеялась. У парижанки же перед глазами слишком много образцов хорошего вкуса, чтобы с ней произошло подобное явление. Так, парижанка дождется часа и минуты, когда может показаться в самом выгодном свете, а г-жа де ла Бодрэ, привыкнув быть объектом постоянного внимания, приобрела какую-то театральную и повелительную манеру, приемы примадонны, выходящей на сцену, от чего в Париже ее живо отучили бы насмешливые улыбки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?