Текст книги "Война девочки Саши"
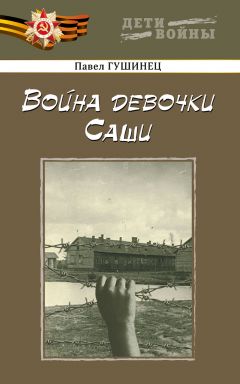
Автор книги: Павел Гушинец
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Кольцо жизни
Виталик (15 лет, город Харьков)
Якименко Виталий
«Мы всё ждали, что немцы придут в дом ночью. Все уже знали, что угоняют, что везут куда-то в Германию на работы. Думали, придут в темноте, ведь творят страшное дело. Готовились в окна прыгать, бежать из города.
А они днём пришли. Обыденно. Со списком. Оцепили квартал, согнали нас всех в один дом и стали вытаскивать по одному. Мы с другом моим Колькой вместе и попали. Назвали наши фамилии, напротив этих фамилий галочки поставили. Всё, набегались.
Вечером всех на вокзал. Матери бежали следом, швыряли в толпу тёплые вещи, еду какую-то в узелках. Кто своё подбирал, кто чужое. Страшно было. Куда повезут?
Привели на вокзал, в вагоны загрузили. Заперли. Везли куда-то сутки. Пить хочется, есть, на всех для туалета одно ведро. Дышать нечем, под самым потолком узкие окошки. А нас много. И не сесть толком. Стоим, толкаем друг друга. Измучились все.
Узнали откуда-то, что везут нас в какой-то Крефельд на текстильную фабрику. Что за Крефельд, где это, мы знать не знали. Догадывались, что это в Германии.
Ночью стали где-то на станции. Ну, думаю, сейчас откроют, накормят. Держи карман шире. Так и стояли. Я гляжу – ночь глубокая. Стал в углу шарить. Чувствую – доска одна шатается, поддаётся.
– Колька, – шепчу, – подсоби.
Друг – ко мне. Мы вместе доску пола голыми руками расшатали, подняли. За ней – вторую, та уже легче пошла.
Оборачиваюсь к остальным. Товарищи, говорю, бежим все вместе.
Лучше рискнуть, чем сгинуть в проклятой Германии.
А «товарищи» молчат. Смотрят на нас, боятся. Откуда-то и голос раздаётся:
– Куда вы побежите? Из-за вас и нас всех накажут.
Понял я, что тикать надо. А то ещё свои схватят и не дадут убежать. Толкнул Кольку, и мы сквозь пол на рельсы свалились. Оглянулись – темно, хорошо. Рванули от вагона прочь, да, видно, зашумели, привлекли внимание. Вокруг поезда часовые ходили с винтовками, фонарями.
– Хальт! Хальт!
И выстрел. Второй. Колька рядом со мной бежал. Вскрикнул, кувыркнулся. И нет его. А я помчался так, что в ушах засвистело. Снова выстрел! Пуля ударилась в камни, где-то впереди. Я подпрыгнул – ещё быстрее помчался. Проломился в какие-то кусты, чуть ноги не вывихнул в канаве. Не нашли меня, не догнали.
Неделю по кустам и лесам домой добирался. Мать плакала, уже не ждала меня живым увидеть. Прятался всю войну, пока советские войска Харьков не освободили. Из тех ребят, что тогда со мной угнали, никто домой не вернулся. Видно, в самом конце войны их всех уничтожили в каком-то лагере, чтоб не оставлять свидетелей».
Лет через десять Виталий Якименко женился на еврейской девушке и уже в 1980-е годы эмигрировал сначала в Израиль, а потом в Германию. И по иронии судьбы жил в том самом городе Крефельд, в Северной Рейн-Вестфалии, в который он чуть не попал в 15 лет в огненном 1942-м.
В глубокой старости, умирая от онкологии в немецкой клинике, он с горечью говорил своим внукам:
– Вот ведь какое кольцо жизни-то получается. Столько лет надо было бегать, чтобы всё равно умереть на этой проклятой земле.
Маша
(5 лет, Мария Железнова, деревня Ивановка Калужской области)
Нас тогда пятеро было: сама я, мать Василиса Андреевна, отец Павел Никитич, сестра моя Полина (ей тогда едва год исполнился), да брат старший Иван, он с 1925 года рождения. Жили в деревне. Ну, как все жили. Родители с утра в поле, мы, ребятня, дома играем. Полина родилась – мать с ней сидела.
Про начало войны так узнали: прибежал гонец из Уколицкого сельсовета. У нас в деревне тогда и радио ни у кого не было. Собрался народ у колодца. Гонец кричит: «Война!» Мужики курят, молчат. А что говорить, непонятно ничего. Бабы плачут на всякий случай.
На следующий день приехали военные, поставили стол посреди улицы и начали мужиков на войну записывать. Бабы опять в плач, крик. Мужики отмахиваются, друг перед другом храбрятся. Никто тогда не верил, что всё это надолго. Японцев вон быстро разбили, сколько там тех немцев. Что они до нашей деревни дойдут, никто даже не предполагал.
Военные забрали молодых, уехали. Отца не взяли. То ли по здоровью не подошёл, то ли из-за троих детей, я уже не знаю. Он тогда только новый дом построил, рядом со старым. Мы ещё в старом жили. Пришёл с призыва расстроенный, мол, что он, хуже всех, что ли. А мать радовалась, что дома остался.
Стали дальше жить. Новостей не знаем, радио-то по-прежнему ни у кого нет. Раз в неделю почтальон доберётся с письмами, говорит, прёт немец. Уже и Минск взяли, и Смоленск.
Однажды утром на улице слышим: моторы ревут. Выглянули: что ж это делается! Немцы! В двери стучат сапогами, ругаются непонятно.
Речь как собаки лают. Нас из нового дома тут же выгнали, сами стали жить. Пожили с неделю, потом технику подогнали, дом разобрали и сделали из него блиндаж на краю деревни.
Мать шла утром к колодцу, увидела на брёвнах блиндажа метку отцовскую – его инициалы. Он всегда при постройке дома метку делал. Заплакала. Так мы в новом доме и не пожили совсем.
Дальше – хуже. Вскоре нас и из старого дома выставили, солдат туда поселили. Отец нас отвёл жить к сестре, а сам в партизаны ушёл. Приходил иногда ночью, мать его кормила. Потом отряд его перевели куда-то далеко. Перестал приходить.
Немцы спрашивали, где отец. Мать всем рассказывала, что в город уехал на заработки да пропал. Верили – не верили, не знаю. Но никто нас не тронул.
Немцы себя по-хозяйски вели. Мать рассказывала: пойдёшь в коровник утром за молоком, а там уже немец сидит, рукава засучил и доит корову. Иная корова не подпустит чужого, но наша почему-то разрешила им себя доить. Так же кур забирали, яйца. Свинью зарезали на углу дома, забрали самое вкусное, остальное бросили. Отбирали у местных жителей тёплые вещи, любили валенки, видимо, замерзали в своей обуви, так и ходили по деревне в отобранных валенках. Вечерами немцы собирались в нашем доме, ели, смеялись. А мы мимо ходили – смотрели на всё это веселье.
Потом слух прошёл, что молодёжь в Германию забирать будут. Брат Иван с двумя приятелями испугались, сбежали. Прятались на болоте, за лесом. Да, видно, плохо прятались. Немцы их там и увидели. Ехали на мотоциклах, и техника в болотах застряла. Пошли по округе и натолкнулись на Ивана.
Немцы заставили их вытаскивать мотоцикл из болота, после чего посадили их с собой на мотоциклы и увезли. Правда, потом брат смог убежать, единственный из всех, как именно, мне не рассказывал. Говорил только, что в реку нырнули в него стреляли. Он потом пошёл в Советскую армию, пропал без вести в Литве.
За деревню шли сильные бои. Приходилось всё время прятаться в подвалах. А там у всех картошка. Вот и говорили, что «войну пересидели на картошках». Особенно хорошо было в колхозном овощехранилище. У нас-то дома деревянные, снарядом разметало. А в овощехранилище подвал большой, кирпичный. Там и собирались.
Деревня несколько раз переходила из рук в руки. Старшие рассказывали, что немцы поймали одного советского солдата. Он с пулемётом прикрывал отступление своих. Собрали жителей, кого нашли, и на их глазах замучили. Мол, смотрите, будете помогать советским – и с вами такое будет. Они тогда уже злые были, понимали, что быстро взять Союз не получилось.
Под конец оккупации, когда немцы уже убегали, всех жителей выгнали из деревни, оставили только старую женщину, которая ухаживала за больным и немощным мужем. Их дом не тронули, остальную деревню зажгли. Из 120 дворов к концу войны осталось только четыре.
А людей погнали на запад, наверное, хотели увезти в Германию. Весна, апрель, ледяные лужи и ручьи, маленьких детей переносили на руках, но всё равно были все мокрые, заболели многие, плакали.
К матери подошёл один пожилой немец, плетка у него ещё была. Так он рукояткой этой плётки оттеснил её со мной и Полиной в сторону. Подождал, пока все остальные прошли, и толкнул назад. Даже не сказал ничего. Повернулся и пошёл следом за своими.
Мы так и остались стоять, глядеть вслед толпе. Потом повернулись и в деревню побрели. Из тех, что тогда угнали, многие не выжили.
Женя
(5 лет, Евгения Григорьевна Еланчик, Москва)
Когда война началась, мы жили на Второй Хуторской улице, в деревянном доме на первом этаже. Улица была немощёная, будто в деревне, но на углу мороженщица продавала мороженое. Я ещё помню, что оно стоило 10 копеек. И эти 10 копеек для нас, ребятишек, были самой желанной суммой. Миллиона не надо, он большой, непонятный. А 10 копеек – это белое и холодное лакомство в руке.
Я особенно любила мороженое с вафлей. Папа мне дал 10 копеек, я купила, иду, слизываю это мороженое. Вкусно, язык мёрзнет. Руки липкие все, платье испачкала, а мне и радостно. А вокруг люди с серьёзными лицами. Заговорили: война, война. А я не понимаю, чего они такие серьёзные. У меня же мороженое, какая война.
Помню, всё время хотелось есть. Не просто так, когда набегаешься и спешишь домой на ужин. А всё время. Днём и ночью. Просыпались с мыслью о еде. Сны про еду видели. Позавтракаем жидким супом с крошечным кусочком хлеба – и ещё больше есть хочется.
Ещё холодно было очень. В доме почти не топили, ходили всё время в одежде. По улице – в дырявых валенках. Они порвались, а новые достать было негде. Все дети ходили простуженные, хлюпали носами, кашляли.
Ещё одиноко было. Мама с нами не жила, отец всё время на работе. Мы до войны с отцом очень дружили, он играл со мной, поделки всякие придумывал. А тут нет его. И долго нет. Для ребёнка и час – большой срок, а тут отца нет днями и сутками. Я сижу – жду. Вся моя жизнь проходила в ожидании папы.
Приходили какие-то люди, забирали детей в эвакуацию, в Сибирь и Среднюю Азию. Многие отдавали. Им говорили, что там дети будут сыты, в тепле и в безопасности. Папа не хотел меня отправлять, боялся, что я потеряюсь. Поэтому, когда приходили за детьми, он прятал меня в сундуке, а им говорил, что уже отправил. Потом как-то перестали приходить.
Война – это какая-то долгая, почти бесконечная зима. Часто ревела сирена, нас бомбили. В нашем дворе стоял разбомбленный дом. Окна выбиты, стена обрушена. В проломе были видны части комнат с мебелью, обоями. В одной квартире даже стоял на подоконнике почерневший, замёрзший цветок. Папа мне запрещал ходить мимо этого дома, кирпичи падали.
Я всё время была одна. Что ела, не помню. Помню, что всё время осматривала комнату. Открывала шкафчики, комод, под кроватью смотрела. Искала еду. Всё думала, что папа принёс с работы, забыл мне сказать. Сейчас найду и поем. Осмотрю каждый уголок, посижу, передохну, и снова по кругу.
Папа с 7 утра до 11 вечера на работе. Двери не запирали, брать у нас было нечего. Выйду на улицу и гуляю целый день. Всё лучше, чем дома углы обшаривать. Воды в доме нет, холодно. Папа притащил откуда-то буржуйку, а её топить нечем, дров нет. За зиму всю мебель стопили, чтоб хоть как-то согреться. Вещей тоже не было, всё продали или на еду поменяли. Один диван остался. Спали на нем вдвоём с папой.
Ещё во дворе был большой каменный общественный туалет, а я боялась в него ходить. Всё казалось, что там кто-то притаился и ждёт меня. Сейчас смешно. Вокруг голод, война, люди падают в обморок от недоедания, а девочка боится чудища в туалете.
Когда я гуляла по улице, не раз видела, как проводили аэростаты. Один аэростат тащили четыре человека, а он, огромный и серый, как слон, послушно тащился следом за пигмеями. Аэростаты поднимали в небо, они висели на длинных тросах. Это была такая защита от самолётов.
Все окна в доме были заклеены бумагой крест-накрест, чтоб стёкла не лопались от взрывов. А они всё равно лопались. Грохнет на улице, перед домом – и сыпется стекло. В подъездах всегда было темно, иногда светилась одна тусклая лампочка. Мне почему-то помнится, что лампочки эти были синего цвета.
Окна не светились, лифты в высотках не работали. Я вот со всей войны и запомнила: холод, голод, полоски на стёклах. А ещё синие лампы и аэростаты в небе.
Потом папу отправили в Омск, помогать налаживать скоростную сушку сухарей для армии. И мы уехали из Москвы. Ехали очень долго в холодных вагонах, а навстречу нам всё шли и шли эшелоны. Они все шли на фронт. На станциях я видела, что в вагонах этих эшелонов едут бойцы в новой красивой форме. Помню, где-то они пели «Мы на запад уходим сейчас…»
Мы проехали Урал, тянулись по Сибири. В Омске нас поселили в какой-то деревенской избе, в отдельной комнате. Папа опять всё время пропадал на заводе, и нечего было есть. Я снова обшаривала комнату, как в Москве.
Иногда папа приносил глицерин, мы его мазали на хлеб и ели. У хозяйки в сенях хранились замороженные круги молока, мне очень хотелось отковырнуть хоть кусочек, но отец строго-настрого запрещал:
– Это чужое!
И я умирала от голода, но не брала.
Иногда в избе собирались гости, пели песни, женщины ели семечки. Мне казалось это смешным, что они постоянно щёлкают семечками. У нас так не было принято.
Когда производство сухарей было налажено, поехали обратно в Москву. Как приехали, папа отдал меня в детский сад. Я очень не любила детский сад, старалась не ходить. Детский сад находился в нескольких остановках от дома. Папа отводил меня туда рано утром, забирал поздно вечером. Некоторые дети оставались спать там, но папа всегда приходил за мной, как бы ни было поздно. Он сажал меня к себе на плечи и нёс домой. Я сижу у него на плечах, и счастливее меня нет никого на свете.
Потом папа заболел (прободение язвы желудка), и его положили в больницу. Тогда меня забрала мама (она жила с другим мужем, ушла, когда мне было два года, но папа меня не отдал, и я жила с ним). Это был уже 1943-й. Нам негде было жить, поэтому мама меня на год отправила в деревню к родителям своей подруги, в Химки, рядом с кирпичным заводом. В первый раз в жизни у меня были бабушка и дедушка. Они меня любили, и я их тоже очень любила. Я делала всё, что просили, помогала в огороде и по дому.
Помню, мне очень не нравился овсяный кисель, но я ничего не говорила. Кисель был густой, его резали ножом, и зеленый, в него добавляли коноплю, так как она даёт силы.
Я ходила на кирпичный завод за хлебом. Хлеб выдавали по карточкам, когда я шла домой, я отщипывала крошки по краям и ела. Сахар бывал очень редко. Каждый кусок сахара бабушка делила на четыре части – каждому по кусочку. Потом пили чай «вприглядку» – пили чай, в руках держали кусочек сахара и откусывали крохотные кусочки. Время от времени летали самолёты, которым удавалось прорваться. Мы прятались в погребе. Страшно не было, просто ждали, когда немцы пролетят. Поле рядом с нашей улицей было всё в воронках от бомб.
В Химках я прожила почти год – зиму и лето. В 1944 году мама меня забрала, так как мне надо было идти в первый класс. Папа всё ещё восстанавливался после язвы, ему удалили 3/4 желудка. Потом папа меня забрал к себе.
Однажды папа разбудил меня на рассвете и сказал, что война кончилась. Все люди выбежали на улицу, побежали на большую улицу, на Бутырскую улицу, все обнимались, ликовали, кричали.
Потом много ещё чего случилось. Было нелегко и после войны. Постепенно всё наладилось.
В детстве больше, чем еды и тепла, мне не хватало любви, внимания. Я выросла очень самостоятельной. Я поняла, и пронесла это через всю мою жизнь, что детям нужна любовь и общение. Ребёнок не хочет быть один.
Каждый четвёртый
(Беларусь)
Портреты Воложинской школы
Новак Мечислав Францевич (город Воложин Минской области, Беларусь)
В 1921 году по результатам Брестского мира Воложин отошёл Польше. И с первых дней поляки начали превращать его в свой город. Всё делопроизводство велось исключительно на польском языке. Обучение в школе тоже на польском. Из Польши приехали чиновники, начальство, учителя. Детям вкладывали в головы:
– Вы поляки, забудьте белорусский язык, русский. Говорите только на польском.
Запрещали разговаривать на другом языке. Бывало, на перемене увлечёшься беготнёй, крикнешь что-нибудь на белорусском, а учитель услышит. Так заставлял положить на парту руку и бил по руке линейкой. И при каждом ударе надо повторять:
– Я пОляк, я пОляк.
Рука потом распухала, больно было. Надолго запоминали, на каком языке говорить.
Тогда со стен в школе и поснимали портреты последнего императора Николая Второго. Казалось, висеть им вечно, но уже через три-четыре года после революции собрали их и скинули в кладовке. А потом тихонько куда-то увезли. Вместо них на тех же местах, закрывая квадраты невыцветших обоев, повесили портреты Пилсудского, президента Мосцицкого и герб Польши.
Про войну мы услышали в начале сентября 1939-го. Ходили слухи, что немцы, переодетые в форму польских военных устроили резню среди немецкого населения приграничного города Гливице. Уже в шестидесятые я прочитал про то, что там происходило на самом деле. И про радиостанцию, и про начало войны. Тогда были только слухи.
Уже 17 сентября в Воложин входили советские войска, а поляки отступали. Боёв и стычек почти не было. В окрестностях даже не стреляли. Разница между армиями бросалась в глаза даже нам, мирным жителям. У поляков была в основном пехота, гарматы (артиллерию) тащили лошади. Были большие орудия, в которые впрягали по три пары лошадей. А артиллеристы топали рядом. Под горку они толкали свои орудия, помогая лошадям, вниз, с горки, приходилось удерживать, чтоб не сорвались, не подавили кого.
Советская пехота приехала на грузовиках. Бесконечной колонной шли танки, орудия тащили трактора. Это была такая силища, такая скорость. Те, кто говорит, что перед началом войны Красная армия была слабой, не видели этих колонн. Вот поляки были слабыми. А русские шли и шли. Все в длинных шинелях, с винтовками. На ногах не сапоги, а ботинки с обмотками. Сапоги только у офицеров. И очень сильно пахло от них нафталином. Я всё никак понять не мог, откуда такой запах, почему. Уже потом сообразил. В Союзе была объявлена мобилизация, призывали много людей, и для того чтоб их одеть, доставали шинели со складов. А там нафталин – единственное средство от моли.
Ещё шинели нам странными показались. У поляков форма совсем другая, шинели короткие, а русские шли, как статуи, полами по грязи мели.
Так и шли советские войска, в тучах пыли, облаках дизельных выхлопов и нафталина.
Мы ж ничего про жизнь в Союзе не знали. Граница была недалеко, но просачивались только слухи. Поэтому бросались к солдатам.
– Что там? Как жизнь?
А солдатам был приказ на вопросы не отвечать. Цедили сквозь зубы:
– Всё хорошо. И шли дальше.
У многих в Союзе были родственники, расспрашивали о них, о том, через какие деревни проходила армия. Но солдаты и на эти вопросы не отвечали. Как заклинание повторяли:
– Всё хорошо.
Очень нас интересовало, что будет с землёй. При поляках вся земля принадлежала помещикам, те же Тышкевичи купили весь Воложин с потрохами за 300 тысяч злотых. У крестьян был крошечный клочок рядом с хатой. А ведь заводов в округе не было, работать негде. Главное богатство и источник существования – земля. У кого земля, тот и заправляет. А в Союзе, говорили, землю просто так дают.
Один офицер не выдержал расспросов, плюнул, крикнул:
– Да будет вам земля, отстаньте!
Мы радовались. Будет земля. Всё будет хорошо. Рано радовались.
В школу пришли русские учителя. Портреты Пилсудского и герб Польши сняли. Повесили Ленина, Сталина. Учили на русском. Линейкой не били, но в угол ставили. В пионеры принимали.
О том, что война будет, все знали. Не знаю, как там в Москве, но мы же не слепые. На восточной границе у немцев стояла огромная силища. Дивизии. Мы у учителя спрашивали: зачем немцы к границе войска стянули? Нам отвечали, что Гитлер прячет армию от французов и англичан.
Что мы с немцами не то что братья, но союзники. А вот в Англии капиталисты, они хотят весь мир захватить.
До последнего дня в Германию шли эшелоны с зерном и рудой. Утром война, а накануне вечером эшелон идёт. Товары соседу. А сосед уже нож наточил.
Русские как пришли, начали всё под себя делать. Документы с польского на русский, чиновники из Союза, учителя. Повсюду красные флаги, портреты Сталина. Одной из первых тюрьму завели. При поляках тюрьма маленькая была, в камере по много человек ютились. А русские под тюрьму особняк Тышкевичей отвели. Огромный, двухэтажный. Рубли советские появились. Мы поначалу очень путались. И разорились многие, кто в польских деньгах сбережения хранил. Никто их не поменял. После сентября превратились деньги в разноцветные бумажки.
Зажили и при Советах. Посреди города была площадь. Так туда в понедельник и четверг приезжали со всей округи торговать. На той площади был выкопан глубокий колодец, выложенный необработанными камнями. Такой глубокий, что подойдёшь к нему, кинешь камень и считаешь. До пяти досчитать успевали, и только тогда откуда-то снизу, из темноты: «Плюх!» Казалось, этот колодец до самого центра земли выкопан. Но воду оттуда уже не брали. Торг вокруг, кто мусор кинет, кто плюнет. Плохая вода была.
С евреями мы не то чтоб дружили, но как-то не слишком общались. У них была своя религия, своё кладбище, свои школы. Недалеко от площади стояла знаменитая Воложинская иешива. Подростки-иудеи сидела там за длинными скамейками, днём и ночью изучали толстые книги. Они не хотели играть в наши детские игры, были какие-то серьёзные, отрешённые. Со всего мира приезжали. Из Америки, Палестины. Очень наша иешива ценилась. Её заканчивали люди, которые стояли у истоков Израильского государства.
Иешиву официально ещё при царе закрыли. Но она всё равно работала. Подростки там собирались, раввин их учил.
Но были и другие еврейские дети. Те, с которыми мы вместе бегали на рыбалку, гоняли по улице мяч. И нам как-то всё равно было, как зовут вратаря, Ванька, Юзик или Шмуль. Лишь бы мяч хорошо ловил.
Война началась 22 июня, а 25-го немцы уже были в Воложине. Мы и оглянуться не успели. Фронт ураганом промчался. Ещё с утра немцы у нас, а в Вишнево – Красная армия. В полдень только погромыхивает вдалеке. А 25-го к вечеру немцы уже в Минске, а мы в глубоком тылу. С 22-го по 25-е небо было чёрное от самолётов. Они летели и летели бомбить Минск. Кто-то бросился бежать, укладывал вещи на телеги и гнал в сторону границы. Да разве ж немца обгонишь. Возвращались. Войска наступали так стремительно, что даже советские чиновники не успели из Воложина сбежать. Их почти всех расстреляли в первую же неделю.
На дорогах появились длинные колонны военнопленных. Их гнали пешком по обочинам, чтоб не мешали проезжать технике. Впереди колонны машина с пулемётом и сзади такая же. По бокам немцы с карабинами. Стреляли без предупреждения. Все шли по старой Смоленской дороге на Лиду. А оттуда их сажали в вагоны и везли в Германию, в лагеря. Военнопленные шли и больные, и раненые, кого-то чуть ли не на руках несли товарищи. По дороге их не кормили, если кто падал и не вставал, тут же добивали, тела скидывали к обочине.
Когда через Воложин шла первая колонна, жалостливые бабы высыпали на улицу, бросали в толпу картошку, хлеб, немцы не мешали, только покрикивали, чтоб близко не подходили. А голодные люди бросились к еде, получилась свалка. Немцы заорали, начали стрелять прямо в толпу, бить прикладами. Порядок навели мигом. Колонна прошла, оставив на мостовой десяток окровавленных тел. Больше еду не бросали.
В нескольких километрах за городом, на бывшем сенокосе, в сторону деревни Бакшты, устроили перевалочный лагерь. Окружили голый участок поля колючей проволокой, по углам наспех возвели вышки, ещё две вышки рядом с единственными воротами. На вышках – прожектора, часовые с карабинами. У проволоки – пулемёты. На ночь загоняли проходивших пленных за проволоку. Ни навеса им не сделали, ни укрытия какого. Если дождь, мокли под дождём, если ветер, коченели под ветром. Еды и воды им не давали. Лежали на голой земле. Мы подбирались к лагерям и слышали бесконечные стоны, крики, плач. В темноте шевелилась огромная масса людей, которые не знали своей судьбы, не знали, переживут ли завтрашний день.
Воложинские бабы и тут не усидели. Наготовили еды, борща, набрали сала, масла, молока. Пошли к лагерю. Толпой подобрались к проволоке. За полкилометра оставили в поле мужиков и подростков, боялись, что и их заберут. К самим воротам приблизились только женщины с детьми. Немцы как знали, у ворот стояли бачки. Баб увидали, руками машут, идите, мол, не бойтесь. Сами улыбаются, радостные такие. И начали сортировать еду. Если масло, сало, яйца, в сторону откладывали, себе. Если борщ, каша или молоко – всё в бачки. Вперемешку. Жуткая смесь получилась. И уж эти бачки с бурдой поволокли пленным.
А у тех ни кружки с собой, ни миски. Редко у кого ложка была. Так вываливали в шапки, в подвёрнутую полу шинели, просто в ладони подставленные. Люди ели, облизывая пальцы, с земли подбирали разлитое и упавшее, страшно на это смотреть было. А если больной или раненый лежал, подняться не мог, или без сознания был, так и не доставалось ему даже этих крох.
Утром уходили, тела в кучу складывали возле проволоки. Никто их не хоронил. Так и лежали. Уже через неделю огромная куча была. Оттуда руки-ноги торчат. Лица синие, зубы оскаленные. К осени приехал трактор, выкопали яму и всех туда вперемешку.
…23 июня. Воложин горит, бомбёжка, небо от самолётов грохочет. Артиллерия бьёт по городу. Дома полыхают, огонь скачет по крышам. Выгорают целые кварталы. Тушить некому, все боятся, бегут в уцелевшие дома прятаться по подвалам. В дыму мечется скотина, куры, люди. В хлевах заживо горят коровы, лошади.
Утром 25-го в город вошла немецкая пехота. Все молодые, мордатые, с закатанными рукавами. Сытые кони, колонны техники. Сразу установилась новая власть. Бургомистр, полиция. Центр был в Вилейке, оттуда руководили Воложиным и Молодечно. Сразу объявили: кто будет прятать солдат, помогать им – расстрел. О партизанах тогда ещё разговора не было, а вот остатки разбитых частей по лесам прятались, пытались выбраться к своим. В один день собрали всех советских чиновников с семьями, вывели за город и расстреляли. Списки чиновников у них были, видно, сразу нашлись предатели. В школе сняли все портреты Сталина и Ленина, вместо них ничего не повесили. Да и учёбы больше не было. До самого сорок пятого года.
С первого дня организовали еврейское гетто. Такое же гетто было в Ивенце, Ракове, Вишнево, и самое маленькое – в Заброжье. Гетто сделали просто. Огородили квартал, выгнали оттуда жителей и загнали евреев. Условия у них там были невыносимые. Евреев-то больше двух тысяч, и все в десятке домов. По пять-шесть семей в одной комнате. Старики, дети, больные. Гоняли их на самые тяжёлые и грязные работы, не кормили, медицины никакой. Если работы не было, придумывали всякую ерунду. Разгребать завалы, перекладывать мостовую. А иногда выгоняли ямы копать, а потом те же ямы закапывать.
Охрана – местные полицаи, немцев мало было, в основном всей грязной работой полиция занималась, а немцы только пальцами тыкали. Те и рады стараться своих же гнобить.
В 1941–42 годах почти всех евреев уничтожили. Из Вилейки приезжала специальная часть экзекуторов для расстрелов. Одними из первых убили учеников иешвы с раввином. Их было 64 человека. Иешва древняя, её в 1803 году основал Хаим Воложинер, человек в иудействе значительный. Там до 400 учеников Талмуд изучали. Сам Авраам Ицхак Кук там учился, первый раввин Израиля. Туда ученики из США приезжали, из Палестины, из Европы.
В 1941-м последние 64 ученика с раввином Хаимом Вулькиным попали в гетто. Никто из них не выжил.
Экзекуторы действовали так. Утром приедут на десятке машин, окружат гетто и за дело принимаются. В Воложин они четыре раза приезжали. И всё как-то старались скрыть свои злодейства, спрятать. Чтоб люди поменьше видели.
В первый раз только открыто расстреляли за городом полсотни человек. Во второй уже хитрили. Немецкие части стояли в польских казармах, так они собрали еврейских женщин, чтоб эти казармы помыть. 300 или 400 человек их было. А за казармами находилось поле для физкультуры. Всякий там футбол, турники, ну, как обычно. Так их туда согнали и принялись расстреливать. Тела тут же сжигали, чтоб никто не увидел. Над полем крик, выстрелы, дым валит. Если вам кто в Воложине будет рассказывать, что видел всё это, что своими глазами наблюдал евреев в ямах, что кто-то ещё шевелился, и их добивали, не верьте. Всем страшно было, все по домам попрятались. Боялись, что и их вместе с теми евреями в одну кучу закопают. Немцам что еврей, что белорус, что русский – всё одно.
К полудню стрелять и жечь устали, говорят остальным: идите обратно в гетто. И евреи пошли. Куда им было деваться? У них там семьи. Из тех 400, что утром забрали, едва ли полсотни вернулись. Остальные на поле физкультурном остались. Вот такой спорт вышел.
Ещё их гоняли на заготовку леса. Тогда же всё на дровах было: топили, еду готовили. Пешком ведут в лес. Тут уж мужчин в основном. Там они неделю топорами машут, ломаются. Они ж в основном не рабочие были. Торговцы, мастеровые, ученики иешвы, к тяжёлой работе непривычные. Голодные ещё, больные. Через неделю уже не могут работать, так новых пригоняют, а тех обратно.
Мы всё удивлялись, почему они возвращаются. Ведь лес рядом. Драпанул в кусты – только и видели. Потом узнали. Немцы в городе их семьи в заложниках держали. Если кто бежал, то всю его семью в расход пускали. За одного сбежавшего могли десять расстрелять. Вот они и возвращались. Ещё из-за религии своей возвращались. Среди них много было религиозных. Считали, что, если их на этом свете мучают, значит, так и надо, значит, такая их судьба.
А ещё у них в городе хозяйства оставались. Скотина там всякая, куры, огород. Так полицаи их отпускали коров покормить, подоить. А вечером опять в гетто. Так и ходили туда-сюда.
Осенью был ещё один расстрел, самый большой. Выгнали их на старое еврейское кладбище. Рядом с этим кладбищем был дом польского унтер-офицера. Так заводили туда по очереди, стреляли, а тела выносили через задние двери во двор и сжигали тут же.
Мы, подростки, рядом крутились. Евреев и не охраняли толком, можно было подойти. Мы им шепчем:
– Бегите, вас там убивают.
А они молчат, головы опускают. Сами не дураки, не глухие, выстрелы слышны. Смрад горящих тел. Их там тысяча, охранников едва ли десяток. Смяли бы, разбежались. Но стояли. До самого последнего мига на что-то надеялись.
После того расстрела их мало осталось. Всего 300–400 человек. В последний раз их вывели за город, по дороге на Молодечно сарай стоял. В том сарае и положили остатки. Отогнали десять человек мастеровых. Часовщиков, портных, сапожников. Увезли их в Вилейку. Там тоже потом убили всех, потому что никто не вернулся.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































