Текст книги "Голуби"
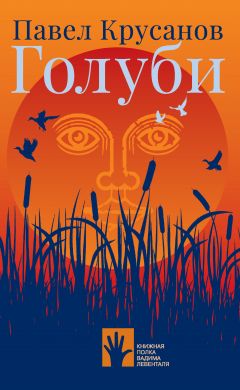
Автор книги: Павел Крусанов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Жар был что надо – жгло нос и ломило зубы, – парились долго, в три захода и в два веника. Когда вышли из бани, на дворе уже темнело.
Нина тем временем пожарила рыбу и накрыла к ужину стол, а как мужчины вернулись в дом, с траурным лицом отправилась им на смену. Сказала, чтобы её не ждали – сыта.
– Мы, Пётр Ляксеич, на природной еде – и здоровы́, – указал на стол, как на наглядное пособие, распаренный Пал Палыч. – Мясо, рыба, картошка, сало, яйца, овощи, грибы, заготовки разные – всё своё. Или из леса да озера. А кто на товарную еду перяйдёт, тот сразу хворый делается – сила уходит. Замечано… – Пал Палыч задумался в поисках подобающего примера. – Да хоть бы по детя́м и внукам. Приезжают хвилые, а как на нашем-то подкормятся – другое дело. – На лице Пал Палыча выступил банный пот, и он утёр его рукавом рубашки. – Про вятеринарию поздно понял – ня моё. Мне бы в охотоведы. Запах этот от сумки вятеринарной… Коровий послед, слизь эта… За ноздри корову дяржать… Терпеть ня мог. А кабана разделать – я ня брезгую, чисто всё будет, аккуратно. Это мясо – есть-то надо. Кролика забить? Жалко, а что делать. Ня стану – внуки будут расти на полуфабрикатах, на химии этой. А мне хочется, чтоб росли здоровы, чтоб со стоячим, чтоб им любую девку обнять и обласкать, чтоб продолжался род. Об этом забота.
Пока Пётр Алексеевич открывал привезённую с собой бутылку и разливал в рюмки водку, хозяин свёл разговор с даров земли и леса на подрастающих внуков.
– Разные оба – небо и вода. Вот линь да карась – им надо, чтобы погрязней, они и там. А на чистой воде им ня очень, ня уютно чувствуют – там уклея да голавль. Так и человек. Тёма, старший, ближе к технике – мопед, компьютер, а Максим к музыке – пианина электрическая ему куплена. Но оба – баре: подай это, подай то. Брязгливые – ты ложкой чайной посластил чай в стакане, они её уж ня возьмут. А что ей в кипятке – какая разница? Глупости. У нас этот номер ня особо проходит: ня бярёшь – мой сам. И ведь пойдёт, помоет… – Пал Палыч вздохнул, беря со стола рюмку. – Ня то мы прожили, когда детьми были: с одной чашки ели суп, второе – всё. Семь детей – посуды же ня напасёшься. И ня дай бог – пока батька ня помолится, ня вздумай ложку взять. А ня втерпеть – есть хочется. Только ложкой туда – батька своей тябе в лобешник… А мамка садилась последняя – вот как было.
Чокнулись и выпили. Кладя себе на тарелку сладкого линя, Пал Палыч снова вернулся к теме здорового чревоугодия.
– Мы детя́м и мясо, и рыбу, и картошку свою в город даём. Так они ня очень, привыкли к товарному – заевши. Крольчатина им уже ня нравится – ня надо им, вишь, кроликов. И лещ со щукой – больно костлявы. И дичину ня берут – утку, там, тетярева – жёстко им. А свинина годится и кабан тоже – этих только дай. – Порицая привередливые городские вкусы, хозяин недовольно наморщил лоб. – А наша-то свинина – ня то что с магазина, другое качество. Вот мне сваты рассказывали случай. Они, сваты, с Опочки, а дело при великолукском мясокомбинате было. Тётка там одна на свиноферме работала, знакомая им. А у них как? Кто при ферме, тем своих животных держать няльзя, чтобы ня занести заразу – ящур, чуму африканскую или чего там. А она держала – поросёнок был у ней. И как-то изловчилась с фермы утянуть мяшок добавки. Ну, слышали, наверно – на фермах свиньям в корм добавки сыплют. Она ня знала, что им ня одну дают, а комплекс – взяла, что увидала. И стала той добавкой поросёнка-то подкармливать. Он и пошёл у ней расти, как на дрожжах – мясо так его и раздувает. Всё рос и рос, покуда на нём, на живом прямо, шкура ня лопнула. – Пал Палыч свёл и развёл над столом ладони, показывая, как лопнула на поросёнке шкура. – Кровя-то, говорили, так и брызнула. Для шкуры своя, оказывается, добавка полагается, чтоб эластичность повышалась, а у ней вона…
– А кто у вас сваты? – полюбопытствовал Пётр Алексеевич.
– Хорошие сваты. Он уж на пенсии, а сватья – музейный работник. По краеведению. Статьи пишет – давала Нине поглядеть. Название ещё такое… О роли полотенца в будни и в праздники. Вроде того. Что говорить – хорошие сваты, – для убедительности повторил Пал Палыч. – На свадьбу дятей столько гостей назвали – оливье готовили в бетономяшалке.
Пётр Алексеевич наполнил рюмки.
– Я про свинью-то, чтоб понятно было, какое оно в магазине – мясо. – Пал Палыч неторопливо разбирал вилкой линя. – А этим – кролик уже ня то. Такие стали дети – перяборчивые. А ма́льцы ничего ещё, едят у нас, что дадут. Их Нина по этой части балует – каких рахат-лукумов только ня придумает. Вон сколько припа́сено.
Пал Палыч поднялся со стула, распахнул дверцу морозильной камеры и выдвинул один из пластиковых ящиков. Он доверху был набит пакетами со свежезамороженной зеленью – ледяная петрушка, укроп, стрелки лука.
– Ня то, – задвинул Пал Палыч ящик обратно и выдвинул другой.
В этом, распределённые по прозрачным контейнерам, лежали давленная с сахаром клубника – домашний сорбет – и заледенелая, подёрнутая кристальной белизной малина – рассыпчатая, ягодка к ягодке. Чтобы добиться такого сказочного вида, её Нина, похоже, морозила разложенной на доске поштучно, как пельмени.
Утром, выглянув в окно, Пётр Алексеевич обнаружил, что мир, точно Нинина малина, сплошь покрыт искристо-белым инеем – и деревья, и провода, и шиферная крыша сарая, и местами пожухлая, а местами под изморозью ещё зелёная трава. Только чёрная земля на огороде заиндевела выборочно – пятнами. Часа два-три – и эта красота исчезнет. Пётр Алексеевич ощутил в себе неописуемое чувство – поэтическое ожидание зимы. Такой зимы, какая представляется в рождественских фантазиях – белой, пушистой, покатой, с кружащимися в воздухе хлопьями. Он вспомнил, как однажды рассуждал про снег его приятель Иванюта – поэт, заведующий складом при типографии Русского географического общества, где Пётр Алексеевич занимал должность главного технолога. Иванюта говорил, что снег – это не напасть, не падение в испуг, беспамятство и пустоту. Снег – это мириады и мириады маленьких штучек, которые похожи на звёзды – у них есть центр, ось симметрии и лучи. Они, представь себе, сияют! Из них можно вылепить бабу. Они хрустят под ногами, как огурцы. Рождённые нулём, они умирают на ресницах. Они располагают к холодной водке и горячему огню. Под ними можно проспать до весны. Говорят, они убили динозавров. Они – на самом краю видимого мира, но их подлинность не вызывает сомнения…
Он был забавен, этот Иванюта. Некоторые его суждения запомнились Петру Алексеевичу крепко. Например, он утверждал, что единственная подлинная свобода художника – его самобытность. В отсутствие самобытности у художника всегда есть господин – любовь. Тот, кто лишён оригинальности, рабски подражает тому, кого любит. Освобождать его, разбивать цепи – бесполезно, он тут же закуёт себя в другие.
Пётр Алексеевич задёрнул занавеску и, сладко потянувшись, неописуемое чувство приструнил: придёт зима, куда ей деться – ещё и надоест.
Позавтракав, собрались на Старую Льсту смотреть капканы. Когда обувались в прихожей, Пал Палыч указал Петру Алексеевичу на большой мешок для строительного мусора, лежащий на шкафу.
– Бобровые шкуры, – пояснил он. – Пятнадцать штук. Махрой перясыпаны.
– Что не сдаёте? – Не дожидаясь ответа, Пётр Алексеевич сообразил: – Ах да, вы ж без лицензии…
– Ня в этом дело. – Пал Палыч распахнул входную дверь, открывая вид на заиндевелый цветник и вертящихся на крыльце кошек. – Пошли! Пошли! – Он сапогом отогнал норовящую прорваться в дом банду. – Профессор шкуры хочет взять. Там есть у него вроде кому щипать и мездрить. Хорошее дело – шубу жане справит.
– Все, что ли, ему?
– А ня знаю. У нас шкуры самовольные, какая ня захочет – та вернётся.
Уловить момент, когда Пал Палыч переставал быть серьёзным и начинал скоморошить, Петру Алексеевичу удавалось не всегда. Иной раз доходило до недоумения. Немного поразмышляв о своеобразии человеческой натуры, Пётр Алексеевич решил, что самобытность к лицу не одним только поэтам, после чего положил ружья на заднее сиденье машины и завёл двигатель.
Доехали без приключений, дивясь сквозь стёкла преобразившемуся за ночь и местами уже оттаявшему пространству.
– Матки дважды кроливши, а я кролей ещё ня резал, – делился по пути домашними заботами Пал Палыч.
– Что так?
– А ня растут. – Пал Палыч пожал плечами. – Ня знаю, в чём дело. Нету роста. Может, зерна им? Так зерном кормить – в копейку встанет.
– А вы скажите сватам, чтоб у своей знакомой разузнали, – посоветовал Пётр Алексеевич. – Вдруг у неё прикормка поросячья завалялась.
Пал Палыч с переливом рассмеялся.
На повороте с просёлка в чащу Пётр Алексеевич словно в первый раз увидел рощицу с изогнутыми причудливой дугой и в разные стороны склонёнными берёзками. Спросил у Пал Палыча: что за притча? Оказалось – пригнуло зимой тяжёлым снегом, теперь так и растут.
Оставили машину на прежнем месте, прошли по лесу и с холма спустились к лугу. Луг блистал – вершины трав, связанные провисшими паутинками, всё ещё были покрыты белейшим игольчатым инеем, и казалось, что воздух, колеблемый лёгким ветром, наполняет ледяной звон. Пётр Алексеевич про себя отметил, что тут, на Псковщине, уже в который раз доводится ему наслаждаться пейзажами в тысячу раз прекраснее тех, которыми пройдохи путешественники потчуют посетителей своих аккаунтов.
У лозовых кустов ночью бобр не ходил – капкан в воде был по-прежнему взведён и насторожен. На подходе к плотине Пал Палыч остановился и прислушался, после чего ускорил шаг. Пётр Алексеевич слегка отстал, а Пал Палыч тут и вовсе припустил, снимая на ходу рюкзак и извлекая из него топор. Поспешил и Пётр Алексеевич.
В капкан у осины передней лапой угодил молодой бобр – перевалившись под плотину, он упорно бился с железом, но тросик, привязанный к стволу, не давал ему уйти. Подоспевший Пал Палыч звезданул бобра обухом по голове, и зверь затих.
– Всё, – укладывая мокрую добычу в рюкзак, сказал Пал Палыч, – можно снимать капканы. Другие сюда ня пойдут – у них оповящение.
Капканы Пётр Алексеевич бросил в свой рюкзак, после чего тем же путём отправились к машине. Оставшаяся при земле зелень оттаивала как ни в чём не бывало, покрываясь бусинками перемигивающихся капель, а палый лист отмок, поплыл и стал осклизлым. Глядя на опад, Пётр Алексеевич вспомнил Нинино словечко: сжабился.
На обратном пути от плотины Пал Палыч погрузился в лирику.
– Вот как было, – петляя в зарослях лозы, делился он воспоминанием. – Только в техникум поступил, первого сентября пришёл в класс, а нам говорят, чтоб выходить во двор – там будут занятия. В классе я толком и ня разглядел никого, а когда во двор пошли, я возле Нины оказался. Тогда сябе и сказал: вот это моё. – Пал Палыч рассмеялся, мотая головой. – С первого взгляда влюбился, сказал: моё, и этим жил. И только на втором курсе признались. Ну, это… в любви своей. И поклялись. На крови клялись – любить и ня просить у родителей денег. Потом уже, после армии, пожанились – и вот, по сию пору. Я – на охоту, Нина – по хозяйству, банки крутит. Старимся вместе.
Пал Палыч свернул от берега Старой Льсты на уже пробитую ими в высокой луговой осоке тропу. Рюкзак его промок от бобрового меха, и на спине расплывалось тёмное влажное пятно.
– Она же в техникуме отличница была, – продолжал Пал Палыч. – Староста группы. Когда родительское собрание созвали – меня-то там не было – она меня за глаза пяред батькой отчитывала, мол, мы в техникуме агрономов и вятеринаров готовим, а ня спортсменов. Это потому, что я бегал. Батька потом мамке сказал: если б наш на этой жанился, я б мог спокойно помяреть. Вот как было дело.
– Так целый год и терпели? – Пётр Алексеевич снял ружьё с плеча и повесил на грудь. – Не признавались?
– Тярпел. Удовольствие протягивал.
– Если женщина понравилась, обычно тут и вожделение, – заметил Пётр Алексеевич.
– Нет, – твёрдо возразил Пал Палыч. – Это потом.
– Как потом? – удивился Пётр Алексеевич.
– А потом, позже, – не оборачиваясь, пояснил Пал Палыч. – Вот я дружил с ней, с Ниной… Хожу, дружу, у меня чувства – я готов хоть сегодня жаниться, хоть в шастнадцать лет, или сколько мне стукнуло… Глупый был? А ничего ня глупый. Вот природой дано – жаниться, сямью создать, детей иметь, и я шёл на это. А без того – ня любовь, а половое влечение. – Пал Палыч вполоборота озорно сверкнул глазом. – Первый раз в жизни рассказываю. Я себя раз на мысли поймал: а какая разница – любовь или половое влечение? Ня смог в шастнадцать лет ответить, какая разница. Я и люблю, и хочу, и жанюсь – хоть сейчас пошли в загс распишемся. Чего тут плохого? А в нынешние времяна этого нет, ребята. Сначала покувыркаемся – с одним, со вторым, с пятым-десятым… А потом хватились: мне сорок лет, а я родить ня могу. Вона как. У тяперешних уж того ня будет. Будет похоть. Ну, любопытство: как там это – взрослая жизнь? То – ня любовь. У меня иное. Вот расскажу. Я учился в первом классе в Залоге, там начальная школа была, и мне нравилась воспитательница детского садика. Понимаете?
– Нет, – признался Пётр Алексеевич.
– Она в Доманове – воспитательница, – растолковал Пал Палыч. – В Доманове садик был, я туда ходил, и она – моя воспитательница. А ещё она в Залоге в яслях работала, а я там – в первом классе. И вот гляжу, она навстречу идёт, и думаю: вот бы на ней жаниться. Тогда уже хотел жаниться – вот какая она красивая, какая хорошая. У меня, конечно, не было интимных чувств, а было… ну, вот как к человеку. Понимаете? Вот понравился тябе человек – у тебя ещё мысли ня созрели о половом о чём-то, а ты уже видел в ней мать семярых дятей – нас у мамки семяро было – и уже хотелось создать сямью. – Пал Палыч задумался. – Как бы сказать… Она мне нравилась ня потому, что у меня стоял – нет, там совсем другие мысли были. Вот она красивая идёт, она тябе улыбается, она тябе воспитательницей была, тебя по головке гладила, ня обидела тебя ни разу… – Пал Палыч запнулся о кочку и чертыхнулся. – А у нас в Залоге училка была – руки у ней вот так тряслись. – Он повернулся к Петру Алексеевичу, вытянул руки и мелко затряс кистями. – Мы её смерть как боялись. Она всё время кричала, била нас и в угол ставила. Захочешь ты на такой жаниться?
Переставив на озере сети, к обеду вернулись в Новоржев. От кристальной утренней сказки не осталось и следа – линии проводов уныло перечёркивали белёсое небо, оттаявшая трава была мокрой и скользкой, голые деревья потемнели и сделались чернее прежнего.
Ночной заморозок укрепил вчерашние намерения – на вечерней зорьке решили с болванами попытать счастья в Михалкино.
Пал Палыч отправился с рюкзаком в сарай свежевать бобра. Собаки, запертые в вольере, учуяли звериный дух и зашлись истошным лаем. Пётр Алексеевич отнёс ружья в дом и поспешил следом за Пал Палычем – не столько в помощь, Пал Палыч прекрасно справится и без него, сколько из любопытства – ему было интересно взглянуть, в каком месте бобрового организма находится целебная струя.
Из-за дверей сарая, перекрываемые лаем, раздавались голоса. Пётр Алексеевич прислушался.
– А ня бяри в голову, – говорил Пал Палыч. – Что делать – так в природе заведёно. Мы – у него, он – у нас.
– Ёперный театр! Как ня бяри? – Тон Нининого голоса был непререкаем. – Что ты его дразнишь? Что злобишь? Ты его или пристрели, или ня забижай, раз он такой мстивый. И у него, поди, своя гордость есть и самолюбие. А ты с-под носа забираешь. Кому понравится?
Пётр Алексеевич поднял взгляд: над домом, очерчивая круг, по широкой дуге шёл ястреб.
Волосатая сутра
Существо человека Демьян Ильич схватывал чётко: смотрел на персик и видел косточку. Так был устроен. Одних занимает вопрос: кто ты, человек? Других: на что ты способен? Демьяну Ильичу хотелось знать: кто в тебе сидит?
Кто сидел в этой деве, он, разумеется, знал. Манеры её были такого рода: с незнакомыми людьми и с теми, кто был ей приятен или хотя бы не очень противен, она держала себя мило и приветливо, но для иных про запас имела норов, и если воспитание не позволяло ей без повода ударить гадёныша по лицу, то клюнуть его в затылок ей ничто не мешало. Для неё Демьян Ильич был гадок. Он понимал: грациозное и глупое создание. Но поделать с собой ничего не мог.
Что она ему? Когда Демьян Ильич видел её, в нём оживали странные противоречия. «Мой ум созрел для зла…» – с внутренней усмешкой думал он. И в то же время ему хотелось нежно трогать её, поглаживать и даже, может быть, попробовать лизнуть эту по-девичьи припухлую, покрытую нежным абрикосовым пушком щёку. Это было так просто, это было так страшно… При подобных мыслях сердце Демьяна Ильича тяжело надувалось, кровь вязко густела, и в груди хранителя делалось тесно и жарко. Ну что же, если нельзя быть вместе, то можно быть рядом… И в голове его рождался план. Прихоть? Он не поступал по прихоти, это было не в его правилах, но тут особый случай – чувств своих Демьян Ильич смирить не мог. Если нельзя быть вместе, то можно быть рядом… План складывался шаг за шагом – такие люди, в ком оживают несмиряемые чувства, становятся чудовищно изобретательны. План поспевал, ворочаясь в мозгу среди горячих мыслей, как стерлядь в вареве ухи. Он поспевал. Он складывался. Он сложился. Нет – Демьян Ильич не желал ей той же участи, какой одаривал других. Но как иначе? Она останется и будет с ним. Так, этак ли – он не отдаст её…
– Гхм-м… – прочистил хранитель заржавелое горло.
И через царящий в доме кавардак – привычный и уже удобный – отправился в ванную совершать туалет. Ведь и самую прекрасную новость способен убить запах изо рта вестника.
Взять хотя бы утконоса. Дела его плохи – неспроста он угодил в Красную книгу МСОП[1]1
Международный союз охраны природы – международная некоммерческая организация, занимающаяся освещением проблем сохранения биоразнообразия планеты. Организация имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.
[Закрыть], а это значит, что законным путём приобрести зверька в виде экспоната (чучело) музею практически невозможно. Во-первых, добыча утконоса в Австралии запрещена и по австралийским законам сурово наказуема. Во-вторых, запрещён и сурово наказуем вывоз незаконно добытого утконоса за пределы Австралии. В-третьих, в соответствии с целой гроздью международных конвенций и договоров, попытка ввоза преступно добытого и незаконно вывезенного из Австралии утконоса в большинство стран, чтящих правила мирового общежития, тоже запрещена и наказуема. Тройной кордон. Конечно, можно попробовать найти чучело на вторичном рынке, но предложения там довольно ограниченны, и утконос, скорее всего, будет сед от пыли и трачен молью. Конечно, существует практика межмузейных обменов, но это привилегия крупных учреждений с богатыми фондами. Конечно, есть покрытые мраком пути нелегальной коммерческой зоологии, но…
В здешнем заведении за стёклами старинных витрин красовались целых три чучела утконоса. Недурно для небольшого – в один тесно заставленный зал – музея при кафедре зоологии университета, носящего имя вполне приличного писателя, которому декабристы поломали жизнь, разбудив в нём революционного демократа. Коллекция музея начала формироваться ещё в позапрошлом веке при Женских естественных курсах гимназии Лохвицкой-Скалон, а в 1903-м музей переехала сюда, на набережную Мойки, в новоиспечённый Императорский Женский институт. С тех давних времён музейные витрины хранили два особо редких экспоната: чучело трёхцветного ары (Ara tricolor), вымершего кубинского попугая, последний экземпляр которого был подстрелен в 1864 году на болоте Сьенага-де-Сапата, и могучего жука-усача Xixuthrus heyrovskyi. Красавец попугай пострадал за своё великолепие – перо его пошло на дамские шляпки, а когда хватились, восстановить поголовье или хотя бы сохранить некоторое количество особей в неволе оказалось уже невозможно. Жук-усач, запертый под стекло в энтомологической коробке, был бурый, разлапистый, как корень мандрагоры, и к настоящему времени тоже вымер. Некогда он обитал на островах Фиджи, где туземцы лакомились его толстыми, продолговатыми, точно любезно изготовленные самой природой колбаски, личинками. В итоге аборигены, не чувствуя меры вещей, сожрали всю популяцию вида.
С 1909 года на протяжении четверти века здешней кафедрой зоологии заведовал знаменитый профессор, учёный с мировым именем, – при нём музей серьёзно пополнил фонды и стал едва ли не лучшим вузовским музеем страны. Среди редких и экзотических объектов удивлённого посетителя тут встречали покрытый коричневой костяной чешуёй, как огромная еловая шишка, африканский ящер-панголин, иглистый мадагаскарский тенрек, семипоясный и девятипоясный броненосцы из пампасов Южной Америки, австралийская ехидна, американский трёхпалый ленивец и четырёхпалый муравьед тамандуа… Фантазия составителей средневековых бестиариев бледнела рядом с этими существами, как бледнеет извлечённая из пучины медуза, светившаяся во тьме, но погасшая на свету. Список экзотов, однако, на перечисленных экспонатах не заканчивался. В антикварных витринах и на полках застеклённых дубовых шкафов выкатывали круглые глаза лемуры и фавны, кривлялись мартышки-гусары, дрилы, гверецы и игрунки. Что уж говорить про белых и бурых медведей, каланов, коала, летучих лисиц, варанов, крокодилов, моржей, ламантинов и дюгоней… А птицы? А заспиртованные аскариды и цепни в толстых стеклянных колбах? А моллюски? А иглокожие и морские звёзды? А энтомологический отдел? А рыбы? А губки? А рептилии и амфибии? А морские членистоногие? А рога и головы копытных на стенах под потолком? Всё за один раз не могли объять взгляд и вместить память. Целиком коллекцию не удалось бы втиснуть в пределы отведённого пространства, поэтому часть экспонатов была выставлена в учебных аудиториях. Может, для иного музея – фи, крохи, а для другого – законный повод для сдержанной гордости…
Случайная публика здесь не водилась: изредка приходили группы любопытных студентов, удивляли собранием приехавших на очередную конференцию гостей, время от времени ректорат распоряжался показать нужным людям музей как объект, включённый в список наиболее ценных достояний вуза – вот, пожалуй, и всё. В остальное время двери музея были по большей части заперты, а ключ находился в распоряжении угрюмого Демьяна Ильича, третий год исполнявшего должность хранителя фондов. Ещё имелась в распоряжении хранителя каморка с верстаком, инструментами и вместительной морозильной камерой. За верстаком он производил мелкий ремонт экспонатов, а в холодильнике, в ожидании ножа чучельника, хранил материал – шкуры и тушки зверей и птиц, добытые по случаю или преподнесённые в дар заведующим кафедрой, иной раз промышлявшим ружьём. Там, в каморке либо за закрытыми дверями музея, среди витрин, Демьян Ильич отсиживал рабочие часы в первобытном одиночестве, как Адам в объятом мёртвым сном Эдеме.
– Затмение какое-то… Из головы вон… – каялась лаборантка Лера, и ресницы её за стёклами очков взмывали и опускались, как перья опахала.
– Нет, не затмение, – гремел Цукатов. – Хуже – халатность, чёрт дери.
– Казните меня, казните – виновата…
– Из всех паразитов, пожирающих человека, после предательства, я больше всего не терплю червя халтуры – плохо сделанную работу, выдаваемую за сделанную как надо, – выговаривал профессор Цукатов Лере за скверно составленную заявку на реактивы, материалы и лабораторную посуду. – Внутри меня разливается чёрная желчь, когда я вижу на экране какие-нибудь «Войны жуков-гигантов». Да, первоклассная техника. Да, отличная съёмка. И что же? Там есть пауки и сверчки, богомолы и скорпионы… есть осы и муравьи, сколопендры и кузнечики… есть, чёрт дери, крабы и тигровые пиявки – нет только жуков-гигантов! Вообще никаких жуков! И вместо толкового комментария – полуграмотная трескотня. Деляги от профессии, тягающие карася на стороне. Их пожрал червь халтуры. Развратила аудитория невежд, не только не желающих учиться, но требующих низведения знания до собственного мышиного уровня.
Доктор биологии профессор Цукатов был паразитологом, крупным специалистом по нематодам. Черви грезились ему повсюду и во всём. За годы работы нематоды, эти крошечные создания, свили гнёзда в его мыслях, разрослись до огромных размеров и набрали такой вес, что они, эти мысли, отяжелев, плыли по глади его сознания, как плыли по Ладоге в строящийся Петербург баржи, гружённые карельским гранитом, – медленно и неотвратимо. Уже сами мысли казались ему червями, паразитирующими в человеке и заставляющими хозяина действовать сообразно их, червей, нуждам.
– Я поняла, я всё исправлю… – хлопая пушистыми ресницами, каялась статная Лера. Она была виновата, но считала, что заслуживает снисхождения – её измотал затеянный дома ремонт, который, как ей казалось, и стал виновником этой несмертельной промашки. – Два эксикатора, пипетки, пробирки с крышкой шестнадцать на восемнадцать, парафиновая лента, этилацетат, серный эфир…
– Серный эфир не надо, – поправлял Цукатов.
За окном кабинета заведующего кафедрой зоологии шёл первый в этом году снег. Он запорошил двор, облепил огромные дубы и кружил над чёрной водой Мойки, страшась коснуться её посверкивающего опасного глянца. Летом зелёные кроны закрывали часть пейзажа, и воды не было видно. Сейчас, пока ещё не схваченная льдом, она чернела за ветками деревьев и оградой набережной, медленная и чуть подёрнутая рябью. В сочетании со свежей охрой зданий, чистый снег выглядел празднично, как в памяти детства.
Взгляд Цукатова ещё сверкал, но буря отступила – дух праведного гнева покидал профессора, возвращая его в обычное состояние педантичной строгости – не ищущей жертву нарочно и даже добродушной по существу. Цукатов заведовал кафедрой, но он был мужчиной, крепким и не старым, и, как мужчина, готов был прощать женщине за приятность форм грех мелкой нерадивости.
– Пробирки центрифужные, бюретки с краном, стрип-планшеты, – бормотала Лера, – пинцеты гладкие и пинцеты с зубом, спирт, серный эфир…
– Серный эфир не надо, – терпеливо поправлял Цукатов.
Дверь кабинета без стука отворилась, и на пороге появился профессор Челноков – приземистый, плотный и, несмотря на давно разменянный седьмой десяток, по-юношески энергичный. Он только что отчитал пару и был возбуждён от влившихся в него токов молодых энергий. Известный орнитолог профессор Челноков любил общаться с молодёжью, и молодёжь отвечала ему взаимностью – добрых шесть поколений студентов звали его между собой Главптица. Челноков мог похвастать отличной памятью, но со временем свойства вещей начинают хромать – он помнил кучу историй из своей и чужой жизни, однако порой забывал, кому и сколько раз их уже рассказывал. В своё время Цукатов учился у Челнокова и тоже за глаза называл его Главптица. Теперь Цукатов делил с ним кабинет заведующего кафедрой, рабочие столы их стояли рядом на низком, в одну ступень, помосте у окна, отгороженные от остального пространства шкафом и невысокой деревянной балюстрадой. Соседство их сложилось хоть и вынужденно (в кабинете Челнокова шла какая-то нескончаемая перестройка), но по взаимной приязни. Кроме того, в недалёком прошлом Челноков сам заведовал кафедрой зоологии, однако по причине возраста оставил должность.
– А ведь у нас в музее – ни одного пгиличного пгимата. То есть э-э… человекообгазного, – изящно картавя, вернулся к прерванному лекцией разговору Челноков. Речь шла о том, как наилучшим образом использовать на нужды музея внезапно образовавшиеся деньги. – Сплошь макаки и пгочие мелкие хвосты. Ни гогиллы, ни огангутана. Пгекгасного и гыжего, как мандагин. Нехогошо.
– У нас много чего нет, – сказал Цукатов. Сам он предполагал усилить экспозицию рептилий и подумывал о слоновой черепахе с далёких Галапагос. О чём и сообщил.
– Слоновая чегепаха нам кто? Сват? Бгат? – парировал Челноков, извлекая из шкафа, приспособленного под буфет, банку с кофе. – А шимпанзе – годня. Можно сказать, шестая вода на киселе. – И тут же Лере: – Будешь кофе?
Цукатов сжал губы в нитку: он был сторонником иерархии, не любил смешение чинов и с подчинёнными, как и с начальством, предпочитал оставаться на «вы», рассчитывая, что и те в ответ не допустят в его отношении панибратства. Особенно начальство. С какой стати? Профессор Цукатов расположения начальства не искал, знал себе цену и считал её высокой.
– Нет, – продолжал воодушевлённо Челноков, – в пегвую очегедь надо думать о пгиличном пгимате. Э-э… человекообгазном. Быть может, даже выгогодить угол под семейное капище – как в китайской фанзе. – Челноков уже фиглярил. – У меня дочка летала в Цзянси. Э-э… Китайцы у себя до́ма, в специальном уголочке, на капище с пгахом пгедков агоматы кугят… и говогят с ними, с пгедками, по-китайски о насущных делах. Девицы о женихах, – Челноков подмигнул прыснувшей в ладошку Лере, – отцы семейств о видах на угожай и о газумном газмещении валютных вкладов…
Аргументы Челнокова были легкомысленны, пусты, безосновательны, собственно, это были и не аргументы вовсе. Но Цукатов слушал коллегу и чувствовал, что против солидного чучела обезьяны ничего не имеет, что, может, это даже вернее, чем чучело черепахи, поскольку проректор по науке в администрацию ушёл с биофака и в своё время, будучи действующим зоологом, участвовал в каком-то дурацком проекте по акклиматизации шимпанзе в Псковской области. Стало быть, имеет к человекообразным тёплые чувства. И формальности решатся легче.
С тех пор, как статус университета возрос – министерство признало его одним из ведущих вузов страны, – картина финансирования заметно изменилась к лучшему. Научные проекты кафедры выигрывали грант за грантом, удалось неплохо оснастить новую лабораторию… Кое-что перепадало и музею. Тут-то и понадобился хранитель – специалист музейных дел, в обязанность которого входили заботы о пополнении фондов, реставрации старых экспонатов и музейной мебели.
Демьян Ильич имел отменные характеристики – успел поработать даже в Зоологическом музее РАН. Цукатов специально ездил на Стрелку Васильевского и справлялся о соискателе у замдиректора Зоологического музея, с которым водил знакомство. Тот Демьяна Ильича аттестовал как специалиста серьёзного, знающего дело, хотя как человек он был не подарок – угрюмый и замкнутый. С коллективом Демьян Ильич сходился тяжело, чем-то неприятно настораживая людей, почему и не приживался надолго на одном месте, зато имел свои, тайные (но вполне бюджетные) пути добычи материала для экспонатов, вплоть до самого редкого, почти невероятного, и обладал навыком выделки чучел, недурно оценённым штатными таксидермистами музея.
Угрюмый характер будущего сотрудника Цукатова не пугал – ему, стороннику иерархической дистанции, тёплые отношения с сослуживцами были ни к чему, главное – дело, а разговаривать с людьми и добиваться от них дела он, по собственному убеждению, умел. Цукатов и впрямь был из тех, кому не надо играть желваками на скулах и хрустеть суставами пальцев, разминая кулак, – и без того все видели, что он крут. К месту оказалось и умение Демьяна Ильича раздобывать необходимое – пора обновлять и развивать здешнее музейное собрание. Вот только добываемый им материал – туши, шкуры, а равно и готовые чучела, – как правило, не имел сопроводительных документов. Но и это обстоятельство Цукатова не смущало – работая с коммерческими фирмами, поставившими в своё время в музей коллекцию раковин морских моллюсков и стеклянный куб с экспозицией насекомых и арахнид Юго-Восточной Азии, он получал от них недвусмысленные предложения оформить документы на любого зверя, вплоть до диплодока, добытого на сафари в болотах экваториальной Африки. Разумеется, за умеренную плату. Через открываемые ими конторы-подёнки можно было обналичить и выделяемые на приобретение экспоната казённые деньги, так как по каналам Демьяна Ильича плавал только чёрный нал. Приняв в штат хранителя, профессор Цукатов дважды услугами этих контор уже пользовался. В первый раз, когда Демьян Ильич по его просьбе достал замечательное новенькое чучело самки аллигатора – такое огромное, что его пришлось разместить сверху, под потолком, на музейном шкафу, напротив пристроенного подобным же образом сивуча. А во второй, когда Демьян Ильич в порядке личной инициативы предложил приобрести для музея свежее чучело павлина взамен истрёпанного за столетие старого.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































