Читать книгу "Раненая песня"
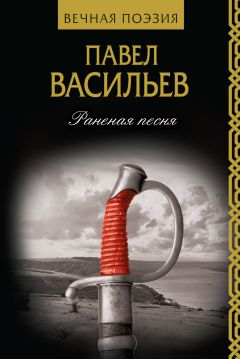
Автор книги: Павел Васильев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Суть же дела заключалась в том, что Васильев достойно ответил на оскорбление, которое Алтаузен цинично и расчетливо нанес в присутствии своих единомышленников Наталье Кончаловской – стихи, посвященные ей Васильевым, знала наизусть вся Москва. Но никакие смягчающие обстоятельства уже никто не брал во внимание.
…В ожидании неминуемого Павел писал ночью свои последние, как он думал, стихи перед отправкой в места слишком отдаленные:
Друзья, простите за всё, – в чем был виноват,
Я хотел бы потеплее распрощаться с вами.
Ваши руки стаями на меня летят —
Сизыми голубицами, соколами, лебедями.
Посулила жизнь дороги мне ледяные —
С юностью, как с девушкой, распрощаться у колодца.
Есть такое хорошее слово – родныя,
От него и горюется, и плачется, и поется.
Совершенно новый Васильев открывался в этих строчках. Длинные стихотворные периоды призваны, кажется, продлить звучание голоса человека, который произносит свое последнее слово, кается и прощается, может быть, перед вечной разлукой. Ни обиды, ни остервенения, ни привычной жесткости и самостояния. Совершенно другое чувство владеет им в последние минуты перед дальней дорогой, в ожидании конечной остановки, где его встретят такие же бедолаги, как он сам, примут по чести и расспросят по достоинству.
Елена Вялова вспоминала, как однажды Павел, проезжая с ней на автомобиле по дороге в Подсолнечное, увидел толпу заключенных, роющих канаву под конвоем. Васильев попросил остановить машину, подозвал к себе одного из несчастных, расспросил о жизни в лагере и передал для арестантов все бывшие у него деньги, две с половиной тысячи, которые предназначались для отсылки Глафире Матвеевне… Машина уже тронулась, а Павел долго еще смотрел через плечо и о чем-то напряженно думал.
Может быть, тогда и складывались у него первые строчки того «Прощания», которое теперь выливалось на бумагу почти без помарок.
Ой и долог путь к человеку, люди,
Но страна вся в зелени – по колени травы.
Будет вам помилование, люди, будет,
Про меня ж, бедового, спойте вы…
В августе 1935 года Васильев был этапирован в исправительно-трудовую колонию в Электросталь. После длительных хлопот был переведен в Москву, в знаменитую Таганку, а потом отправлен в Рязанский домзак, где при попустительстве особенно не нажимавшего на него начальника написал самые жизнерадостные, плещущие искристым юмором поэмы «Женихи» и «Принц Фома».
* * *
Многочисленные ходатайства И. М. Гронского сделали свое дело – и в марте 1936 года Васильев был уже в Москве. Летом того же года в «Новом мире» появились поэмы «Кулаки» и «Принц Фома». И тут началась новая фаза травли.
Как на подбор были заголовки соответствующих статей: «Что вы этим хотели сказать?», «Стиль Гаргантюа», «Мнимый талант»… А зимой того же года из арестованных писателей крестьянского направления в НКВД уже выбивали показания на Васильева, как на гипотетического исполнителя покушения на Сталина.
Мог ли он остаться в живых? Пожалуй, минимальный шанс у него был – исчезни он из Москвы и веди себя тише воды, ниже травы. Но для этого ему надо было перестать быть самим собой. На «террориста» он в глазах окружающих «тянул» уже несколько лет, а в последние месяцы, предчувствуя неизбежную гибель, вел себя с таким вызовом, что ему можно было приписать все что угодно – вплоть до взрыва Кремля. В феврале 1937 года он был арестован, а 16 июля расстрелян по приговору Верховного суда. Прах его был захоронен в братской могиле на территории Донского монастыря.
Секретари Союза писателей и через двадцать лет наотрез отказались ходатайствовать о его политической и литературной реабилитации, и реабилитирован он был лишь благодаря хлопотам все того же И. М. Гронского, который к этому времени сам отбыл восемнадцатилетний срок как покровитель «террориста» и «враг народа».
* * *
Сейчас, когда прошло время очередного обрушения традиционных опор Российского государства, а «национальной идеологией» стало на определенный период безудержное преклонение перед Западом, самое время заново прочесть стихи и поэмы Васильева, дабы понять нерасторжимую сущность евроазиатского мира, на котором испокон веков стояла Россия, – ее он нес в себе с младых ногтей, воплощая его в художественном слове уникальной яркости, пластики и прихотливости. Ибо «идущий на Запад теряет лицо на Востоке», – говоря словами современного поэта. Трагическая судьба Павла Васильева может послужить уроком в наши непростые дни, когда направо и налево только и слышатся обвинения в «русском фашизме». А его поэзия заново прочистит душу, укрепит духовно и придаст дополнительный импульс нелегким размышлениям о настоящем и будущем великого государства, которое никогда не сожмется до «необходимых» пределов в угоду отечественным и тамошним «доброжелателям». Может быть, сейчас наступает тот рубеж, когда васильевское слово будет по-настоящему востребовано – вопреки прижизненной и посмертной клевете и всякого рода спекулятивным «интерпретациям». Представляя читателю это первое в истории литературы собрание сочинений Васильева, вольно или невольно преисполняешься этой надеждой.
Сергей Куняев
СТИХИ
Письмо
Месяц чайкой острокрылой кружит,
И река, зажатая песком,
Всё темнее, медленней и туже
Отливает старым серебром.
Лодка тихо въехала в протоку
Мимо умолкающих осин, —
Здесь камыш, набухший и высокий,
Ловит нити лунных паутин.
На ресницы той же паутиной
Лунное сияние легло.
Ты смеешься, высоко закинув
Руку с легким, блещущим веслом.
Вспомнить то, что я давно утратил,
Почему-то захотелось вдруг…
Что теперь поешь ты на закате,
Мой далекий темноглазый друг?
Расскажи хорошими словами
(Я люблю знакомый, тихий звук),
Ну, кому ты даришь вечерами
Всю задумчивость и нежность рук?
Те часы, что провела со мною,
Дорогая, позабыть спеши.
Знаю, снова лодка под луною
В ночь с другим увозит в камыши.
И другому в волосы нежнее
Заплетаешь ласки ты, любя…
Дорогая, хочешь, чтоб тебе я
Рассказал сегодня про себя?
Здесь живу я вовсе не случайно —
Эта жизнь для сердца дорога…
Я уж больше не вздыхаю тайно
О родных зеленых берегах.
Я давно пропел свое прощанье,
И обратно не вернуться мне,
Лишь порой летят воспоминанья
В дальний край, как гуси по весне.
И хоть я бываю здесь обижен,
Хоть и сердце бьется невпопад, —
Мне не жаль, что больше не увижу
Дряхлый дом и тихий палисад.
В нашем старом палисаде тесно,
И тесна ссутуленная клеть.
Суждено мне неуемной песней
В этом мире новом прозвенеть…
Только часто здесь за лживым словом
Сторожит припрятанный удар,
Только много их, что жизнь готовы
Переделать на сплошной базар.
По указке петь не буду сроду, —
Лучше уж навеки замолчать.
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал, про что писать.
Чудаки! Заставить ли поэта,
Если он – действительно поэт,
Петь по тезисам и по анкетам,
Петь от тезисов и от анкет.
Чудаки! Поэтов разве учат, —
Пусть свободней будет бег пера!..
…Дорогая, я тебе наскучил?
Я кончаю. Ухожу. Пора.
Голубеют степи на закате,
А в воде брусничный плещет цвет,
И восток, девчонкой в синем платье,
Рассыпает пригоршни монет.
Вижу: мной любимая когда-то,
Может быть, любимая сейчас,
Вся в лучах упавшего заката,
На обрыв песчаный забралась.
Хорошо с подъятыми руками
Вдруг остановиться, не дыша,
Над одетыми в туман песками,
Над теченьем быстрым Иртыша.
1927
Азиат
Ты смотришь здесь совсем чужим,
Недаром бровь тугую супишь.
Ни за какой большой калым
Ты этой женщины не купишь.
Хоть волос русый у меня,
Но мы с тобой во многом схожи:
Во весь опор пустив коня,
Схватить земли смогу я тоже.
Я рос среди твоих степей,
И я, как ты, такой же гибкий.
Но не для нас цветут у ней
В губах подкрашенных улыбки.
Вот погоди, – другой придет,
Он знает разные манеры
И вместе с нею осмеёт
Степных, угрюмых кавалеров.
И этот узел кос тугой
Сегодня ж, может быть, под вечер
Не ты, не я, а тот, другой
Распустит бережно на плечи.
Встаешь, глазами засверкав,
Дрожа от близости добычи.
И вижу я, как свой аркан
У пояса напрасно ищешь.
Здесь люди чтут иной закон
И счастье ловят не арканом!
………………………………………………
По гривам ветреных песков
Пройдут на север караваны.
Над пестрою кошмой степей
Заря поднимет бубен алый.
Где ветер плещет гибким телом,
Мы оседлаем лошадей.
Дорога гулко зазвенит,
Горячий воздух в ноздри хлынет,
Спокойно лягут у копыт
Пахучие поля полыни.
И там, в предгории Алтая,
Мы будем гости в самый раз.
Степная девушка простая
В родном ауле встретит нас.
И в час, когда падут туманы
Ширококрылой стаей вниз,
Мы будем пить густой и пьяный
В мешках бушующий кумыс.
1928
Пушкин
Предупреждение? Судьба? Ошибка?
– Вздор!
Но недовольство тонко смыла мгла…
…Приспущенные флаги штор
И взмах копыт во тьму из-за угла.
И острый полоз взрезал спелый снег,
Закат упал сквозь роспись ярких дуг.
Поспешливо придумать сквозь разбег,
Что где-то ждет далекий нежный друг…
Вот здесь встречал, в толпе других, не раз…
И вдруг его в упор остановил
Простой вопрос, должно быть, темных глаз
И кисть руки у выгнутых перил.
Конечно, так! Он нежность не увез!
И санки вдруг на крыльях глубины,
И в голубом церемониале звезд —
Насмешливый полупоклон луны.
И санки вкось. А запад ярко хмур.
Сквозь тихий смех: – Какой невольный час…
Даль зеркала и пестрый праздник дур
И дураков. Не правда ли, Данзас?
Усталый снег разрезан мерзлой веткой,
Пар от коней.
– Нельзя ли поскорей… —
И ветер развевает метко
Трефовый локон сумрачных кудрей.
Туман плывет седеющий и серый,
Поляна поднята в кустарнике, как щит.
И на отмеренные барьеры
Отброшены небрежные плащи.
–
Рука живет в тугих тисках перчатки,
Но мертвой костью простучало:
Нет!
И жжет ладонь горячей рукояткой
С наивным клювом длинный пистолет.
Последний знак…
Судьба? Ошибка? – Вздор!
Раздумья нет. Пусть набегает мгла.
Вдруг подойти и выстрелить в упор
В граненый звон зеленого стекла.
И темный миг знакомых юных глаз,
Который вдруг его остановил…
– Вы приготовились?
…И дорогая…
– Раз!
У тонких и изогнутых перил.
Ведь перепутались вдруг, вспомнившись,
слова,
Которые он вспомнил и забыл.
– Вы приготовились?..
…То нежность, что ли?
– Два!
У стынущих, причудливых перил —
Вот в эту тьму багровую смотри!
Ты в этом мире чувствовал и жил.
…Бег санок легких, прозвеневших…
– Три!
У ускользающих, остынувших перил…
–
Пустынна ночь. И лунно вьется снег.
Нем горизонт. (В глуби своей укрой!)
Усталых санок ровно сдержан бег,
А сквозь бинты накрапывает кровь.
1928
Мясники
Сквозь сосну половиц прорастает трава,
Подымая зеленое шумное пламя,
И теленка отрубленная голова,
На ладонях качаясь, поводит глазами.
Черствый камень осыпан в базарных рядах,
Терпкий запах плывет из раскрытых отдушин,
На изогнутых в клювы тяжелых крюках
Мясники пеленают багровые туши.
И, собравшись из выжженных известью ям,
Мертвоглазые псы, у порога залаяв,
Подползают, урча, к беспощадным ногам
Перепачканных в сале и желчи хозяев.
Так, голодные морды свои положив,
До заката в пыли обессилят собаки,
Мясники засмеются и вытрут ножи
О бараньи сановные пышные баки.
…Зажигает топор первобытный огонь,
Полки шарит березою пахнущий веник,
Опускается глухо крутая ладонь
На курганную медь пересчитанных денег.
В палисадах шиповника сыплется цвет,
Как подбитых гусынь покрасневшие перья…
Главный мастер сурово прикажет: «Валет!» —
И рябую колоду отдаст подмастерьям.
Рядом дочери белое кружево ткут,
И сквозь скучные отсветы длинных иголок,
Сквозь содвинутый тесно звериный уют
Им мерещится свадебный, яблочный полог.
Ставит старый мясник без ошибки на треф,
Возле окон шатаясь, горланят гуляки.
И у ям, от голодной тоски одурев,
Длинным воем закат провожают собаки.
1929
Бахча под Семипалатинском
Змеи щурят глаза на песке перегретом,
Тополя опадают. Но в травах густых
Тяжело поднимаются жарким рассветом
Перезревшие солнца обветренных тыкв.
В них накопленной силы таится обуза —
Плодородьем добротным покой нагружен,
И изранено спелое сердце арбуза
Беспощадным и острым казацким ножом.
Здесь гортанная песня к закату нахлынет,
Чтоб смолкающей бабочкой биться в ушах,
И мешается запах последней полыни
С терпким запахом меда в горбатых ковшах.
Третий день беркута уплывают в туманы
И степные кибитки летят, грохоча.
Перехлестнута звонкою лентой бурьяна,
Первобытною силой взбухает бахча.
Соляною корою примяты равнины,
Но в подсолнухи вытканный пестрый ковер,
Засияв, расстелила в степях Украина
У глухих берегов пересохших озер!
Наклонись и прислушайся к дальним подковам,
Посмотри – как распластано небо пустынь…
Отогрета ладонь в шалаше камышовом
Золотою корою веснушчатых дынь.
Опускается вечер.
И видно отсюда,
Как у древних колодцев блестят валуны
И, глазами сверкая, вздымают верблюды
Одичавшие морды до самой луны.
1929
Рассказ о деде
Корнила Ильич, ты мне сказки баял,
Служивый да ладный – вон ты каков!
Кружилась за окнами ночь, рябая
От звезд, сирени и светляков.
Тогда как подкошенная с разлета
В окно ударялась летучая мышь,
Настоянной кровью взбухало болото,
Сопя и всасывая камыш.
В тяжелом ковше не тонул, а плавал
Расплавленных свеч заколдованный воск,
Тогда начиналась твоя забава —
Лягушачьи песни и переплёск.
Недобрым огнем разжигались поверья,
Под мох забиваясь, шипя под золой,
И песни летали, как белые перья,
Как пух одуванчиков над землей!
Корнила Ильич, бородатый дедко,
Я помню, как в пасмурные вечера
Лицо загудевшею синею сеткой
Тебе заволакивала мошкара.
Ножовый цвет бархата, незабудки,
Да в темную сырь смоляной запал, —
Ходил ты к реке и играл на дудке,
А я подсвистывал и подпевал.
Таким ты остался. Хмурый да ярый,
Еще неуступчивый в стык, на слом,
Рыжеголовый, с дудкою старой,
Весну проводящий сквозь бурелом.
Весна проходила речонки бродом,
За пестрым телком, распустив волоса.
И петухи по соседним зародам
Сверяли простуженные голоса.
Она проходила куда попало
По метам твоим. И наугад
Из рукава по воде пускала
Белых гусынь и желтых утят.
Вот так радость зверью и деду!
Корнила Ильич, здесь трава и плес,
Давай окончим нашу беседу
У мельничных вызелененных колес.
Я рядом с тобою в осоку лягу
В упор трясинному зыбуну.
Со дна водяным поднялась коряга,
И щука нацеливается на луну.
Теперь бы время сказкой потешить
Про злую любовь, про лесную жизнь.
Четыре пня, как четыре леших,
Сидят у берега, подпершись.
Корнила Ильич, по старой излуке
Круги расходятся от пузырей,
И я, распластав, словно крылья, руки,
Встречаю молодость на заре.
Я молодость слышу в птичьем крике,
В цветенье и гаме твоих болот,
В горячем броженье свежей брусники,
В сосне, зашатавшейся от непогод.
Крест не в крест, земля – не перина,
Как звезды, осыпались светляки, —
Из гроба не встанешь, и с глаз совиных
Не снимешь стертые пятаки.
И лучший удел – что в забытой яме,
Накрытой древнею синевой,
Отыщет тебя молодыми когтями
Обугленный дуб, шелестящий листвой.
Он череп развалит, он высосет соки,
Чтоб снова заставить их жить и петь,
Чтоб встать над тобою крутым и высоким,
Корой обрастать и ветвями звенеть!
1929
Сестра
В луговинах по всей стране
Рыжим ветром шумят костры,
И, от голода осатанев,
Начинают петь комары.
На хребтах пронося траву,
Осетры проходят на юг,
И за ними следом плывут
Косяки тяжелых белуг.
Ярко-красный теряет пух
На твоем полотенце петух.
За твоим порогом – река,
Льнут к окну твоему облака,
И поскрипывает, чуть слышна,
Половицами тишина.
Ой, темно иртышское дно, —
Отвори, отвори окно!
Слушай, как водяная мышь
На поёмах грызет камыш.
И спокойна вода, и вот
Молчаливая тень скользнет:
Это синие стрелы щук
Бороздят лопухи излук,
Это всходит вода ясней
Звонкой радугой окуней…
Ночь тиха, и печаль остра,
Дай мне руки твои, сестра.
Твой родной постаревший дом
Пахнет медом и молоком.
Наступил нашей встречи срок,
Дай мне руки, я не остыл,
Синь махорки моей – дымок
Пусть взойдет, как тогда всходил.
Под резным глухим потолком
Пусть рассеется тонкий дым,
О далеком и дорогом
Мы с тобою поговорим.
Горячей шумит разговор, —
Вот в зеленых мхах и лугах
Юность мчится во весь опор
На крутых степных лошадях.
По траве, по корявым пням
Юность мчится навстречу нам,
Расплеснулись во все концы
С расписной дуги бубенцы!
Проплывает туман давно,
Отвори, отвори окно!
Слушай, как тальник, отсырев,
Набирает соки заре.
Закипевшей листвой пыля,
Шатаются пьяные тополя,
Всходит рыжею головой
Раньше солнца подсолнух твой.
Осыпая горячий пух,
С полотенца кричит петух…
Утро, утро, сестра, встречай,
Дай мне руки твои. Прощай!
1930
Ярмарка в Куяндах
Над степями плывут орлы
От Тобола на Каркаралы,
И баранов пышны отары
Поворачивают к Атбасару.
Горький ветер трясет полынь,
И в полоне Долонь у дынь —
Их оранжевые тела
Накаляются добела,
И до самого дна нагруз
Сладким соком своим арбуз.
В этот день поет тяжелей
Лошадиный горячий пах, —
Полстраны, заседлав лошадей,
Скачет ярмаркой в Куяндах.
Сто тяжелых степных коней
Диким глазом в упор косят,
И бушует для них звончей
Золотая пурга овса.
Сто коней разметало дых —
Белой масти густой мороз,
И на скрученных лбах у них
Сто широких буланых звезд.
Над раздольем трав и пшениц
Поднимается долгий рев —
Казаки из своих станиц
Гонят в степь табуны коров.
Горький ветер, жги и тумань,
У алтайских предгорий стынь!
Для казацких душистых бань
Шелестят березы листы.
В этот день поет тяжелей
Вороной лошадиный пах, —
Полстраны, заседлав лошадей,
Скачет ярмаркой в Куяндах!..
Пьет джигит из касэ, – вина! —
Азиатскую супит бровь,
На бедре его скакуна
Вырезное его тавро.
Пьет казак из Лебяжья, – вина! —
Сапоги блестят – до колен,
В пышной гриве его скакуна
Кумачовая вьюга лент.
А на седлах чекан-нарез,
И станишники смотрят – во!
И киргизы смеются – во!
И широкий крутой заезд
Низко стелется над травой.
Кто отстал на одном вершке,
Потерял – жалей не жалей —
Двадцать пять в холстяном мешке,
Серебром двадцать пять рублей…
Горький ветер трясет полынь,
И в полоне Долонь у дынь,
И баранов пышны отары
Поворачивают к Атбасару.
Над степями плывут орлы
От Тобола на Каркаралы.
1930
Киргизия
Замолкни и вслушайся в топот табунный, —
По стертым дорогам, по травам сырым
В разорванных шкурах
бездомные гунны
Степной саранчой пролетают на Рим!..
Тяжелое солнце
в огне и туманах,
Поднявшийся ветер упрям и суров.
Полыни горьки, как тоска полонянок,
Как песня аулов,
как крик беркутов.
Безводны просторы. Но к полдню прольется
Шафранного марева пряный обман,
И нас у пригнувшихся древних колодцев
Встречает гортанное слово – аман!
Отточены камни. Пустынен и страшен
На лицах у идолов отблеск души.
Мартыны и чайки
кричат над Балхашем,
И стадо кабанье грызет камыши.
К юрте от юрты, от базара к базару
Верблюжьей походкой размерены дни,
Но здесь, на дорогах ветров и пожаров,
Строительства нашего встанут огни!
Совхозы Киргизии!
Травы примяты.
Протяжен верблюжий поднявшийся всхлип.
Дуреет от яблонь весна в Алма-Ата,
И первые ветки
раскинул Турксиб.
Земля, набухая, гудит и томится
Несобранной силой косматых снопов,
Зеленые стрелы
взошедшей пшеницы
Проколют глазницы пустых черепов.
Так ждет и готовится степь к перемене.
В песках, залежавшись,
вскипает руда,
И слушают чутко Советы селений,
Как ржут у предгорий, сливаясь, стада.
1930
Джут
По свежим снегам – в тысячи голов —
На восток табуны идут.
Но вам, погонщики верблюдов,
Холодно станет от этих слов —
В пустыне властвует джут.
Первые наездники алтайских предгорий
На пегих, на карих, на гнедых лошадях
Весть принесли, что Большое горе
Наледью синей легло в степях.
И сразу топот табунный стих,
Качнулся тяжелый рев —
Это, рога к земле опустив,
Мычали стада коров;
Это кочевала беда, беда
Из аула в другой аул:
– Джут шершавой корою льда
Серединную степь стянул.
А степь навстречу пургой, пургой:
– Ой, кайда барасен… ой-пур-мой!
А по степи навстречу белый туман:
– Некерек, бельмейм – жаман, жаман.
Жмется к повозкам бараний гурт,
Собаки поднимают долгий вой.
Месяц высок. И хозяин юрт
Качает мудрою головой.
У него ладонь от ветра ряба,
К нему от предгорий спешат гонцы,
На повозках кричат его ястреба,
Иноходцы его трясут бубенцы.
По первой дороге свежих снегов
На восток табуны идут.
Но всё меньше и меньше веселых слов
У погонщиков верблюдов,
И в пустыне властвует джут.
– Эй, хозяин высоких юрт,
Гибнет, гибнет бараний гурт.
– Эй, хозяин, беда, беда,
Погибают твои стада.
Настигает смерть, аксакал,
Лучший твой жеребец упал.
Это старый и хитрый джут,
Он по пальцам считает дни.
Хохоча, сумасшедший джут
Зажигает волчьи огни.
– Сжалься, старый, безумный джут.
Не бери всех коней и коров,
Отдаем тебе, старый джут,
Самых жирных баранов кровь,
Убери, убери, хитрый джут,
Тонкий лед и белый туман,
Для тебя на кострах, старый джут,
Спляшет самый лучший шаман. —
Но, от голода одичав,
Кони мчат последний разбег,
И верблюды тревожно кричат,
Зарываясь ноздрями в снег.
Ветер прям, и снега чисты.
– Ой-пур-мой, ой-пур-мой, кайда? —
Голубые снега пустынь
Опускаются на стада.
– Эй, хозяин, склони сильней
Ястребиные крылья скул,
По старинным путям степей
Ты спешишь на Баян-Аул.
У копыт поземки бегут,
За спиною хохочет джут.
И хоть ровен путь и хорош,
Всё равно никуда не уйдешь.
Черный куст, тонкий куст – можжевель.
Лижет стремя твое метель.
Все равно не уйдешь далеко
От седых ее языков.
Пропадешь средь голых степей.
– Эй, хозяин! Хозяин, и-ей!..
1930
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































