Текст книги "Приз"
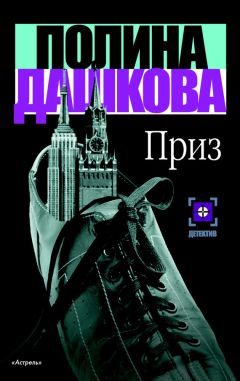
Автор книги: Полина Дашкова
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Слышь, Коля, тут у меня потеряшка, – начал объяснять Поликарпыч, – девчонка семнадцать лет, обгоревшая, без документов, вроде проживает в Москве. Попала в зону пожара, говорить не может. Там у вас, случайно, ориентировок никаких не поступало?
Вопреки ожиданиям старший лейтенант Мельников отреагировал вполне живо, спросил, как она выглядит.
– Девушка, семнадцать лет, волосы длинные, темные. Глаза темные, лицо овальное, нос прямой, рост средний, – принялся объяснять Поликарпыч и еще раз, не спеша, изложил все подробности.
– Погоди, что значит – не может говорить? Глухонемая, что ли? – тревожно спросил Мельников.
– Да нет, вроде нет. Игнатьевна сказала, шок у нее, от нервов.
– Кто такая Игнатьевна?
– Фельдшерица, Настя Кузина. Я ж объясняю, она ее на кладбище подобрала, полумертвую. Я вот не знаю, что делать? В Москву везти или сюда к вам, в больницу сначала? Ты скажи, ориентировка хоть какая похожая не поступала? Девушка, семнадцать лет…
Насчет ориентировки старший лейтенант так и не ответил, зато пообещал приехать и разобраться, чем несказанно удивил деревенского участкового. Уж от кого, но от Кольки Мельникова он не ждал такой расторопности и такого человеческого участия.
Колька был из местных, родился в соседнем поселке, в неблагополучной пьющей семье. Лет пятнадцать назад Поликарпыч лично драл его за уши и не ставил на учет только из жалости. Подросток Мельников пару раз вместе с компанией пытался ограбить сельский магазин, участвовал в кровавых драках на дискотеке, причем отличался особенной, отчаянной жестокостью.
Была одна история, совсем уж паскудная. Какие-то мерзавцы напали на юродивую Лидуню, изнасиловали ее, избили и бросили в лесу. Случайно на нее наткнулся Вася Кузин, сын фельдшерицы Насти, дотащил до деревни, приволок в медпункт. Настя месяц ее выхаживала.
Преступников так и не нашли. Не было свидетелей. Лидуня сжимала в кулаке черный капроновый чулок. Немного оправившись, сумела объяснить, что напало на нее четыре человека, и морды у них были черные. Позже по деревне пошел слух, что чулок она содрала с головы Кольки Мельникова. Но доказательств никаких не было, кроме истошных криков Лидуни, когда она видела подростка Мельникова.
Он мог бы стать уголовником, но после армии пошел служить в милицию.
Поликарпыч включил электрический чайник, уселся на крыльцо. Да, Колька Мельников мог бы стать уголовником, а стал старшим лейтенантом, и вполне возможно, дослужится до полковника. Интересно все-таки поворачивается жизнь. Пройдет еще лет десять, и вот вам полковник милиции, Мельников Николай Иванович, солидный уважаемый человек. И никто не вспомнит, каким он был: наглый, хитрый подросток, бьющий всегда до крови, жестокий звереныш по кличке Лезвие.
Глава одиннадцатая
– Терпеть не могу чай в пакетиках, – сказал Рейч, заливая заварку кипятком в пузатом фарфором чайнике, – странная русская привычка – пить на ночь крепкий чай.
– Я больше люблю кофе, – сказал Григорьев.
– Кончился кофе. Это вам не Москва. В Москве можно купить что угодно, в любое время суток, от пачки кофе до автомобиля. Остальная цивилизованная Европа к восьми вечера закрывает магазины и отдыхает. Так что попьете со мной чайку. Кстати, кофеину в нем значительно больше.
Они сидели в гостиной при тусклом свете старинных бра. Рики больше не появлялся, вероятно, лег спать. Генрих разлил чай по чашкам, поставил на журнальный стол коробку дорогого шоколада и пепельницу.
– Можете курить. Мы с Рики вообще-то никому из гостей не разрешаем курить в гостиной, но для вас, так и быть, я сделаю исключение.
Генриху хотелось поболтать.
– Страстная любовь нацистов ко всему таинственному, мистическому, шла от интуитивного чувства собственной неполноценности, – задумчиво произнес Рейч, взял свою чашку и понюхал пар, – среди них было мало нормальных здоровых людей. Почти в каждом какое-нибудь уродство, или физическое, или психическое, или то и другое сразу.
Он поставил чашку, кряхтя, поднялся с дивана, подошел к книжным полкам, достал большой потрепанный том. Это была «Краткая энциклопедия Третьего рейха», изданная в США, в начале шестидесятых. У Григорьева дома имелась такая же книга, с дарственной надписью от Рейча. Он был одним из составителей.
– Вот, смотрите, – Генрих уселся на ручку его кресла.
«А это, кажется, надолго, – заметил про себя Григорьев, глядя, как бережно переворачивает Рейч плотные пожелтевшие страницы.
– Йозеф Геббельс, – представил Рейч носатого человека на фотографии так, словно лично знакомил с ним Григорьева. – Две главные слабости – женщины и власть. Именно в таком порядке. В общем, ничего оригинального. Обидчив и сентиментален. Вел дневник, в котором аккуратно фиксировал все свои любовные переживания.
«Я оставлю всех женщин и буду обладать только ею одной. Она останется со мной и расцветет пленительной белокурой сладостью. Где же ты, моя королева?»
Цитату из дневника Геббельса Рейч прочитал выразительно, с придыханием, и стал листать дальше. Открыл на портрете очень красивой женщины. Представил ее.
– Магда Геббельс, в девичестве Фридлендер. Хороша, правда? Была на голову выше своего карлика мужа. Высокая худенькая блондинка с правильными лицом и большими нежными глазами. Ненасытная романтическая авантюристка с претензией на аристократизм. С юности обожала разыгрывать пышные мелодрамы и выстраивать любовные роковые треугольники. Митинги нацистов стала посещать из-за врожденного пристрастия к пафосу. Преклонялась перед Гитлером, боготворила его. Именно фюрер благословил брак Йозефа и Магды, сделал из их дома нечто среднее между партийным штабом и светским салоном, а из них – образцовую арийскую семью. В гостиной с утра было полно народу, фюрер вещал, остальные внимали. Магда в кружевном фартуке готовила для своего божества вегетарианские блюда.
Григорьев слушал молча, прихлебывал чай и смотрел, как молодеет лицо Рейча. Ярче сверкают глаза, на щеках проступает румянец, губы то и дело растягиваются в странной нервной улыбке. Когда он перелистывал страницы, было заметно, что пальцы его слегка дрожат.
– Геббельс, сын бухгалтера из провинциального городка, с юности страдал комплексом неполноценности из-за своей колченогости и малого роста. Это стало стержнем его блестящего пропагандистского дара. Он умел горячо и убедительно орать о неполноценности других людей, миллионов людей, целых наций. Как Гитлер мнил себя великим живописцем, тонкой художественной натурой, так Геббельс считал себя философом, писателем, драматургом, человеком искусства. Благодаря помощи Католического общества после войны ему удалось прослушать курсы лекций в нескольких лучших германских университетах. В 1922-м он даже получил степень доктора философии, защитив диссертацию на тему «Романтическая драма». Но на этом карьера философа для него закончилась. Ему пришлось работать мелким биржевым служащим в банке. Именно тогда он вступил в НСДАП и познакомился с Гитлером. Позже получил возможность компенсировать свои творческие амбиции. Стал министром культуры, публично казнил чужие книги через сожжение, запрещал фильмы и спектакли, а их авторов высылал или истреблял физически. Покровительствовал молоденьким актрисам, каждый очередной роман закручивал по всем законам сентиментальной дешевой мелодрамы, со страстями, слезами, роскошью роковых признаний, букетов и будуаров. Опомнился и стал осмотрительней после истории с чешской актрисой Лидой Бааровой. Из-за двадцатидвухлетней славянки министр культуры чуть не развелся со своей образцовой арийской женой Магдой. Он предложил Магде любовь втроем, но такой треугольник Магду не устраивал. Она пожаловалась фюреру. Фюрер в то время планировал вторжение в Чехию. Роман министра культуры с чешской актрисой мог иметь ненужный политический резонанс. Актриса была выслана из Германии, и фильмы с ее участием запрещены к показу на всей территории Рейха.
Рейч замолчал, и стало тихо в гостиной. Григорьев слышал его сиплое дыхание и шорох страниц. Рейч быстро листал книгу, наконец нашел, что искал.
– Забавно, что Лида Баарова тоже вела дневник. «Я была влюблена в этого сильного мужчину, начиненного властью. Он целовал каждый сантиметр моего тела, он делал все, чтобы в первую очередь наслаждение получила я, а не он. И даже когда он предложил мне незнакомые виды любви, я не испугалась. Мы занимались любовью всю ночь, и если бы не утреннее совещание у Гитлера, Йозеф бы не остановился никогда!». Она умерла всего лишь два года назад. Я встречался с ней в Праге. Она до глубокой старости не могла забыть своего маленького косолапого любовника.
– Да, все это очень интересно, Генрих, но вы знаете, уже третий час ночи, – сказал Григорьев, – я бы хотел…
Рейч болезненно сморщился и помотал головой.
– Не перебивайте меня, Андрей. То, что я рассказываю, очень важно. Эта информация для вас сейчас ценнее любой другой. Вы сами поймете, чуть позже. Пока просто поверьте мне на слово. Не спешите, и вы не пожалеете, что потратили ночь. Вы спасли мне жизнь, а я не люблю быть в долгу. Если хотите спать, выпейте еще чаю.
– Хорошо, – вздохнул Григорьев, – хорошо, Генрих. Простите, что перебил.
Рейч кивнул, улыбнулся и перевернул страницу.
– Роман с Бааровой чуть не стоил Геббельсу карьеры. Он впал в немилость. Но случай и сообразительность спасли его. В Париже был убит немецкий дипломат. Убийца оказался евреем. Геббельс выступил перед боевиками партии на юбилее «Пивного путча» и призвал отомстить евреям. Так был придуман и организован грандиозный общегерманский еврейский погром 9–11 ноября 1938 года, вошедший в историю под названием «Хрустальная ночь». И сразу за этим последовал приказ Геббельса всем евреям носить на рукавах желтые звезды. Фюрер был доволен. Он простил своего пылкого министра, и вновь приблизил его к себе. На правах близкого друга, вождя и божества помирил Йозефа с Магдой. Каждого очередного ребенка, который рождался в этом семействе, называли на букву «Г». Гильде, Гельмут, Гельда, Гайде, Гедда, Гольде, – Рейч поднял тяжелый том и поднес почти к самому лицу Григорьева семейную фотографию Геббельсов.
– Я знаю, что она их всех отравила в мае сорок пятого, – сказал Григорьев и отвернулся.
– Не сомневаюсь, что вы это знаете, Андрей. Но сомневаюсь, что вы когда-нибудь взяли на себя труд подумать – почему? Согласитесь, среди исторических персонажей всех времен и народов вряд ли найдется вторая такая дама. Представьте, с той степенью живости, с какой позволит вам ваше воображение. Молодая красивая женщина, очень женственная, холеная блондинка с большими нежными глазами. Не пьяница, не наркоманка, не сумасшедшая. По отзывам всех, кто ее знал, милая, обаятельная, чувствительная. Она укладывает шестерых своих детей в кроватки. Младшей девочке три года. Перед этим она попросила врача, который оставался вместе с ними в бункере, вколоть детям инъекции морфия, а когда они заснули, собственноручно вложила каждому в рот по ампуле с цианистым калием и сжимала им челюсти, чтобы ампулы раскололись.
Григорьев встал, прошелся по гостиной, закурил.
– Генрих, а зачем мне это представлять? – спросил он тихо, по-русски.
Но Рейч, казалось, не расслышал вопроса.
– Врач предлагал ей вывести детей из бункера, отвести в госпиталь, отдать под опеку Красного Креста. Знаете, что она ответила? «Невозможно. Это дети Геббельса». Взяла из шкафа шприц, наполненный морфием, и вручила врачу. Врач потом плакал. Его звали Гельмут Кунц. Он был хорошо знаком с доктором Отто Штраусом. Между прочим, именно Отто Штраус снабдил всех, кто остался в бункере к маю сорок пятого ампулами с цианистым калием.
– Генрих, а как к вам попал его перстень? – спросил Григорьев.
– Я же сказал, не спешите. Всему свое время. На очереди у нас совсем другой персонаж. Мартин Борман. Сын мелкого почтового служащего из провинциального городка Хальберштадт. Закончил курсы специалистов сельского хозяйства, пока учился, стал активным членом Молодежного объединения против засилия евреев, при Германской национальной народной партии. Торговал продуктами на черном рынке, был успешным спекулянтом. Умел делать деньги на голоде и безработице. В НСДАП вступил в двадцать седьмом году, через год стал начальником хозяйственного отдела. К тридцатому году сблизился с Гиммлером, помогал налаживать финансовый механизм работы СС, стал управляющим Кассы взаимопомощи НСДАП.
– Я читал, ему удалось ускользнуть из Берлина в мае сорок пятого, – сказал Григорьев, – он скрылся в Латинской Америке вместе с деньгами партии.
– Нет. Он погиб в Берлине, прорываясь сквозь оцепление. Но точно это стало известно только четыре года назад, когда провели экспертизу ДНК останков. Впрочем, это совсем другая история. Мартин Борман перстня «Черного ордена» не носил, в теорию космического льда не верил. Он верил только в деньги. Он знал, как их достать, и умел ими распорядиться. Деньги стояли для него на первом месте, а власть на втором. Он заработал любовь и доверие фюрера, отстегивая ему на личные нужды крупные суммы из кассы взаимопомощи партии, а кассу пополнял, выбивая еще более крупные суммы из карманов самых богатых промышленников Германии. Упрямо теснил своим мужицким крепким плечом всех, кто подбирался к фюреру слишком близко, и в итоге стал тенью Гитлера. Контролировал его личные расходы, строительство резиденций, все, вплоть до кухни и подарков Еве Браун. Но я упомянул этого хитрого жадного орангутанга лишь потому, что он удивительно похож на тех, кого сегодня у вас в России называют олигархами. Смотрите, как интересно. Я, кажется, уже говорил вам, что Владимир Приз как будто родом из Третьего рейха. А Мартин Борман вполне современный персонаж. Время – понятие относительное. Я думаю, если бы эти двое встретились, они бы неплохо поладили.
– Но, слава Богу, они никогда не встретятся, и вообще, Генрих, не каркайте!
– Что? – Рейч удивленно шевельнул бровью. – Вы хотели сказать, не будьте вороной?
– Нет. Совсем другое, – Григорьев улыбнулся, – я хотел сказать: не накликайте беду.
– Разве слова что-нибудь меняют? Нет, Андрей. Болтать можно что угодно. В истории работают совсем другие механизмы. Все повторяется, переплетается. После Первой мировой войны в Германии никто ни во что не верил. Нищета, безработица, коррупция, ночные клубы, игорные заведения, публичные дома. Обнаженные танцоры и танцовщицы извивались перед пьяной публикой. Это была эпоха черной магии, астрологии, садизма и мазохизма. Немцы, затаив дыхание, следили за громкими судебными процессами над маньяками и вампирами. Газеты печатали самые жуткие подробности убийств. Жестокость стала чем-то вроде общенационального наркотика. Все странное, извращенное, патологическое приветствовалось, все нормальное, здоровое, объявлялось скучным и серым. Вам это ничего не напоминает? Германия после Первой мировой, Россия после развала СССР похожи, как родные сестры.
– В начале девяностых – да, в России все было плохо, – кивнул Григорьев, – но сейчас наступила некоторая стабильность.
– Германия перед воцарением нацизма тоже успела пережить короткий экономический подъем. Однако дело не только в экономике и политике. Они духовно похожи. Вам не кажется?
– Нет. Не кажется. И вообще, все эти разговоры о российских кошмарах мне, честно говоря, надоели. Семьдесят лет советской власти русским рассказывали, как загнивает западное общество. Повальная безработица, наркомания, проституция. На улицах стреляют, всем правит мафия. Русские не верили, смеялись над этим враньем, сочиняли о нем анекдоты. Последние пятнадцать лет западные средства массовой информации то же самое говорят о России. И западное общество верит, с тупой серьезностью. Вы, Генрих, судите о стране, в которой никогда не бывали, по газетам и теленовостям. Это неправильно.
– Ох, как же вы рассердились, Андрей, – улыбнулся Рейч. – Ладно, не буду, как вы выразились, каркать, – он пролистал страницы и опять поднес картинку к самому носу Григорьева.
На картинке был Генрих Гиммлер. Очень удачная фотография. Усталые умные глаза сквозь пенсне, мягкая полуулыбка. Если не знать, кто это, – вполне милое доброе лицо.
– Мой родитель, – произнес Рейч сквозь глухой смешок, – можно даже сказать, отец. Папа.
«Что за бред? Генрих Рейч не может быть сыном Гиммлера. Он, правда, не в своем уме, – тихо ужаснулся Григорьев, – я слушаю его четвертый час. Уже светает. А он, оказывается, сумасшедший».
* * *
«Когда я смогу говорить, я никому не расскажу об этом, – пообещала себе Василиса, баюкая свою забинтованную правую руку, как куклу, – если я начну рассказывать, решат, будто я сумасшедшая или наркоманка. Мне мерещатся какие-то слишком конкретные и подробные кошмары. Может быть, готовясь к экзамену по истории, я переусердствовала? Сколько всего я прочитала о Второй мировой войне? Ну, если честно, не так уж и много. Я зубрила даты, имена полководцев, хронику побед и поражений. Но я не читала о том, как в концлагере жена коменданта шила сумочки из человеческой кожи, о том, как старались понравиться палачам голые жертвы, как выпрямляли спины, расправляли плечи. Женщины царапали себе кожу, чтобы подкрасить кровью щеки и губы. В газовые камеры они шли бодрым шагом и тратили на это жалкие остатки физических и душевных сил. А чудовище, Отто Штраус, откуда он взялся? Я вижу его глазами, слышу его ушами. Я думаю, как он. Его мысли внутри моей головы, словно мозговые паразиты, глисты какие-то. Мерзость. Не хочу думать. Не хочу говорить».
Она лежала, отвернувшись к стене. До нее доносилось мирное, уютное бормотание юродивой Лидуни, которая помогала хозяйке вытряхивать во дворе пестрые тонкие половики. Кудахтали куры, кричал петух. Хозяйка жаловалась Лидуне, что все не может купить пылесос.
– Ты смотри, ходики встали! – услышала Василиса голос хозяйки совсем близко.
Стукнула табуретка. Анастасия Игнатьевна, кряхтя, залезла на нее, чтобы снять ходики.
– Ну что ты будешь делать? Не заводятся! Столько лет шли исправно.
– Дай я папобую! – предложила Лидуня.
– Ты попробуешь! Ты их только доломаешь. Который час? Ой, Матерь Божья, и будильник встал! Это что же за беда такая?
Последнее, что слышала Василиса, была песенка Лидуни:
– Тик-так, тик-так! – тоненько, протяжно повторяла юродивая.
В просторном кабинете, обставленном тяжелой кожаной мебелью, с темными шторами на окнах, которые не пропускали дневного света, тоже остановились часы. Застыл тяжелый фарфоровый маятник старинных, напольных. Замерли стрелки на маленьких циферблатах золотых наручных. Но два человека в кабинете не заметили этого. Генерал СС, доктор медицины Отто Штраус сидел напротив своего бывшего одноклассника, нынешнего пациента Генриха Гиммлера. На столе перед Гейни лежали аккуратные стопки документов, писем, докладных записок. Он ставил пометки на полях зеленым карандашом, прочитав очередную бумагу, отмечал ее тремя буквами GEL («прочитано»), подписывал, складывал в отдельную стопку. Работая с бумагами, Гиммлер всегда пользовался только зеленым карандашом, в отличие от Геринга, который предпочитал красный.
Рядом, на маленьком круглом столике, лежал старинный лечебник, переизданный недавно по приказу Гиммлера. Из книги торчали аккуратные закладки. Гейни увлекался траволечением. На территории Освенцима, где почва обильно удобрялась пеплом, специальная группа заключенных выращивала целебные травы: ромашку, зверобой, розмарин. В кабинете, на одной из полок, стоял ряд стеклянных банок с сухой травой. Гейни подошел к полке, взял банку, открыл ее, поднес к лицу Штрауса.
– Понюхай, Отто. Это анис. Я завариваю его и пью для улучшения пищеварения. Тебе не кажется, что запах немного странный?
– Пахнет анисом, – сообщил Штраус, пошевелив ноздрями.
– Нет никаких посторонних примесей? – спросил Гиммлер, и сам внимательно понюхал банку.
Гейни боялся ошибиться и проявить слабость. Быть отравленным, застреленным, взорванным, оказаться жертвой заговора – это ошибка, следствие легкомыслия и недобросовестности. Дать себя убить значит проявить слабость.
– У меня третий день подряд болит желудок, и сильное сердцебиение, – пожаловался Гейни.
– Давай я тебя осмотрю.
Они прошли в маленькую комнату, примыкающую к кабинету. Штраус щелкнул выключателем, вспыхнули ослепительные электрические шары. Гейни, вздыхая и кряхтя, снял китель, повесил его на спинку стула, улегся на кушетку, застеленную свежей хрустящей простыней. Штраус вымыл руки, долго тер их полотенцем, чтобы согрелись. Гиммлер не терпел, когда к его коже прикасались холодными пальцами.
– Ты переутомился, Гейни, – говорил Штраус, прощупывая, простукивая рыхлый белый живот своего пациента. – Мало спишь, очень много работаешь. Твой желудок болезненно реагирует не только на тяжелую пищу, но и на нервные перегрузки.
– Думаешь, анис здесь ни при чем?
– Конечно, ни при чем. Если ты, конечно, не будешь злоупотреблять им. Все хорошо в меру.
– Отто, меня хотят отравить.
– Я знаю, Гейни.
– Ты так спокойно говоришь об этом?
– Да, Гейни. Я говорю спокойно, потому, что это совершенно нормально. Есть немало людей, которые желают твоей смерти. Ты знаешь это также хорошо, как я. Но бояться не стоит. Если возникли конкретные подозрения – надо проверить и принять меры. Не мне тебя учить.
– Отто, я имею в виду не яд, не химическое вещество. Меня травят грязной клеветой, мерзкими подозрениями. Я не убивал Фриду!
– Конечно, Гейни. Ты ее не убивал.
Без привычного пенсне лицо Гиммлера менялось. Оно становилось растерянным и жалким. Таким, каким было двадцать два года назад, в Мюнхене, когда он явился ночью, в маленькую квартиру Отто, студента медицинского факультета. Явился испуганный, дрожащий и сказал, что его ищет полиция.
– Я не убивал эту проклятую шлюху! – повторял он, стуча зубами о стакан с горячим молоком. – Отто, клянусь, я ее не убивал!
Штраус поверил ему. Гейни с детства был робким, тихим, законопослушным. Он боялся своего отца, директора гимназии, боялся учителей и одноклассников. Ему всегда хотелось быть правильным, чтобы никто не ругал, не наказывал, только хвалили. Из него должен был получиться отличный, исполнительный чиновник. Но уголовный убийца – никогда.
– Меня хотят отравить, – шептал он, – этот евнух, этот интриган хочет отравить нас всех, даже фюрера! Он на каждого собирает секретное досье. Ты понимаешь, о ком я говорю?
Штраус уже давно понял. Перед его мысленным взором возникло лицо Гейдриха. Правильный тонкий овал. Огромный, круто срезанный кверху лоб в обрамлении белокурых гладких волос, разделенных идеальным пробором. Голубые глаза. Тяжелый мужественный нос. Крупный рот, надменный и чувственный.
– Гейдрих отлично работает, его престиж растет, фюрер ценит его очень высоко, считает умницей, преданным и честным бойцом. Скоро он станет министром внутренних дел, – тихо, задумчиво произнес Гейни и подергал себя за ухо.
Уши у него были оттопырены, в детстве его дразнили «ушастиком».
– Да, – кивнул Штраус, – наш друг Рейнхард блестяще работает. Особенно удачна его политика «кнута и сахара» в Моравии и Богемии. Он умеет подавлять население оккупированных территорий не только суровыми репрессиями, но и хитростью. Он разрушает сопротивление врага изнутри. Враг чувствует его силу и ненавидит его. А ненависть населения оккупированных территорий – вещь опасная.
– В Праге сейчас неспокойно. – Гейни встал с кушетки, накинул халат, надел свое пенсне и озабоченно сдвинул брови. – Конечно, замок в Градчанах хорошо охраняется. Резиденция имперского заместителя протектора Богемии и Моравии, обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха охраняется очень хорошо.
Отто тонко улыбнулся.
– Да, я не сомневаюсь, что охрана там самая надежная. Но если бы обергруппенфюрер постоянно находился у себя в резиденции, тогда можно было бы с полной уверенностью гарантировать его безопасность. Однако работа, образ жизни, да и особенности характера, заставляют нашего дорогого друга Рейнхарда то и дело покидать свою резиденцию. Он любит разъезжать по Праге и ее окрестностям в открытом автомобиле.
Они вернулись в кабинет. Гейни заметно взбодрился.
– Который час? – спросил он. – Мне казалось, уже половина первого, а всего лишь двенадцать.
Штраус вздернул руку, взглянул на часы. Секундная стрелка неслась по кругу, как сумасшедшая. Минутная, вздрагивая, догоняла ее. Это длилось всего мгновение. Тяжело качнулся маятник напольных часов, они пробили половину первого. Их стрелки успели встать, куда следовало, так быстро, что никто этого не заметил.
Гиммлер снял пенсне, протер стекла.
– Как ты думаешь, Отто, может, мне стоит пить отвар из листьев и плодов черники? Я читал, черника укрепляет зрение.
– Конечно, Гейни, – машинально кивнул Штраус и поморщился.
У него распухли пальцы правой руки. Странное покалыванье в кисти, как будто нарушилось кровообращение. И шум в ушах. Какие-то непонятные, пульсирующие звуки то отдалялись, то приближались, переплетались с гаснущим боем часов и напоминали человеческую речь. Кроме немецкого, Штраус владел еще английским, французским и латынью. Но странный голос, то ли детский, то ли женский, говорил на каком-то другом языке, которого Штраус не знал.
«Они пожирают друг друга, как пауки, как скорпионы в банке. Их давно нет, но они продолжают пожирать друг друга. Это их жизнь и смерть. Это их вечность».
Василисе показалось, что она произнесла это вслух. Но только показалось. Она пока не могла говорить.
Отто Штраус принялся массировать правую руку. Перстень был горячим.
– Тик-так! Тик-так! Смати! Часики идут!
Юродивая Лидуня трясла Василису за плечо, требовала внимания.
– Надо же, сами затикали! – обрадовалась Анастасия Игнатьевна. – Это, наверное, какие-нибудь атмосферные явления, магнитные волны. Я недавно в газете читала, бывают такие незаметные колебания земли, что человек ничего не чувствует, а часовой механизм реагирует.
«Человек просто бредит, – возразила про себя Василиса, – когда человеку плохо, у него бывают галлюцинации. И ничего странного в этом нет. Когда я вижу сны, я ведь не знаю, мои это сны или чьи-то чужие, и откуда они берутся, из какого времени, из какого пространства попадают в мою несчастную глупую башку».
* * *
– Я знаю, Андрей, вы думаете, я сошел с ума, – Рейч грустно улыбнулся, – конечно, я не сын Генриха Гиммлера. Но своим появлением на свет я обязан именно ему, этому селекционеру-любителю. Ни отца, ни матери у меня не было. Я – плод опытов, которые проводил птицевод Гиммлер, сначала на курах, потом на людях. Он был помешан на евгенике, хотел вывести новую генерацию чистопородных арийцев и создал для этого специальные учреждения, «лебенсборн», нечто вроде племенных заводов. Там спаривались элитные офицеры СС, члены «Черного ордена», с отборными арийскими девушками. И те, и другие обязаны были предоставить документы, подтверждавшие чистоту их крови, арийское происхождение их предков до пятого колена. Гиммлер верил, что пища влияет на психику и физиологию. Офицеров и девушек сажали на специальную диету. Они питались, как древние викинги, молоком и кашей. Гипноз, массажи, сеансы медитации. Спариванье проходило под медицинским контролем. С беременными самками работали медиумы, экстрасенсы, колдуны, накачивали их энергией космического льда и любовью к фюреру. Детей отнимали сразу после рождения и растили в питомниках, тоже по специальной программе. Таким образом удалось вывести около пятидесяти тысяч существ. Каждый пятый ребенок оказался умственно отсталым. Мне повезло, у меня с мозгами все нормально. Хотя, судя по вашему лицу, Андрей, вы в этом не уверены.
Григорьев улыбнулся.
– Ладно вам, Генрих. Перестаньте. Мне что, поклясться на Библии, что я не считаю вас сумасшедшим?
– Клясться не надо. Просто отнеситесь серьезно к тому, что я вам рассказываю. Между прочим, вы первый, кому я это рассказываю. Я понимаю, вы явились не за тем, чтобы послушать мои рассуждения о нацизме и узнать, каким образом я появился на свет. Вам нужно нечто другое. Я к вашим услугам. Все, что я могу для вас сделать, я сделаю. Но сначала вы меня дослушаете, хорошо?
За окном уже рассвело. Весело щебетали городские птицы. Спать расхотелось. Выбора у Григорьева не было.
– Хорошо, – кивнул он, – мне действительно все это очень интересно, Генрих, и я готов слушать вас сколько угодно.
– Я помню Гиммлера и Штрауса, – монотонно, медленно продолжал Рейч. – Они навещали питомник. Я был совсем маленький, но отлично помню этих двоих. Я также знаю, что через неделю после моего рождения Гиммлер брал меня на руки. Вместе со Штраусом он явился осмотреть партию новорожденных. Я выглядел отлично, был здоровей и красивей других. Сейчас я покажу вам.
Он отложил энциклопедию, достал с полки маленький альбом в черном бархатном переплете, с золочеными уголками. Расстегнул изящный замочек, пролистал толстые твердые страницы, переложенные папиросный бумагой. На каждой только одна фотография.
– Я не стал помещать этот снимок в энциклопедию, – сказал Рейч, – я никогда не опубликую и не продам его. Для меня это семейная реликвия. Смотрите.
На снимке был Гиммлер в белом халате с голым пухлым младенцем на руках. Рядом худой высокий человек, тоже в халате. За ними виднелись смутные головы двух медсестер в форменных косынках, надвинутых на лоб, с маленькими свастиками посередине, там, где у обычных сестер нашит красный крест. Еще можно было разглядеть край стеклянного шкафа и стол, на котором стояли детские весы-лодочка.
– Отто Штраус? – спросил Григорьев, указав на высокого человека.
– Да. Он очень фотогеничен. Умное приятное лицо. Лицо профессора, интеллектуала. Гиммлер рядом с ним выглядит серым банальным чиновником. Он и был таким. Они отлично дополняли друг друга. Штраус называл Гиммлера Гейни, позже стал называть Рейхс-Гейни. Их дружба была очень трогательной. Гиммлер любил придаваться сентиментальным воспоминаниям о детстве, о школе, о запахе мела и чернил, о свиных ножках. Он был романтический бюрократ. Мать Штрауса отлично готовила, и маленький Гейни иногда обедал у них по воскресеньям, после того, как выполнял свои обязанности служки в католическом храме. Отец Гиммлера был глубоко верующим католиком, заставлял его не только посещать храм, но и работать там служкой. Вот откуда пошла патологическая ненависть Гиммлера к католической церкви, и вообще к христианству.
– Соответственно, увлечение черной магией, астрологией, алхимией, – сказал Григорьев, – кажется, у Гитлера были те же проблемы?
– Совершенно верно. У них у всех были похожие проблемы, идущие из детства.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































