Текст книги "Причастие"
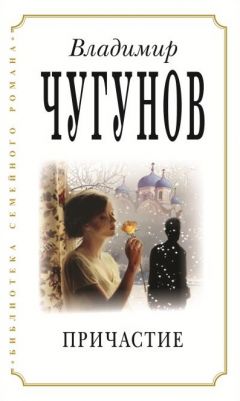
Автор книги: протоиерей Владимир Чугунов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
И вдруг – бабах!
Гад ползучий, скотина и всё такое прочее она, может, и раньше слышала, но что у неё вдруг не стало папы – это была не просто новость. Это было такое потрясение, глубину которого я только недавно осознал.
А что произошло?
Что он ушёл, Валюха громы и молнии мечет, ребёнок страдает, посёлок на ушах, мы в полной растерянности, как теперь играть, – это понятно. Не могли мы вместить вот чего. Неужели, живя с другой, он будет продолжать ходить на репетиции, играть на танцах и от всей души петь: «Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезёт…» И главное, какими глазами будет смотреть в глаза дочери, если она придёт на репетицию?
Но, видимо, он не хуже нашего это понимал и на репетиции ходить перестал. Мы стали собираться без него, приглашая парнишку из второго состава (с некоторых пор у нас появился второй состав, иначе бы как могли мы, играя, в то же время ещё и танцевать). И это бы ничего. Но за всё время наших ущербных репетиций Люба, несмотря на угрозы матери, нет-нет, а в окно артистической всё-таки заглядывала. Да и окна были невысоки, и немного отступающий от стены фундамент позволял, уцепившись руками за железный слив, стоять и смотреть, как подсматривала почти каждые танцы в окна совхозная детвора. Потом перестала ходить. Даже долетело до меня от кого-то, что мать сказала дочери, что отец не просто их бросил, а умер, и его даже похоронили. Но Люба, разумеется, не поверила. И потом, сами понимаете, каким тоном и при каких обстоятельствах такие вещи говорятся. И вскоре испуганное личико её опять стало появляться в окне. Уж этот глядящий во все глаза детский взгляд! До сих пор, как вспомню, нехорошо становится. Но и это бы ничего. То ли ещё человек перенести способен?
Но тут случилось такое…
И хотя шептались у нас самые языкастые, что-де, Валька накаркала, понятно, всё произошло совершенно не поэтому, отчего и заявил, что о религии не скажу ни слова. По-своему же разумению представляю всё это так.
Разумеется, так именуемой Вирсавии из клуба пришлось уйти. А затем вместе с годовалым ребёнком поселиться с Димкой на частной квартире, а точнее, в ветхом домишке на посёлке. Туда и стали мы за Димкой перед свадьбами заезжать, а на танцах и репетициях, как я уже сказал, он не появлялся. Довольно часто заставали мы его с ребёнком на руках. Кое-как причёсанная, замордованная бытовыми неудобствами псевдовирсавия на секунду показывалась на глаза, полыхала глазищами, надувала и без того пухлые губы, хмурилась и тут же исчезала. Сердится она при нашем появлении или просто стесняется, допытаться у Димки было невозможно. На все расспросы он только как-то странно улыбался.
Так длилось с полгода, а буквально две недели назад пришедший на очередную репетицию Толик огорошил, заявив, что Димка в больнице, что у него обнаружили какой-то не то рассеянный, не то задумчивый склероз – временами до того мог забыться, что даже уехать или уйти неизвестно куда, и только потом очнуться. Даже в другом городе мог очутиться. Мы, разумеется, не поверили. Ладно, мол, заливать, это что за болезнь такая смешная? Но Толик стоял на своём. И ведь прав оказался. При такой болезни человек совершенно спокойно мог выйти на железнодорожные пути и преспокойно шагать по шпалам навстречу предупредительно свистящему поезду и думать о чём-то совершенно постороннем.
В таком состоянии Димку однажды и сбила машина. Произошло это ночью, буквально неделю назад, когда он возвращался со второй смены. Вместе со всеми он сошёл с автобуса, люди двинулись переходить дорогу, и первый, заметивший идущую навстречу машину, всех предупредил. Люди остановились, а Димка прямо под колёса грузовика вышел.
Теперь о дне похорон. От Любы, понятно, всё это скрыли. Тем более что последнее время она довольно часто стала появляться у клуба и, встав на выступ фундамента, заглядывать в окно даже тогда, когда в нём не было света. Я сам заставал её в таком положении несколько раз. И потихоньку привык, хотя первое время царапало, да ещё как.
И вот наконец похороны. Как она там, что с ней, хорошо ли её от всего этого оградили?
И вдруг такое!..
Это уж потом нам рассказали.
Когда мимо дома, где прежде Димка жил, гроб вместе с роднёй в кузове открытой машины провезли, Валюха в окно это видела и, подождав немного, выпустила погулять канючившую дочь. Та ровно что своим детским сердечком чувствовала, когда на улицу просилась: пусти да пусти. И когда очутилась на улице, в первую очередь побежала к клубу. А там возле памятника такие же, как она, девочки в классики играли. И когда она по обычаю своему, встав на подоконник, заглянула в окно, одна из девочек засмеялась и громко сказала:
– Еёва папу хоронят, а она в клуб глядит!
Люба спустилась с выступа, подошла к девочке.
– Чьёвова папу хоронят, ну?
– Твоёва, чай, а не моёва. Только что на машине на клабдищу провезли.
– Нет!
– Не веришь, а его, пока ты стоишь, совсем похоронят.
И тогда она пошла, всё время оборачиваясь, очевидно, ожидая, что вот-вот все засмеются, дескать, разыграли, да тут уж все девочки замахали руками:
– Да бежи-и, бежи-и, опозда-аешь!
И она побежала, да так, как это умеют только дети, совершенно не разбирая дороги. Бежала и падала, в кровь сбивая колени. Вставала, дрожащими пальчиками трогала окровавленные колготки, плакала и бежала опять.
На кладбище она оказалась как раз в тот момент, когда стали засыпать могилу. Пробралась между ног, выскочила на бугор и чуть не свалилась в яму. Кто-то в последний миг успел подхватить её на руки, но она тут же в отчаянии забилась.
– Отпустите меня, я вас не люблю! Отпустите меня, я вас не люблю! Отпустите меня, я вас не люблю!
И это сверлило в ушах до тех пор, пока её не унесли с кладбища. Кто-то даже заметил: «Совсем, что ли, Валька рехнулась – ребёнка на кладбище одного пустить?» Многие плакали. Моя Ленка с Маринкой так вообще! Даже пьяненькие похоронщики хмурились. Могилы у нас копали только свои. Никто друг на дружку не смотрел. И поминки получились не поминки, а не пойми что, потому как и на них нет-нет, а кто-нибудь возьмёт да скажет в сердцах: «Ну мы-то ладно, ребёнка за что?» И со всех сторон тут же летело: «Ну ладно, знаешь, и без тебя тошно, ты ещё!..»
Говорили, что к Любе вызывали врача, какие-то уколы успокаивающие делали, что она все дни напролёт плачет, твердя сквозь слёзы одно и то же: «Па-а-па-а… па-апа-а…» Даже говорили, Валька её за это разок поколотила, нервы, дескать, сдали. Потом вроде бы всё стало успокаиваться. Любе перестали давать успокоительное, и не то чтобы разрешили, а даже наказали почаще выпускать на улицу. Станет-де с другими детишками играть и потихоньку забудется.
Но вместо этого…
Однажды вечером (а поздней осенью темнеет рано) я шёл от родителей по нашей главной улице, шёл себе и шёл, не помню уж, о чём думал, вокруг ни души, тихо, почти во всех окнах свет, один только клуб и стоял во мраке, так что я не сразу заметил, а когда заметил, не сразу понял, кто это там, а когда узнал, сначала не мог сообразить, чего она там делает, а когда догадался, меня прошило насквозь – да ведь она его высматривает. Вне себя от волнения я прошёл мимо. Остановился. Пошёл назад. Вернулся. Потом ещё раз прошёл.
А она всё стояла на дрожащих от усталости ножках, из последних сил держась за железный и, наверное, холодный слив окна, с детской надеждой на чудо вглядываясь в тёмную глубину окна.
8
Павел отложил рукопись. Вытер кулаком набежавшие слёзы. И хотя Димка был жив, а теперь ещё вернулся в семью, к вымыслу относилось не так уж много. И было вот как. Поскольку дочь не хотела верить в смерть отца и по-прежнему, несмотря на запреты, продолжала ходить к клубу, Валька как-то на улице в присутствии посторонних детей обмолвилась: «Говоришь ей, умер, так нет, не верит». И, когда мимо клуба по дороге проехала похоронная процессия, слышавшая разговор девочка решила, что это Любиного папу хоронят, а другие дети, не зная, кого на машине провезли, это подтвердили, и тогда Люба с окровавленными коленями принеслась на кладбище, и совершенно чужие люди унесли её от могилы. Валька была в шоке, однако убеждать дочь в том, что отец жив, не стала. Единственно сказала, что его не сейчас, а давно похоронили. Естественно, дошло до Димки. Может быть, это впоследствии и послужило поводом для его возвращения в семью. На эту тему Павел с ним не разговаривал, да тот и не стал бы ничего говорить. И то, что после пусть и чужих, но всё-таки похорон, в тот осенний вечер увидел у клуба, а также о рассеянном склерозе, он и положил в основу рассказа.
А по прочтении его даже подумал: может, и вправду после дежурства махнуть с мировой? Но вспомнив, как лупила Настя ему назло дочь, как ударил он её, как всю дорогу до дома и потом, хотя и не спала, она молчала, представив, как собирала чемодан, писала записку, прежняя злоба опять поднялась в нём, и он решил, что ехать пока рано.
А со следующей недели на него, как нарочно, посыпались беда за бедой. Сначала не особо чувствительные. Ну что за беда, очерк о старателях по непонятной причине сняли с публикации в «Ленинской смене»? Ничего, скоро в полуторамиллионной «Юности» появится, «и тогда вы все там, в газетёнке вашей паршивой, утрётесь!».
Но ровно через неделю пришло заказное письмо вместе с рукописью очерка из «Юности».
«Уважаемый Павел Борисович!
По не зависящим от редакции причинам ваш очерк не может появиться на страницах нашего журнала.
С наилучшими пожеланиями.
Зав. отделом очерка и публицистики». И подпись.
Этот удар, после того как всюду расхвастал, оказался намного чувствительнее.
И кто же хоть что-то мог ему объяснить, как не тот же Николай Николаевич, очерки которого время от времени появлялись в столичных журналах и даже совсем недавно в той же «Юности» – о Камчатке. Прочитав письмо из редакции, Николай Николаевич отозвался тем же удивлённым: «Да-а-а». И когда Павел спросил, что бы это могло значить, на свой обычный манер протянул: «Не зна-аю». А потом, подумав, посоветовал предложить в другой журнал. И Павел отослал в «Знамя».
Третьим ударом было то, что и во все последующие выходные Надя на танцах не появилась. Он даже подумал, уж не сотворила ли чего над собой? Хотя, если бы сотворила, сразу стало известно, такие вещи незаметно не проходили. По этому поводу ему даже припомнился всколыхнувший своей жестокостью всю округу несчастный случай из раннего детства. Теперь он уже не помнил, от кого услышал, что на третьем дубе повесилась известная всей округе нищенка Рая Ипяковская. Несколько дней вокруг все только и делали, что гадали из-за чего такое могло случиться? От безысходности своего положение, отчаяния, обиды повесилась она? Её облик припоминался смутно. Что-то приниженное, пришибленное, почти больное, хотя и говорила она как-то удивительно напевно, когда ей отворяли дверь: «Пода-айте, Христа ра-ади». И мама всегда выносила ей хлеб, что-то ещё. Партийная мама никогда не отправляла её без подаяния. Ходила она с огромным чёрным мешком за спиной собирать куски и, судя по рассказам, тем только и жила. Павел не знал и даже никогда не интересовался, где именно в Ипякове Рая живёт. И вдруг такое! По поводу её смерти ходили невероятные слухи. Одни говорили, что её изнасиловали, и она от этого повесилась, другие – что её изнасиловали и инсценировали самоубийство. Даже назывались имена, но потихоньку. Никакого расследования не было. Нищенку похоронили. И вскоре, как и всё на свете, забыли… А вот он не забыл. И когда-нибудь обязательно напишет об этом. Когда-нибудь – это когда что-либо автобиографическое, наподобие «Жизни Арсеньева» Бунина, писать надумает. А что, была и у него своя Лика, и всё остальное… Впрочем, что же он всё на другое сводит? Так что же всё-таки случилось? И, понимая, что не может туда пойти, в то же время ничего так сильно не желал, как взять и пойти. Как-нибудь вечером прийти, постучаться, и если выйдет кто-нибудь из родителей, спросить как можно обыденнее, дома ли Надя…
И всё-таки, хоть и не сразу, он справился с собой. И даже стал успокаиваться, входить в привычную колею, когда последовал очередной удар. На этот раз от Полины. Прислала-таки весточку – разумеется, до востребования, и всего лишь с предложением встретиться в кафе «Лакомка» у автозаводской бани. И когда он за десять минут до назначенного часа пришёл, она уже сидела у окна за чашкой кофе. Он взял тоже, прошёл меж столиков. С собачьей преданностью заглянув ей в глаза, вымученно улыбнулся и присел напротив.
Ещё не зная, что сейчас произойдёт, он почувствовал леденящий сердце холодок. И не он, а она задала ему вопрос, с которого он предполагал начать встречу:
– Что случилось?
– В смысле?
– Мне сказали, жена от тебя ушла. Правда? Только не ври.
Разумеется, он не мог солгать. И тогда она опять повторила:
– И чего случилось? Только не темни, говори всё, как есть.
Разумеется, без щекотливых подробностей он стал рассказывать, что поссорились, мол, из-за того, что на новогоднем вечере «приударил назло жене за одной», отводя в сторону глаза, «ничего, собственно, не было», но даже это излагая, уже наперёд знал, что Полина на это скажет. И, когда она слово в слово повторила то, что вертелось у него в голове: «Ну? И кто из нас прав?», ничего не ответил и на этот раз даже спрашивать не стал, пойдёт ли она за него замуж. И так было ясно. Но хотя бы слово человеческое на прощание сказала. Хотя бы капельку надежды подала. В таком унизительном состоянии Павел ещё не бывал никогда. И если тогда, в автобусе, пресмыкалась перед будущим мужем она, теперь точно таким же растоптанным он чувствовал себя перед Полиной.
– Ты меня презираешь?
– Даже не спрашивай.
Само собой, не спросил и о следующей встрече.
И это уже было всё. Вот такая жирная точка наконец была поставлена в конце завершающей их неприлично затянувшуюся историю странице. И это было всего тяжелее. Всё-таки тогда, в автобусе, несмотря на всю очевидность происходящего, у него ещё оставалась надежда, да и потом, позже, иначе бы не произошло их сближения, даже после объяснения в гостинице он продолжал надеяться, теперь же – абсолютное ничего…
И как будто чёрная бездна вокруг него сомкнулась.
Он пытался вырваться из неё, а она не отпускала, плотнее и плотнее обступая душу…
Параллельно текла обычная совхозная жизнь, в которой он принимал участие по одной лишь обязанности, один за другим тянулись безрадостные дни. Павел даже на репетиции ходить перестал, и ничего, кроме контрольных, и то кое-как, лишь бы зачли, писать не мог, не до писания было.
Даже Маришина свадьба, которую праздновали с 23 на 24 января, с субботы на воскресенье, в совхозной столовой прошла как в бреду. Настя, разумеется, не приехала. А он играл и пел с ансамблем, аккомпанировал гостям на аккордеоне, кричал «горько», произносил обычные напутственные слова, даже смеялся, в то время когда на душе был мрак непроходимый. И надо было или ехать мириться с женой (куда тянуть дольше?), или, как хотел, укатить в Белогорск. Но перед отъездом, если только решится на это, обязательно навестить Надю. Почему-то мерещилось, что причина душевных мучений не ссора с женой и не разрыв с Полиной, хотя и пытался всё время заслониться именно этим, а то, что произошло в ту морозную новогоднюю ночь.
И когда решил, что поедет всё-таки в Белогорск и, позвонив Левко, сказал, что к началу февраля прибудет, но не работать, а так, до сессии перекантоваться, если, конечно, начальник не возражает, а может, и насовсем останется, ещё не решил, и, взяв билет на самолёт до Красноярска, накануне вылета, в шестом часу вечера, притащился на посёлок.
Открыла сама Надя. Ни радости, ни страха, ни удивления на лице. Сказала как-то чересчур обыденно: «Сейчас оденусь». И, когда в своём коротеньком пальтишке и вязаной шапочке на крыльцо вышла, спросила строго:
– Чего притащился?
Дорогой он собирался просить у неё прощения, даже хотел встать, как тогда перед Полиной, на колени, но вместо этого сказал:
– Улетаю. Завтра. Вот… проститься пришёл. Он взял её за руку, но она ненастойчиво высвободила её.
– Ты на меня сердишься?
Вместо ответа она повернулась и ушла.
А он ещё боялся, что она его преследовать будет.
На душе паскудно зудило всю ночь и весь следующий день, когда слонялся по остеклённому с двух сторон зданию аэровокзала, стоял в очереди на регистрацию, ехал в автобусе к трапу красавца Ту-134, взлетали и пять томительных часов висели над бурунами снежных облаков, и потом, в красноярском аэропорту, в такси, и, наконец, на знакомом до последней мелочи железнодорожном вокзале. Даже после того как, пропустив сто граммов водки под хорошую закуску, сидел в ресторане за чашкой кофе в ожидании вечернего поезда на Белогорск, тоска, не переставая, сосала сердце. Он даже не прикоснулся ни к одному из томов «Дневника писателя» Достоевского ни во время полёта, как поначалу хотел, ни тем более теперь (после водки какое может быть чтение?), который взял с собою в дорогу лишь потому, что его нельзя было найти ни в одной библиотеке России, а тем более в библиотеке Белогорска, а в его маленькой библиотечке имелся, да всё руки до него не доходили.
Как и предполагал, ехал в купе один, в полупустом вагоне. Но даже утром, пока поезд, кланяясь каждому столбу, тащился вдоль подножия сопок, заснеженных маленьких станций, небольших посёлков, над пропастью, ничего читать не мог. Пробовал. Пустое. И опять вернул книгу в чемодан. Хорошо хоть контрольные успел сделать, а то бы вообще – труба.
Первое, что поразило при выходе из поезда – даже не равнодушие ко всей этой таёжной, тронувшей, когда увидел впервые, за сердце красоте, а какая-то абсолютная уверенность, что приехал напрасно, и даже не надо было приезжать, незачем, прошлого не вернёшь.
Так оно и вышло. Три дня квасили с Аркашей и его лупоглазой страшненькой сожительницей, которая, как обмолвилась, не просто с ним живёт, а собирается ему кого-нибудь «сродить», даже на работу в эти дни оба не ходили, сказав, что, раз такое дело, возьмут отгулы за прогулы. Приезду его были искренне рады, но когда Павел сказал, по какой причине приехал, Аркаша задумался и, что называется, выдал:
– Или мы какие-то прокажённые.
В более близком, без свидетелей, общении выяснилось, что Аркаша страдает по Иринке. Знает, что вышла замуж, и, как нарочно, за Тарасова же – однофамилец подвернулся. Павла спросил:
– Институт бросил?
– Институт я не брошу ни за что и никогда.
– Это правильно. И напиши обо всём этом. О нас с тобой напиши. – И как в тот вечер, когда они подрались, поднимая стопку, сказал: – Давай, брат, один ты у меня остался.
А затем потекли дни один томительнее другого. Во всём огромном артельном бараке, кроме Павла, не было ни души. И все дни напролёт он читал, но опять же не «Дневник писателя», который почему-то читать не мог, а то, что брал из местной, на удивление, богатой библиотеки. Не для удовольствия и праздного времяпровождения, разумеется, читал, а по институтской программе – отечественную, зарубежную классику, основоположника и последователей соцреализма, так именуемую современную «текущую литературу». Обедать ходил в столовую. На ужин и на завтрак приносил из столовой котлеты с гарниром. В магазине покупал молоко, хлеб, сыр, сахар. На электрической плитке утром и вечером в железной миске разогревал, заваривал в кружке чай или кофе.
Первые по приезду выходные он пропустил, а в следующую субботу из чистого любопытства решил сходить на танцы. Что проводились они в ДК, он знал, но до этого ни разу в танцевальном зале не был, и когда, раздевшись в гардеробе, поднялся на второй этаж, даже ахнул, увидев такой простор. С одной стороны во всю длину высоченного зала, от пола до потолка, как в аэропорту, шло сплошное стекло, с видом на обозначенные гирляндами фонарей рудник и нижнюю часть посёлка, с другой, под балконом на гранитных столбах, где-то в середине стены находилась дверь с горевшей над ней надписью на красном фонаре – «вход», очевидно, в среднюю часть кинозала, справа и слева от которой стояли разрозненные кучки пришедших на танцы, в основном девушек. В противоположной от входа стороне помещалась просторная высокая эстрада.
Павел подошёл к музыкантам, спросил, не требуется ли помощь, и когда узнали, на чём играет, сказали, что «клавиш нет», а гитаристов и без него хватает. И тогда он отошёл в сторонку.
И проскучал бы весь вечер, потому что ни танцевать, ни знакомиться ни с кем не собирался, да к нему вдруг подошла красивая молодая пара, и она сразу заговорила с ним, как со старым знакомым, назвав по имени: давно, мол, и надолго ли приехал. Он по инерции отвечал, изо всех сил стараясь вспомнить, кто бы это мог быть, но так бы и не вспомнил, если б она вдруг, со счастливой улыбкой глянув на своего хмурившегося супруга, не сказала:
– Между прочим, от смерти меня спас.
– Так это ты?!
– А ведь и впрямь не узнал, а я так сразу, как только вошёл, узнала. Неужели я так изменилась?
– Очень!
– И в какую сторону? – покачав руку мужа, не без доли кокетства поинтересовалась она.
Но Павел ответить не успел, а похорошела она действительно до неузнаваемости, поскольку в разговор вклинился ревнивый муж.
– Ну ты чего к человеку пристала?
– Уж и поговорить со старым знакомым нельзя. К каждому столбу ревнует.
– Причём тут это?
Чтобы разрядить обстановку, Павел спросил:
– Давно поженились?
– Две недели назад. Приехал бы чуть пораньше, на свадьбе нашей погулял.
– Знать, не судьба, а так от всей души поздравляю – счастья, любви, согласия!
И тогда серьёзный муж выдал опять:
– Всё это в наших руках. Идём?
– Ну, пошли-и. Ещё раз – спасибо.
Странно, но после этой встречи немного отпустило. Так что и за «Дневник писателя» взяться смог.
Чтение его стало ещё одним потрясением, только совершенно иного порядка.
Особенно поразили его три фантастических рассказа, написанные Достоевским незадолго до смерти: «Сон смешного человека», «Мальчик у Христа на ёлке» и «Кроткая». Даже «Еврейский вопрос» прошёл мимо сознания, не до того, видно, было, но эти рассказы, и особенно последний, перевернули в нём буквально всё.
Уже по прочтении «Сна смешного человека» он взволнованно ходил из конца в конец длинного барачного коридора и думал…
Положим, это был только сон. И такими словами на протяжении всего рассказа несколько раз оговаривался автор. Но ведь и сон сну рознь. Иные сны ой как о многом сказать могут. И даже предсказать. Хотя бы тот сон, когда ему приснилось, что он проглотил какую-то пластилиновую гадость и, проснувшись, стоя возле дивана на четвереньках, долго не мог отплеваться, чтобы освободить полость рта от этой гнусной мерзости. А тут замордованному обстоятельствами молодому человеку, нечаянно уснувшему перед самоубийством, приснилось, что он выстрелил себе в сердце. И, разумеется, умер. Его похоронили. Но вместо ожидаемого небытия у него сохранилась способность мыслить, и когда в окружившем его мраке, в этой ледяной бездне, в этой сырой могиле он всем существом («если Ты есть») воззвал, вдруг разверзлась могила, кто-то подхватил его, и они стремительно понеслись навстречу звёздам…
Вскоре он очутился на другой планете, где жили не ведавшие греха люди, которые тут же приняли его, окружив такою же любовью, которую питали друг к другу.
А кончилось тем, что он их всех развратил. Сон пролетел сквозь тысячелетия, оставив одну цельную картину. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и он заразил собой эту счастливую планету. И когда люди её развратились, он, в отчаянии проклиная себя, даже умолял их распять его на кресте. Но они сначала смеялись над ним, а потом объявили, что посадят его в сумасшедший дом, если он не замолчит. И тогда невыносимая скорбь стеснила его сердце, и он проснулся. А проснувшись, оттолкнул от себя заряженный револьвер и воззвал к вечной Истине: «Теперь только жизни, жизни!», – ибо видел её своими глазами, видел славу её…
Но это были ещё цветочки. Даже замёрзший за поленницей дров в Рождественскую ночь несчастный мальчик, якобы встретившийся со своей прежде него умершей мамой на Христовой ёлке на небе, не так разбередил душу, как вовсе не фантастический рассказ «Кроткая».
По прочтении его, примеривая к себе ситуацию несчастного мужа, у которого только что выбросилась из окошка жена, Павел всё никак не мог успокоиться.
После долгой, чуть ли не всю зиму длившейся размолвки, когда они, находясь под одним кровом, почти не разговаривали друг с другом, живя каждый своей жизнью, он первый подошёл к ней поговорить. Когда же она глянула на него со «строгим удивлением в глазах» – «Так тебе ещё любви?» – он рухнул к её ногам. Она вскочила, но он удержал её за руки. Он плакал, целовал её ноги, что-то пытался и не мог говорить. И когда с ней случился припадок истерики, перенёс её на постель. Когда припадок прошёл, она, присев на постели, «со страшно убитым видом» слушая его бред, сама просила его успокоиться. А он продолжал твердить, что оставит кассу ссуд и повезёт её к морю, что отныне начнётся всё новое. Она заплакала. А потом вдруг сказала: «А я думала, что вы меня оставите так». «О, десятилетней девочки слова!» Хотя слова эти как будто ножом полоснули его по сердцу. И так прошёл целый день. К ночи она обессилела совсем, и он уговорил её заснуть. Она легла. Он ждал бреда. И бред был, но самый лёгкий. А на другой день, несмотря на замешательство, она слушала его с улыбкой. Всё это время, все эти пять дней, в ней было замешательство или стыд. Боялась тоже, очень боялась. И как не бояться? Ведь они так давно стали друг другу чужды, так отучились один от другого, и вдруг это всё. А на следующее утро… Безумный, да ведь это утро было сегодня! В это самое утро она вдруг подходит к нему и говорит: «Я буду вашей верной женой, я вас буду уважать». И это после того, как она пыталась ему изменить, и только по свойству чистоты души своей не смогла этого сделать, чему он был свидетелем, слушая сцену встречи с предполагаемым любовником из соседней комнаты. И вот этот поступок, этот ни до чего серьёзного не доведённый шаг, эту чистую, кроткую душу просто измучил. «Я буду вашей верной женой».
Да разве это и так не ясно? Зачем она это сказала? Разве он что-либо требовал от неё?.. И зачем он только ушёл давеча, всего только на два часа… их заграничные паспорта… Только бы пять минут, пять минут раньше воротиться?.. А тут эта толпа в воротах… Лукерья (служанка) говорит: «…вдруг слышу, отворили окошко. Я тотчас пошла сказать, что «свежо, барыня, не простудились бы вы», и вдруг вижу, она стала на окно и уж вся стоит, во весь рост, в отворённом окне, ко мне спиной, в руках образ держит. Сердце у меня тут же упало, кричу: «Барыня, барыня!» Она услышала, двинулась было повернуться ко мне, да не повернулась, а шагнула, образ прижала к груди и бросилась из окошка!» Пять минут всего, всего только пять минут опоздал! Приди он за пять минут – и мгновение пронеслось бы мимо, как облако, и ей бы никогда потом не пришло в голову. И кончилось бы тем, что она бы всё поняла. А теперь опять пустые комнаты, опять один. Вот маятник стучит, ему дела нет, ему ничего не жаль… Опоздал!!! Какая она тоненькая в гробу, как заострился носик! Ресницы лежат стрелками. И ведь как упала – ничего не размозжила, не сломала!… И что ему теперь ваши законы? К чему ему ваши обычаи, ваши права, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера?.. Мёртвая, не слышит! Не знает, каким бы раем он оградил её. Рай был у него в душе, он насадил бы его вкруг неё!.. Косность! Люди на земле одни – вот беда! «Есть ли в поле жив человек?» – кричит русский богатырь. Кричит и он, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдёт солнце и – посмотрите на него, разве оно не мертвец? Всё мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание – вот земля! «Люди, любите друг друга» – кто это сказал? чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно. Два часа ночи. Ботиночки её стоят у кровати, точно ждут её… Нет, серьёзно, когда её завтра унесут, что ж он будет?
А он? Как же он до сих пор не понял и по рассказу своему, и по этой проклятой тоске, и, слушая пьяный Аркашин бред, что, оборвись эта нить, и что же он сам-то будет?
Так вон же из этой ямы!
И на следующий день около полудня стоял на том самом завьюженном низком перроне, на котором семь лет назад душераздирающе пел под гитару:
Прощай! Среди снегов, среди зимы
Никто нам лето не вернёт.
Прощай!
Прощай! Вернуть назад не сможем мы
В июльских звёздах небосвод.
Прощай!
И разница была лишь в том, что на этот раз впереди маячила не безысходность, а надежда. И что уехал, не предупредив Левко, не беспокоило ничуть. Всё, хватит, без оглядки, к свету! Несмотря на суматошный отъезд, и план был намечен. Не к жене он едет, нет, нельзя туда было ехать с тем, что угнетало его, а – к Другу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































