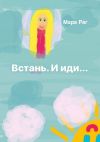Текст книги "Счастье"

Автор книги: Роман Канушкин
Жанр: Книги про вампиров, Фэнтези
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Роман Канушкин
Счастье

Серия «Новые легенды»

© Р. Канушкин, 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026
Глава 1
Время обходных путей
1
наши дни
– Ну, забирайте, пока я не передумал. – Хозяин кокетливо сдвинул бровь и улыбнулся. Тут же вздохнул.
– Точно этот? – спросил я у дочери. – Решила?
Она лишь крепче прижала щенка к себе, давая понять, что расставаться с ним теперь не намерена.
– Девочка сразу его выбрала, – заметил хозяин. – Как только увидела.
– Лиза, – снова подсказал я.
Хозяин кивнул. Он встретил нас в чистенькой костюмной паре с заплатками на рукавах и представился Григорашем, о чем я, разумеется, уже знал.
– Вряд ли вы дома будете называть меня Леопольдом, почему-то всех устраивает именно Григораш. Но знаете, фамилия наша древняя…
«Ну еще бы», – подумал я, пытаясь выглядеть вежливым. Григораш оказался вальяжным и держался так, словно продавал нам золотые слитки, а не щенка. Одного из семерых, что понесла возлежащая тут же с царственным видом (вот уж воистину собаки копируют своих хозяев) счастливая мамаша – пятнистый спаниель с замороченным именем Ортензия Мириам де Вега.
– Ортензия… Мы зовем ее просто Трези, – еще в начале предупредил хозяин. – Наверное, правильно было бы Тензи, но собаки любят, когда в их имени есть твердая буква «Р-р».
– Орти. – Я пожал плечами, просто чтоб разговор поддержать.
– Однако в особых случаях… – Хозяин поморщился: вероятно, мое мнение в отношении собачьих кличек его не интересовало. – Таких, как этот, и некоторых других мы пользуемся полным именем.
Вообще-то я прекрасно знаю, как важно избегать предвзятости. Профессия обязывает, знаете ли… Но Григораш мне не нравился. Как и идея заводить собачку. Только теперь полтора года споров, слез, уговоров (пытался деликатно объяснить домашним и то, что собаки живут недолго, и то, что смерть питомца – огромная трагедия, сам через это прошел), обещаний и всего прочего остались позади. Нам пришлось уступить. Я и моя непреклонная жена сдались Лизе. И вот мы здесь. По рекомендации каких-то дальних знакомых. Я поймал себя на том, что мне хочется побыстрее отсюда смыться.
Григораш тем временем обратил взор к счастливой пятнистой мамаше.
– Стоит отметить, что Ортензия Мириам де Вега – всё еще не полное имя. Ибо род восходит в глубину веков, где были и Ровильды, и Лифраты, и даже Блейлоки. – Хозяин неожиданно залихватски мне подмигнул. – Но пощадим ваш слух и ваше время.
А я стоял, избегал предвзятости – выходит, пятнистая спаниелиха тоже из аристократов… Оставаться в рамках приличий и не начать хохотать становилось все труднее.
– Ортензия Мириам Блейлок де Вега! – торжественно возвестил Григораш. Он именно возвестил, у него даже голос зазвучал глубже. – Ты передаешь свое дитя в руки человеческого дитя, и да будет так!
Вот теперь я действительно опешил – он не шутил. И мне осталось лишь в третий раз напомнить:
– Дитя зовут Лиза.
Мой голос прозвучал не настолько иронично и выразительно, как хотелось бы. Григораш, стоявший в секонд-хенд-костюме посреди двухкомнатного клоповника, был нелеп в своей претензии на аристократизм, но что-то… Потом все внутри меня успокоилось, острый приступ паранойи (пандемия никого не сделала душкой) отступил. Я вспомнил, как звали собаку Даниила Хармса, и усмехнулся: все-таки эти собачники – совершенно угарные чудики.
– Чти День Памяти Сражения При Фермопилах не был спаниелем, – наставительно проворчал хозяин. Осуждающе вздохнул. И усмехнулся.
Наверное, я невольно захлопал глазами, а старая добрая паранойя снова прокричала: «Привет!»
– Я что, говорю вслух? – Стоило усилий, чтобы вопрос прозвучал шуткой.
– Не волнуйтесь, я не читаю мысли, – успокоил хозяин, впрочем, вполне дружелюбно. – У меня просто очень хороший слух, и это тоже наследственное. А вы, вероятно, случайно обронили: «Хармс».
Он действительно выглядел дружелюбно, я смог выдавить сдержанную улыбку.
Белый, в черную крапинку и с черными шелковистыми ушами комочек на руках у Лизы вдруг вытянул мордочку и лизнул мою тринадцатилетнюю дочь в подбородок.
– Березковый песик, – восторженно прошептала она. Повисла тишина, а мое напряжение резко начало спадать. Если б Григораш не отвернулся, я бы, наверное, увидел, как его глаза увлажнились.
– Во-от! Это такой важный момент, – благоговейно вымолвил он. – Теперь и малыш свой выбор сделал. Понимаете, он будет любить вас всех, но хозяйкой всегда будет она. – Григораш почему-то ткнул пальцем мне в грудь и потом перевел взгляд на девочку. – Лиза!
Он впервые назвал мою дочь по имени. А глаза Лизы светились счастьем. И даже моя непреклонная жена, моя Мэри (Марина Панасенко, теперь Колесникова. Пришлось мне за ней поухаживать, еще как пришлось. Долго, но я умею добиваться своего. Правда, до сих пор не знаю, что произвело большее впечатление – моя настойчивость или мое положение) была если не счастлива, то совершенно довольна. С возрастом вы находите много хороших вещей, которые вполне могут заменить счастье. С возрастом всё более убеждаешься, что именно заменители и являются тем, чего все ищут.
– Ну и повторю: никаких ветеринаров и модных клиник! Этих проходимцев… Их интересуют только ваши денежки. – Григораш гневно нахмурился, затем ласково посмотрел на березкового песика. – Малыш абсолютно здоров. Но если, не дай бог, чего – вызывайте нас. У Трези собственный доктор, и весь первый год, пока наш мальчик не превратится в молодого человека… – Он сделал паузу и отвернулся, чтобы спрятать предательский блеск глаз; видимо, спектакль растроганных чувств продолжался. – Медицинское обслуживание и всё другое входят в достойную гарантию нашего дома. – Теперь он одарил взглядом меня и снова ткнул пальцем в моем направлении. – Вы за это уже заплатили! Так что звоните, не стесняйтесь.
Понятия не имею, что это за экономический термин «достойная гарантия нашего дома», но подобный подход вызвал у меня определенное понимание: цена за «мальчика», который «превратится в молодого человека», оказалась более чем достойной. Это мягко говоря.
– Зато вы получаете прекрасную родословную! – словно бы парировал Григораш. Нет, он что, и вправду читает мысли или я настолько предсказуем?!
Еле заметная холодная испарина на лбу; возможно, не стоит столько времени проводить под кондиционером, возможно, стоит больше гулять и побыстрее отринуть острое, похожее на дежавю чувство, что всё движется по кругу. Возможно, мне вообще стоит… Что?! Эта неприятная мысль, так и не оформившись, исчезла. Я потер лоб. Жена Григораша – миловидная пожилая дама в вечных, как и положено, рюшечках – протянула мне документы. Родословная, уходящая в глубь веков.
– Знаете, малыш действительно совершенно здоров, – подытожил Григораш. – Может быть, только первые несколько дней стресс от перемены обстановки проявит себя. Так что повторяю: не стесняйтесь, звоните в любое время.
– Не хотелось бы беспокоить лишний раз, – вежливо произнесла моя непреклонная Мэри, убирая мобильный в сумку «Луи Виттон». Настоящую, между прочим, и, наверное, где-то пятнадцатую по счету.
– И слушать об этом ничего не хочу! – замахал руками Григораш. – В любое время.
– Вы так добры, – отозвалась Мэри.
Только тут я заметил, что и моя непреклонная жена с трудом сдерживает смех. И тогда всякое наваждение, если оно и было, сошло на нет. И я снова увидел перед собой двух чудаковатых, пусть и немного эксцентричных, но совершенно безвредных и милых старичков, абсолютно счастливую дочь и всё еще роскошную, веселую, непреклонную Мэри, может, и не нашедшую какого-то неведомого счастья, зато под завязку напичканную разными его заменителями.
Всё вернулось на круги своя. Я снова был на коне.
Так мы купили собаку. С тех пор прошло девять дней.
2
Знаете ли, последние полтора года я не пью спиртного. Точнее, сегодня пятьсот двадцать восьмой день. Сказать, что у меня были проблемы с алкоголем, – это ничего не сказать. Чтобы не утомлять читателя (да и время мое на исходе), отмечу лишь, что я начал терять бизнес, друзья-партнеры, пользуясь все более частой моей «невменяйкой», запустили руки в мой карман, а непреклонная красавица-жена в первый и единственный раз за всю совместную жизнь всерьез подумывала о том, чтобы от меня уйти. Всё катилось к чертям. Пасть зеленоглазого бога с телом змеи почти полностью заглотила мою жизнь.
Я бросил сам и сразу, в один день. Мне не понадобились дорогостоящие клиники, помощь наркологов, психологов и прочих дармоедов. Я просто перестал. Пятьсот двадцать восемь дней назад я словно вышел на свет, увидел себя со стороны (краснорожее чмо с одышкой и с глазами побитой собаки, в глубине которых плясали жадные темные огоньки) и увидел, в какое дерьмо я всё превратил. Вопрос сделался предельно простым и ясным: «или – или». Помню только одну мысль: «Как же так всё неожиданно и быстро произошло?!»
Я даже не стал избавляться от запасов спиртного, не стал вычищать дом – пусть будет… Просто сказал себе: «Всё. Точка». Кое на что я все еще гожусь. И, как в дешевом анекдоте, жизнь наладилась. К удивлению, уважению одних и разочарованию других. Впрочем, последних было меньше, и распрощаться с ними оказалось отдельным удовольствием. Я здорово сбросил вес, похудел и даже помолодел (теперь моими завзятыми друзьями сделались не виски с пастисом и «водочка для сосудиков», а йога и спортивный зал), и мы с Мэри с удивлением обнаружили, что наши отношения переживают что-то вроде второго медового месяца.
Но девять дней назад, в тот вечер, когда мы принесли домой щенка, мне захотелось выпить. Крепко захотелось. Это накатило волной, как бы спасительной, за которой стояла волна более катастрофичная: вы не можете ничего запечатать в вашем сознании навсегда, но вы можете… забыть.
Я достал бутылку «Талискера», и сердце учащенно забилось. Повертел бутылку в руках, любуясь цветом великолепного виски, вспомнил несравненный запах и прошептал:
– Леопольд Григораш…
Рука легла на колпачок, чтобы отвинтить его: вот сейчас и запах, и вкус, и… покой. «Интересно, когда я это понял? Только сейчас или уже у Григораша?! Понял, что сбежать тогда не удалось».
(не стесняйтесь, зовите нас в любое время)
Пальцы крепко ухватили колпачок, начали отвинчивать его. Сейчас, всего один глоток, и в кровь придет это – передышка, хоть и временное, успокоение…
Я отдернул руку от горлышка бутылки, как от ужалившей змеи, и услышал свой монотонный голос:
– Ничего не было!
Поднялся – ноги показались ватными – и убрал бутылку обратно в бар. Голос окреп, прозвучал твердо и почти весело:
– Пока, дружок «Талискер»!
Только тогда из тени дверного проема вышла Мэри. Оказывается, она стояла тут, перед моим кабинетом, боясь шелохнуться, и наблюдала за моей борьбой.
– Нельзя быть настолько чувствительным, – нежно произнесла Мэри. Подошла и обняла меня сзади за плечи. – Это всего лишь щенок.
Я неожиданно подумал, что мне необходимо с ней объясниться: рассказать ей и рассказать себе. Но где найти слова? Как рассказать, чтобы веселая и непреклонная Мэри вдруг не решила, что ее муж потихоньку сходит с ума? Тем более что твердой уверенности в обратном у меня не было.
Я услышал свой голос откуда-то со стороны. И едва начав, понял, что слова не те. Близкие, но не те. Но ведь попробовать надо.
– Я ведь знал, почему я пью. – Голос был ровным.
Она лишь крепче обняла меня.
– Знал почему! – почти пожаловался я. Ведь стоило закончить фразу.
Мэри отрицательно замотала головой, не размыкая объятий. Сказала с теплом, печалью и заботой:
– Потому что ты алкоголик.
Ну вот… Я грустно хмыкнул – это было правдой, да не всей правдой. Женщинам иногда проще быть сильнее. И беспощаднее.
– Ты ведь сам всё знаешь. – Мэри говорила без нажима.
– Послушай…
– Тебе придется бороться с этим каждый день, каждый день выбирать. А я буду рядом. И ты справишься, потому что уже справился. А я буду тебя каждый день всё больше уважать и любить всё больше.
– Ты… послушай кое-что, – снова горячо начал я. – Это похоже на безумие…
– Тс-с. – Она уткнулась лбом мне в затылок. – Я тебя больше не отдам. Ты снова мой малыш. Справимся вместе.
Я резко обернулся к ней, ее губы были горячими. Она захлопнула ногой дверь моего кабинета, отделяя нас от другого пространства, где Лиза ворковала со щенком.
Тело моей непреклонной жены… Возможно, сейчас мы были даже ближе, чем в начале нашего романа.
Расскажи я ей тогда, наверное, всё могло бы сложиться по-другому. Но момент был упущен.
треть века спустя после года кометы
А ночью мне приснился перекресток, тот самый, и на нем стояла она, моя первая любовь Люда Штейнберг. И птичье перышко опять вертелось… Даже самые маленькие женщины, даже если вы вовсю разучивали с ними первые в жизни поцелуи «с языком», умеют быть беспощадными.
Утром я забыл об этом сне. Или сделал вид, что забыл. Сделал вид, будто не вскакивал посреди ночи, чтобы, даже еще окончательно не проснувшись, проверить первым делом, как там Лиза. Но бесшумно, потому что я хитрый. Мне давно пришлось научиться хитрить, лет эдак в тринадцать-четырнадцать, когда у меня была моя первая любовь. Дабы никто не подумал, что у симпатичного, хорошего спортсмена, но впечатлительного парнишки наконец-то шарики окончательно заехали за ролики.
Я тихо вошел в комнату дочери. Лиза, мой ангел, безмятежно спала. Березковый песик дрых на ее подушке. Не дело, собак надо сразу отучать от постели хозяев, потом беды не оберешься. Я бережно, не разбудив, взял щенка и перенес его на место. Спустился на кухню, выпил воды. Глядел в окно – тьма привалила вплотную к стеклу. Граница сделалась очень хрупкой… Только тут я понял, что весь липкий от пота.
(дурная кровь для них – яд)
Вот оно как: Люда Штейнберг, прекрасная девочка-изгой, над которой потешалась вся школа, стояла на том самом месте, где впервые рассказала мне про дурную кровь. И про тех, кто называл себя Совершенными. И птичье перышко опять вертелось.
– Я не трус. – Мой голос – еле различимый шепот в ночи. – Ты говорила, что если их не видеть, тогда и мы для них неуязвимы?! Так и есть. Я потом прочитал об этом в книжке. – Нервно хихикнул, представив, как Мэри застукала меня здесь, беседующего с воображаемым другом. Да что там, с воображаемой соперницей. Умора просто. – Ты была права. Не трус… Я потом много всего прочитал. Только я давно уже научился не вглядываться в бездну.
(надо приготовить дурную кровь)
Я закурил, в голове окончательно прояснилось. Остатки плохого сна покинули мой дом. Вернулся в нашу спальню. Дыхание Мэри было почти таким же тихим и ровным, как у Лизы.
«Этот сон не был плохим. – Мне пришлось признать это, несмотря на все уловки и хитрости. – Но всё давно в прошлом. Да и не было ничего! Мои шарики не заедут за ролики».
Полежал какое-то время с открытыми глазами. Всё более успешно отгоняя неприятные словоформы и образы недавнего сна.
(Воро́ны Кузьминского парка…
…для них яд.
…стерегут границы.)
Я закрыл глаза. Тени у этих границ скоро начнут светлеть, потому что по-другому не бывает. Вздохнул и провалился в сон.
Утром поднялся совершенно свежим. Никакой липкой испарины и уж точно никаких словоформ от воображаемых подруг. Включил бодренький «Криденс». «Видел ли ты когда-нибудь дождь?» – вопрошал Джон Фогерти. Мэри это старье терпеть не может, но обожает, когда я просыпаюсь в таком настроении. Ночное происшествие выглядело при свете дня почти анекдотичным казусом, о котором лучше не думать. Я давно научился многое забывать. А об этом забыл тридцать лет назад. Потому что ничего не было.
3
Как и предупреждал Григораш, щенок впал в депрессию. Слегка заболел. Он сделался вялым, и его шелковистая шерстка как будто даже утратила блеск. Перестал носиться по дому, не справляясь с центром тяжести (попу обычно заносило вперед, и он летел кубарем), шлепаться на разъезжающихся лапках, словно Бэмби, и кусать острыми зубками-иголками, как у юной щучки, всё подряд.
– Ничего страшного, через пару дней всё пройдет, – успокаивал по телефону Григораш. – А не пройдет, зовите.
Меня эта передышка во «временном сумасшедшем доме», как теперь окрестила наше жилище непреклонная Мэри, даже устраивала, хотя щенка было жалко. Но больше я переживал за Лизу, она всерьез перепугалась и не выпускала малыша из рук.
У меня было много работы, приходилось оставаться допоздна, что меня тоже устраивало, и визит четы Григорашей я, к счастью, пропустил. О том, что старички приходили накануне, Мэри с Лизой сообщили мне только утром, когда я заметил, что березковый песик стал наконец-то оживать.
* * *
Случилось еще кое-что странное. При прочих равных я бы не обратил на это внимания, сославшись на рабочую перегрузку. Только мне некому было ссылаться. Большинство транслируемых в общественный доступ историй мы рассказываем самим себе.
На «длинные выходные» (черный уик-энд, как шутила не без горечи Мэри, правда, это было совсем в другую эпоху, во времена моей крепкой дружбы с «Талискером» и пастисом) мне пришлось сгонять в Питер. На какой-то локальный форум по новой экономической реальности. Меня даже пригласили в качестве спикера, и я делал доклад по правовому обеспечению инноваций… Впрочем, это к делу не относится. Мне нравилось выступать перед аудиторией. Всегда. Харизма оратора и все такое. Аудиторию, любую, я держал крепко, полностью забирая ее внимание или заставляя смеяться до колик. Сообщение от Лизы пришло как раз во время такой моей проникновенной речи. Забыл отключить оповещающие сигналы.
– Кто-то наверху интересуется нами, – с каменной миной заявил я.
В контексте доклада вышло забавно, и зал засмеялся. В этот момент тренькнул мобильный.
– А вот и подтверждение! – усмехнулся я, что вызвало еще больший хохот.
Атмосфера была приятной, я чувствовал кураж – куда деваться, прямо профессиональный стендапер. Достал телефон, открыл сообщение и на мгновение нахмурился. Кивнул, убрал мобильный и все-таки не стал сворачивать выступление, довел его до конца.
Сообщение от Лизы гласило: «Папа, немедленно приезжай».
Я вышел из аудитории и сразу же позвонил дочери. Нет ответа. Попробовал еще раз – тот же результат. Набрал телефон Мэри, она сняла после нескольких сигналов. Голос был сонным.
– Что случилось? – сразу выпалил я.
– И тебе доброе утро.
– День уже… У вас всё в порядке?
– Да, всё в порядке.
Опять в голосе что-то… Отозвалась, словно эхо; не хочет говорить?
– Верю. Но от Лизы пришло странное сообщение. Кстати, где этот наш ребенок?
– В школе, где ж быть. Допник у нее.
Допник – это дополнительный урок. Как быстро мы с Мэри перешли на Лизин жаргон – она у меня умница, но учится не очень… Я тоже учился плохо, и ничего, кое-как бултыхаюсь. Вроде как не тону, скорее наоборот. Эйнштейн, кстати, в школе вообще считался умственно отсталым. Большинство самых успешных людей планеты были если не из двоечников-хулиганов, то уж точно успевали не особо. Так что привет учителям! Но я сейчас собирался говорить не об Эйнштейне и не о проблемах школьного образования.
– А ты хорошо себя чувствуешь?
– Хорошо, – начала вяло, а я успел подумать: «Чем она там занята?» Моя жена, конечно, не прямо экстремальный жаворонок, но предпочитает вставать рано, человек утра. Йога, растяжка, пробежки и прочая лабуда обеспеченной женщины, которая следит за своей формой. А Мэри вдруг добавила совсем другим тоном: – Отлично! Хотел бы проверить?
– Проснулась, наконец? – Меня начало отпускать.
– Ага.
– Послушай, Мэри. – Когда я ее так зову в глаза, это означает либо игривый настрой, либо любовную прелюдию, ну или реже – что я сержусь. Учитывая обстоятельства, это были не два первых варианта. – Как ты думаешь, что может означать сообщение: «Папа, немедленно приезжай»?
Она усмехнулась:
– Ну что она скучает. Или ваши вечные шуточки. Или подростковые спекуляции – она же твоя дочь! – Голос больше не был бесцветным, скорее наоборот, немножко хриплым, веселым и очень сексуальным. Со мной снова говорила Мэри… Черт побери, моя непреклонная жена всё еще может вскружить мне голову. – А чего ты всполошился?
– Ну… сама посуди.
– Ты такой милый, когда папа-страус.
– Угу. – Я кивнул, довольный. – Очень смешно.
– И когда немножко параноик, тоже… Всё с ней в порядке, мы списывались десять минут назад.
Еще немножко смущала форма Лизиного сообщения. Как говорится, «единство формы и содержания». В общем-то, я сразу об этом подумал: обычно наша переписка с дочерью сопровождается смайликами, сердечками, разными эмодзи; иногда мы просто обмениваемся стикерами. Здесь ничего такого не было. Лишь сухие и короткие несколько слов, и даже точка в конце не проставлена. Непривычно, но… ведь не более того? Ковыряться с тем, что там творится в данный момент в голове у подростка, да еще приставать к Мэри я не стал.
– Пиши ей в Телеграм, это прибежище бунтующих тинейджеров, трубку на занятиях, конечно, не снимет. – Она зевнула, но как-то очень бодро. Словно расстреливала остатки сна из пулемета. Хотя при чем тут, на хрен, пулемет?
– Эй…
– Что, милый?
– Вот ты клуша, – подначил я. – Значит, только муж за дверь, ты сразу спать?
– Предпочел бы, чтобы я тоже за дверь?
Я улыбнулся. Хотя сообщение от дочери и озадачило меня, но лучше так, с шутками-прибаутками, старый добрый бихевиоризм. И мне действительно стало весело, потому что я смеюсь. Ну, еще потому, что наконец отпустило. И еще оттого, что с другой стороны телефонной линии была Мэри. Словом, опять на коне.
– Предпочел бы тебя потискать. – Я отключил телефон, не прощаясь. Мы иногда так делаем. Когда всё нормально. Ну и когда немножко скучаем. Огляделся по сторонам, отслеживая, куда движется ручеек желающих что-нибудь перекусить. Нашел глазами кафе. Во мне вдруг проснулся зверский аппетит, подойдет любая еда! Моя непреклонная жена всё еще может вскружить мне голову. И ей очень легко меня уболтать.
* * *
За кофе я решил еще раз набрать Лизу, так сказать, закрыть гештальт. Не сняла. Тогда я собрался отправить ей какое-нибудь веселое сообщение в ответ, но подошел коллега и плюхнулся без разрешения на свободный стул. Крайне скользкий и нудный тип, стоит отметить, да еще полагает нас хорошими знакомыми. Однако сегодня я встретил его благосклонным вниманием. Сегодня я был добр, как консул из известного стихотворения. И даже предложил, что сам схожу за кофе.
– Двойной эспрессо, – бросил он мне вслед, – и никаких добавок.
Конечно, белый господин! Всё будет сделано, мбвана. И даже не думайте благодарить, Ваше благородие. Меня разбирал смех. Прямо ликование. Если вы отец, и у вас долгожданный поздний ребенок, да еще с женой вместо разрыва наметился новый роман, то вы меня поймете. Но, черт побери, даже тогда, наверное, еще не было поздно.
* * *
Вечером я возвращался домой на «Сапсане». И слегка задремал над бумагами. Возможно, клюнул носом на пару секунд. И пока моя голова падала на грудь, я снова успел оказаться на этом перекрестке. И успел заметить, как здесь все изменилось с прошлого раза. Стало темнее, заброшеннее, это место словно стерлось о время; померк не только свет, с цветом тоже творилось что-то неладное – не черно-белый, конечно, но краски, колорит, потускнели, как шерстка березкового песика, когда тот болел.
Люда Штейнберг притащила сюда жестяную коробку из-под детского печенья. Конечно же, я узнал ее.
– Эй, это же мое!
Я не то чтобы возмущен, скорее озадачен: надо объяснить ей, что этой жестянки здесь быть не может. Я прекрасно знаю, где находилась моя коробка с сокровищами. С давно уже пожелтевшими фото, брелоком с настоящим швейцарским ножичком, всего лишь одним письмом (остальные порвал сто лет назад), латунным компасом, объемной открыткой из восьмидесятых с раздевающейся японкой, непонятным черным кругляком, очень приятным на ощупь (потом выяснилось, что это просто фишка из какого-то казино), немецкой губной гармошкой и кучей другого старья, представлявшего интерес разве что для подростка. И было там еще кое-что, проникшее в коробку не совсем легально. Когда мы переезжали в новый дом, куда на скорости двести пятьдесят километров в час нес меня сейчас «Сапсан», я избавился от всего старого хлама. Никаких семейных сервизов, любимых родительских кресел, советского хрусталя и всего прочего – иногда лучше начать с чистого листа. Эту коробку я тоже собирался выкинуть, да пожалел в последний момент. Где-то в глубине меня все-таки скрывался сентиментальный инфантил, ну, или старьевщик. Наверное, ничего страшного, но если б я этого не стеснялся – разрыва между внешне декларируемым образом и реальным положением дел, – я бы не скрыл даже от Мэри, что в последний момент пожалел свою старую жестянку и вытащил ее из мусора. Так же вероятно, что будущее, как говорится, отбрасывает на прошлое тени. И тогда всё неслучайно. Впрочем, вовсе не обязательно смотреть на вещи так обстоятельно. Просто не захотел говорить, и всё, без особой причины. Лень было возиться…
Некоторые вещи происходят просто потому, что происходят. Тем более в моем кабинете всегда была оборудована пара тайничков. В стенном шкафу, за книгами, рядом с сейфом даже упрятан небольшой холодильник, совсем малыш. Мэри о нем не догадывалась, однако в эпоху моей крепкой и верной дружбы с алкоголем там постоянно ожидала бутылочка «ноль семь» холодной водочки для сосудов. Туда-то, с глаз долой, я и засунул старую коробку до следующего раза, когда я о ней вспомню и наконец-то выкину. Останавливаюсь на этом так подробно, тратя драгоценное время, только потому, что именно из-за моей инфантильной нерешительности я всё еще жив.
Моя голова падает на грудь. Однако Люда Штейнберг на сей раз не напоминает про дурную кровь.
«Хотя, милый, чем же еще является само ее появление?» – говорит неизвестно откуда взявшаяся Мэри. Конечно, такая путаница с людьми возможна во сне, путаница, совмещение в одном сюжете несовместимого: моей первой и моей последней любви. Только… почему-то Мэри больше не кажется мне другом. Что-то в ее обычных словах, в интонации… Словно она больше не моя Мэри, а что-то другое – потаенное, завистливое и опасное. И словно она знает это, знает, что раскрыта, поэтому прячется, забирает с собой сон. Но Люда Штейнберг (сейчас, как и всегда, она слабая сторона, девочка-изгой) успевает сделать то, для чего она здесь, успевает показать мне коробку, единственный яркий предмет в этом блеклом умирающем мире, и на самом исходе сна протолкнуть за мной в пробуждение несколько слов:
– Зови их, пока не поздно.
– Я никого не ла… – бормочу невпопад; видимо, не хочу слушать, отгораживаясь фразой-оберегом.
Ее голос звучит вдруг совсем близко, будто говорят прямо мне в ухо:
– Ты не проверил телефон!
Я просыпаюсь. Наверное, не до конца, потому что повторяю какую-то нелепую постыдную чушь:
– Я не лапал никого! – Монотонно, ворчливо. – Никого не лапал…
Липкая испарина на лбу. Шероховатое недостоверное пространство обретает наконец-то реальные контуры. В ужасе озираюсь, боясь встретиться с насмешливыми взглядами моих попутчиков: что, дядя, долбят сексуальные фантазии, и во сне тебе нет покоя?! До меня никому нет дела. «Сапсан» движется сквозь ночь, почти весь вагон погружен в сон, и я, к счастью, никого не потревожил. Меньше чем через час – Москва.
– Ну, хорошо, что там с телефоном? – протягиваю я нехотя и даже как-то капризно.
Я, наверное, уже догадался, в чем дело. Открываю Телеграм, чат переписки с дочерью, выдыхаю, проверяю Ватсап и даже эсэмэс, которыми мы с Лизой практически не обмениваемся. И всё равно растерянно хлопаю глазами, проверяю еще раз. Этого встревожившего меня сообщения нигде нет.
– Стер, что ли, машинально? – вопрошаю себе под нос в растерянности.
Но услужливое воображение тут же подкидывает массу других ответов-возможностей, один другого интересней. Лиза, например, могла удалить свое сообщение сама, скажем, получив нагоняй от Мэри, мол, чего пугаешь отца-параноика… Но тогда бы осталось характерное уведомление, факт? Да. Кто еще мог бы удалить сообщение, ведь телефон-то всё время был при мне? Один другого интересней… Ну, допустим, не всё время: тот короткий момент, когда я ходил за кофе, двойным эспрессо без всяких добавок… Стоп! Мой коллега, конечно, нудный тип, но не идиот же, так подставляться с чужими вещами. Я бы прибил мерзавца, обнаружив в его руках мой телефон. Да и зачем ему это?! Значит, машинально стер, удалил, сам не знаю, что делаю. Приятная новость. Стер. Или… выдумал? Я ведь многое выдумываю, когда припекает. Одно другого веселей…
Тс-с, спокойней, от таких мыслей холодной испарины не станет меньше. Сообщение пришло во время моего выступления, и аудитория смеялась. И это тоже факт!
Но куда ж оно девалось? Неправильное сообщение без сердечек и смайликов?
Понятия не имею, как устроены сны, никто не имеет, хотя существует множество спекуляций. Но можно остановиться на классической интерпретации: допустим, я думал об этом, а Люда Штейнберг…
– Я ведь не хочу знать, – пробормотал еле слышным, жалким голосом. Очень странно: я знаю про себя, что не хочу знать. Прямо компульсивное расстройство… И тут уж никуда не денешься… Проблема, да?
Поворачиваю голову к окну. Только что мое собственное отражение вспороли огни проносящейся мимо станции. Потом тьма снова прилипла к окнам поезда. Сейчас уже поздно, а завтра утром я мог бы в шутливой форме выяснить у Лизы, присылала ли она мне сообщение, но… зачем? Вся эта история с дурной кровью… Ведь нет никаких достоверных подтверждений, что это не была дурацкая детская игра-страшилка, сдобренная предвкушением очень близкого взросления. Гормоны играли. Ведь она – моя первая любовь… Нас дразнили, что она «давала мне лапать». И было очень много драк, синяков и слез. Только… ведь она действительно давала мне, нет, не лапать, а… любоваться собой, скажем так, и сама проявляла столь же восторженный интерес.
Просто дети, которым предстояло повзрослеть. Как говорится, одни против безжалостного мира, в котором и без страшных сказок хватает дерьма.
– Дурная кровь, – шепчет в окне мое отражение.
Я принял решение: машинально стер. Точка.
Второе решение оказалось более веселым. На следующий день был все еще выходной, и Мэри с Лизой должны выспаться. Я и не стал их будить. И своего водителя вызывать не стал, сам сел за руль. Но предварительно поднялся в кабинет и взял свою коробку с сокровищами, прежде всего с тем, что проникло туда нелегально. Птичье перышко было там – приклеено к открытке, и оно совсем не изменилось. Потом я бережно, тоже чтобы не разбудить, взял щенка, всё еще не веря, что это происходит со мной на самом деле. Привет тебе, подружка-паранойя, привет вам, шарики за ролики! Перышка березковый малыш не почувствовал, когда я подносил его к зеркалу…