Текст книги "Короткой строкой"
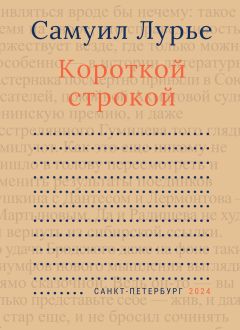
Автор книги: Самуил Лурье
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
2012. № 6
Бенгт Янгфельдт. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском / Пер. со шведского Бенгта Янгфельдта. М.: Астрель; CORPUS, 2012.
Иосифу Бродскому, как и всем смертным – и в отличие от большинства положительных персонажей хорошей литературы, – случалось говорить глупости.
«Мне хотелось бы, чтобы Горбачев вел себя как просвещенный тиран, – говорил он. – Он мог бы расширить свою просветительскую деятельность до неслыханных пределов: я бы на его месте начал с того, что опубликовал на страницах “Правды” Пруста. Или Джойса. Так он действительно смог бы поднять культурный уровень страны».
Мотивы некоторых решений Бродского, как почти у любого литератора, бывали недостаточно высоки.
«Когда в мае 1991-го ему предложили стать поэтом-лауреатом Соединенных Штатов (должность при Библиотеке Конгресса), он согласился по двум причинам: во-первых, он не хотел, чтобы пост занял другой кандидат, как он мне объяснил, не называя конкретного имени; во-вторых…»
Бродскому иногда изменяло чувство такта. В интервью для шведской прессы, глядя в глаза шведскому слависту, он ввернул:
– Вообще, я думаю, что самые умные люди – это поляки. И это всегда так было. Это единственные европейцы в некотором роде.
Бродский бывал высокомерен до грубости. Однажды в гостях спросил какую-то молодую женщину, чем она занимается, – и «когда та ответила, что она писательница, он спросил, с чего она взяла, что у нее к этому есть способности». Это особенно несимпатичный эпизод; ни Сьюзен Зонтаг, о нем рассказавшая, ни Бенгт Янгфельдт, ее цитирующий, не помнят (или как будто не помнят), что этим самым вопросом донимал когда-то самого Бродского советский суд.
Бродский нехорошо говорил по-английски; когда волновался – то иной раз настолько нехорошо, что слушатели его докладов не понимали ни слова.
Английские стихи Бродского, похоже, не прекрасны; во всяком случае, не всем британским критикам нравятся. Рецензия Кристофера Рида на сборник «To Urania» (1988) озаглавлена: «Великая американская катастрофа». Крейг Рейн, разбирая посмертно изданные сборники англоязычных стихов и эссе Бродского, обозвал его «посредственностью мирового масштаба».
Философские максимы Бродского образуют конструкцию, основанную «на цепи силлогизмов, каждый из которых спорен». Утверждения типа: поэт – инструмент языка; или: эстетика выше этики – не обязательно считать истинными; Дж. М. Кутзее, например, оспаривает их довольно убедительно; а Лев Лосев объясняет чрезмерную категоричность Бродского «отсутствием формального образования, в частности лингвистического».
Все это не очень-то приятно читать (а Бенгту Янгфельдту, наверное, – писать), но кто же виноват: это говорят о Бродском разные другие, а Б. Я. старается по мере возможности возразить; главное смягчающее обстоятельство (да не смягчающее, а просто главное, в свете которого все остальное – ерунда): Бродский же был поэт.
Да, кстати: а какой он был поэт?
Бенгт Янгфельдт думает: это был русский Оден. И Бродский сам признавался:
– Вы знаете, дело в том, что я иногда думаю, что я – это он. Разумеется, этого не надо говорить, писать, иначе меня отовсюду выгонят и запрут…
«Духовное родство с Оденом, – пишет Б. Я., – привело к такому близкому отождествлению, что иногда действительно трудно установить границы между цитатами из Одена и оригинальным текстом Бродского».
Еще раз:
«Бродский знал Одена наизусть, и в некоторых случаях формулы последнего вошли почти буквально в плоть его собственных произведений, сознательно или бессознательно».
Вообще-то, эти две фразы, будь они подкреплены хотя бы дюжиной примеров, могли бы кого-нибудь вроде меня по-настоящему огорчить. К счастью, Бенгт Янгфельдт ограничивается одним-единственным: начало такого-то доклада, прочитанного Бродским, – «чистый парафраз» такой-то реплики из такой-то поэмы Одена.
Аналогия, однако, представляется Бенгту Янгфельдту крайне существенной:
«…защищая Одена, Бродский защищал самого себя – он ведь был Оден. У этих двух поэтов действительно много сходных черт – и в поэтике, и в технике стиха, и в жанровом многообразии. Влияние или конгениальность? И то и другое».
Что тут скажешь? А ничего и не скажешь. Продолжение этого разговора возможно только в кругу людей, равно отлично разбирающихся как в английской, так и в русской поэзии. Боюсь, узок этот круг. Читатели книги Бенгта Янгфельдта войдут не все. Меня не примут точно. Об У.-Х. Одене я знаю не больше, чем написано в этой же книге: «рано состарился из-за злоупотребления амфетамином, алкоголем и табаком» и в последние десятилетия «считался поэтом, растратившим свою поэтическую мощь».
Ну и как Бродский представлял себе эту мощь:
– …в русской поэзии был человек, были два или три автора, которые более или менее, если их сложить вместе, могли бы дать Одена. Это Вяземский и Алексей Константинович Толстой. Из них двоих могло бы получиться что-то именно в этом роде.
Что-то занятное, да. Оба были антилирики. Ни тот ни другой не был гений. Пасьянс не сходится, хоть убейте. Все четыре короля – из разных колод.
А книга Бенгта Янгфельдта – очень ценная. Практически безупречная. Биография Бродского (экзотическая, советская половина ее) изложена так ясно и кратко, что лучше просто нельзя. Мир идей Бродского (политических и прочих) представлен достаточно полно. Мемуарные фрагменты держат дистанцию, но исполнены сочувствия.
И так тщательно выровнен тон.
Так тщательно, что, если бы эту книгу написал посторонний Бродскому человек – обыкновенный высококвалифицированный зарубежный славист, да еще из молодых, – все было бы более чем в порядке.
А не тот, кто потратил на Бродского значительную часть своей жизни – литературной и личной. Не тот, кто проговаривается: «В личном плане я, можно сказать, чуть ли не расшибся о его стихи и прозу, так они потрясли меня…»
То-то и оно, что потрясли. Тождеством звука и смысла. Которое ведь забывается. И действие гипноза проходит скорей, чем жизнь. Поэт оказывается – если все как следует припомнить и сообразить – совсем не похож на свои стихи. Тексты становятся просто текстами. Подлежат оценке, переоценке, уценке, – а это разочарование, это утрата. Тогдашнего будущего нет нигде – и в них тоже. Похоже, что его и не было. Что-то такое, очень печальное, случилось с первыми читателями Александра Блока. И может случиться с нами. Я, например, все собираюсь в последний раз перечитать подряд все стихи Иосифа Бродского – и боюсь. Теперь – и подавно: вдруг примерещатся князь Вяземский и граф Толстой А. К. в обратном переводе.
А впрочем, вполне возможно, что это моя пустая выдумка и для Бенгта Янгфельдта все не так. Просто у него такой объективный ум и спокойный характер. Довелось лет десять подряд наблюдать вблизи интересное явление природы – профессиональный долг требует от ученого описать его беспристрастно и всесторонне.
Непременно, непременно отметить, что Бродский был очень умен. Например, он написал:
«…то, что вы называете “коммунизмом”, было человеческим падением, а не политической проблемой. Это была человеческая проблема, проблема нашего вида, и потому она имеет затяжной характер».
И он предугадал – в 1983 году! – что Перестройка (если она будет) кончится реставрацией «политического и, если угодно, нравственного климата николаевской России».
А еще он сказал нечто самое важное: – Существует критерий человеческого поведения и всего остального, который дается не обществом, а создается литературой или историей литературы.
Я думаю, что люди должны себя вести как литературные герои, а не как герои нашего времени.
Воспоминания о Корнее Чуковском / Сост. и коммент. Е. Ц. Чуковской, Е. В. Ивановой. М.: Никея, 2012.
Тут тоже почему-то не обойтись без цитаты из Бродского:
И громоздкая письменность с ревом идет на слом, Никому не давая себя прочесть.
Кто-кто, а Корней Чуковский знал, как любят читатели производить над писателями (не над естествоиспытателями! не над композиторами! не над живописцами!) беспощадную мыслительную операцию, называемую: «понимать». Собственно говоря, он сам – лучший критик – научил русскую публику этой забаве и приучил к ней. Решать писателя, как кроссворд. Как шараду. Выводить «жизнь и творчество» из одной какой-нибудь цветной запятой – а потом сводить к яркой точке.
Больше всего он боялся, что это проделают с ним. И на каждого из окружавших смотрел как на потенциального мемуариста – то есть врага. Сам был мемуарист. Выработал сложную, неумолимо последовательную систему самозащиты.
Ведь что значит – понять человека (а писатель – тоже человек до некоторой степени)? Это невозможно, если не угадать или не подслушать, что сам этот человек думает о себе. Тут и бери его тепленьким. Немного смешным, как все.
Стало быть, самое главное – никому никогда ни за что не проронить про это ни единого серьезного слова. Если все-таки не выдержал – пережить любого, кому проронил. И постоянно притворяться, что постоянно притворяешься. А слог привязать к наивной такой, искренней ноте – одной и той же.
Никому не дал прочесть себя. А так называемая советская власть никому не дала вовремя прочесть лучшие его книги. Загадочный человек-гора. До чего большая гора – уже почти никому не видно.
До чего загадочный человек – можете лишний раз убедиться. Его стратегия оказалась безукоризненной. Уж на что опрощающий, снижающий жанр – «воспоминания о». Какого хочешь сочинителя низведут в персонажи. Но только не Корнея Чуковского. Он остается литературным героем. Центром блестящих текстов, проникнутых изумлением.
Один называется: «Памяти детства». Другой – «Белый волк». Третий – «Талант жизни». Авторы: Лидия Чуковская; Евгений Шварц; Павел Бунин.
Много и других – содержательных и достоверных документов. Из каких обычно состоят качественные сборники воспоминаний. Но только этот – благодаря этим троим авторам – не позволяет вам решить, дочитав, что итог подведен.
«Он был окружен как бы вихрями, делающими жизнь возле него почти невозможной. Находиться в его пределах в естественном положении было немыслимо, как в урагане посреди пустыни. И, к довершению беды, вихри, сопутствующие ему, были ядовиты».
«Потому ли, что он всегда, при всем своем интересе к людям, ощущал непоправимость одиночества? Потому ли, что изначально не верил в любые другие способы глубокого общения с людьми, кроме как через искусство? И всего себя подчинял труду? Потому ли, наконец, что униженность, испытанная им в юности, навсегда искривила его доверие к другим и к себе? Отучила от прямоты? Почему бы там ни было, а дружбы его отличались неровностью, взрывчатостью; другом его оставался только тот человек, кто в состоянии оказывался беззлобно переносить отливы. Отливы чего? Не то чтобы симпатии, но пристрастного, сосредоточенного внимания…»
«…с пафосом читает: “Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем…”
Я. Втрое надо было…
К. И. (как бы останавливаясь с разбега, тупо на меня смотрит). Что – втрое?.. Кто – втрое?
Я. Ремень… ремень втрое сложить – может, помогло бы?..
К. И. (с нехорошим знанием). Едва ли…»
Не надейтесь, голубчики. Не на такого напали. Корнея Чуковского вам не понять. Он не для этого. В крайнем случае, можете восхищаться.
2012. № 7
А. А. Матышев. Энциклопедия репрессированных авторов. 1917–1987. Биобиблиография советской трагедии. Т. 1: А – Б. СПб.: Издание автора, 2012.
Кого я, честно говоря, не понимаю – это Бога. Повторять ошибку, которую осознал. О которой уже пожалел горько. Вполне убедившись – за десять-то тысяч лет, – «что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время».
Давши, главное, Самому Себе слово – все это прекратить.
«И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем.
И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю; ибо Я раскаялся, что создал их».
Но вот же какая странная непоследовательность (о человеке я сказал бы: взбалмошная бесхребетность): кран был открыт не прежде, чем Ной усвоил идею ковчега и законсервировал весь наличный генофонд. Ясно, что потоп ничего не решил и все закрутилось по новой.
Тем более что, например, запрет убивать был озвучен лишь еще через тысячу-другую лет, причем поставлен в кодексе на шестое место. Поскольку, значит, пять других предписаний важней. А тем временем прогресс – технический и социальный – пускай себе идет семимильными шагами.
Удивительно ли, что в конце концов массовый забой людей сделался способом, и целью, и содержанием существования целых государств – хотя и немногих, зато крупных.
Казалось бы: ну всё, это предел, порезвились, и хватит; свернуть декорации, выключить освещение. Но даже ничего подобного потопу не наблюдается. Вместо выразительных и окончательных санкций – какой-то ямочный ремонт. То ли момент упущен, то ли контроль утрачен. То ли, несмотря ни на что, опять вступает в дело привычный синдром – надежда, что нынешние симпатичные малыши, когда вырастут, почему-нибудь не разобьются, как обычно, на негодяев и жертв.
Но хотел бы я знать: по какой причине это может случиться? Не из-за книг же вроде этой. Книги тут ни при чем. И тиражи ничего не значат.
100 экз.? Лет тридцать назад это был фантастически огромный тираж. Его хватило бы, чтобы Матышев А. А. получил длительный уголовный срок и всемирную известность.
Книга, кстати, очень хорошая. Читаешь даже не без увлечения. Со все усиливающейся тоской.
Двести восемнадцать историй загубленных душ – всего лишь двести восемнадцать, – отобранные и сопоставленные по признакам заведомо случайным (место фамилии в алфавитном списке и участие в словесности), дают объективное и едва ли не исчерпывающее представление об основных вехах славного пути СССР.
А также единичные, но реальные примеры (Г. М. Александров, А. А. Амальрик, Д. Л. Андреев, Николай Аржак, Н. В. Баршев, А. Н. Боратынский, И. А. Бродский) бесстрашного поведения. (Что если они, примеры-то эти, и удерживают Кое-Кого от окончательного решения человеческого вопроса?)
Алфавит требует еще пятнадцати книг такого же объема, справедливость – еще ста тысяч. Но практическая необходимость помалкивает.
Все взрослые и так давно всё поняли. (Ведь и «Архипелаг ГУЛАГ» тоже написан, напечатан, кое-кем даже прочитан, – а толку?) Лишь негодяи терпеливо притворяются дураками. Изучая особенности мышления жертв.
Марк Солонин. ДРУГАЯ хронология катастрофы 1941. Падение «сталинских соколов». М.: Яуза; Эксмо, 2011.
Еще один смешной (не обижайтесь) человек. Тоже ревнитель правды. Поборник истины. Сам только что потерпевший – вместе с нею – катастрофу. Действительно отчасти забавную. В отличие от той, которую он описывает в этой книге и в других.
А давно ли я мысленно ему аплодировал! Казалось, ему везет. Казалось: еще немного – еще несколько лет, еще несколько книг (с его-то упорством, с его-то работоспособностью) – и затея, казавшаяся поначалу совершенно безнадежной, увенчается частичным успехом.
По узкой-то специальности он – истребитель вранья. Причем самого тяжелого – военного.
(«– И интересней всего в этом вранье то, – сказал Воланд, – что оно – вранье от первого до последнего слова.
– Ах так? Вранье? – воскликнул кот, и все подумали, что он начнет протестовать, но он только тихо сказал: – История рассудит нас».)
Это выглядело так: пустынная местность, от видимого края до другого видимого края перегороженная высоченной – с небоскреб – стеной. Подбегают какие-то люди (не один же Марк Солонин занимается историей войны), быстро-быстро пишут на стене какие-то цифры и отбегают; после чего то один блок, то другой вываливается из стены и рассыпается в пыль. И в какой-то момент возникает иллюзия, будто стена рано или поздно покосится хотя бы слегка и из-за нее покажется краешек истины.
Но не тут-то было. Это была именно иллюзия. Возникшая из-за того, что Марк Солонин, некоторые его коллеги и многие читатели (в том числе и я) использовали ошибочную методологию. Неверно оценили сопротивление материала. Впали в философское заблуждение.
Видите ли, дамы и господа, мы исходили из предпосылки, что у вранья есть две роковые, неустранимые слабости.
Первая: оно выдает себя за истину. По крайней мере выдавало раньше. Обычно. Как правило. Чаще всего. Признавая, стало быть, ее превосходство и свою сравнительную ничтожность.
Этой его стеснительностью, или застенчивостью, – а прямо говоря, трусостью – этой неспособностью вранья гордо сверкнуть очами: дескать, вот оно я, извольте же молчать и слушать! – люди вроде Марка Солонина пользуются (пользовались прежде) для побед над враньем – разумеется, временных и частичных. А как только что выяснилось – просто мнимых.
Победой над враньем эти люди считали его разоблачение. Наивно полагая, что, как только вранье разоблачено – то есть как только удалось неопровержимо доказать, что оно действительно вранье, – оно перестает существовать или, во всяком случае, действовать.
Техника разоблачения разработана до мелочей. Марк Солонин владеет ею блестяще. Она основана на второй, действительно неустранимой слабости вранья: оно вынуждено то и дело противоречить не только фактам или там документам (которые легко спрятать и/или уничтожить), – но и самому себе. Такова его природа. Особый статус отношений речевой активности – с мыслительной. (Лживых мыслей, как и лживых вещей и даже слов, – не бывает. Лживыми бывают только предложения. И люди.) И вот когда вранье наезжает само на себя – тут его тепленьким и берут.
Как в этой книжке. Написанной для опровержения одной фразы из моего школьного учебника. И вузовского. Когда-то я должен был знать (и знал) ее наизусть, теперь забыл. Что-то вроде того, что, внезапно напав на мирно спящие аэродромы, вражеская армада уничтожила большую часть советских самолетов еще на земле; в первый же день войны, прямо с утра.
Потратив очень много ума и труда, Марк Солонин разрушил это утверждение полностью. Лишь немногие из советских самолетов погибли в первый день на аэродромах. И немногие погибли в воздушных боях. Все подсчитано скрупулезно. Больше нет ни малейших сомнений, что «неучтенная убыль» (11 тысяч самолетов за первые месяцы войны) должна быть объяснена иначе. И даже стало понятно – как.
Ну и что? Начнем, что ли, писать в учебниках правду? А зачем?
В стене открывается внезапно отверстие, типа бойницы, в нем показывается министр культуры и произносит такие слова:
– Факты сами по себе значат не очень много. Скажу еще грубее: в деле исторической мифологии они вообще ничего не значат. Все начинается не с фактов, а с интерпретаций. Если вы любите свою родину, свой народ, то история, которую вы будете писать, будет всегда позитивна.
Вот, собственно, и все. Слышите, г. Солонин? Всех касается, а вас в первую голову. Понятия «истина» и «ложь» на территории РФ отменяются как потерявшие смысл. Ценность любого высказывания определяется исключительно единорогами. Приятное единорогам считается полезным для населения. Впрочем, если угодно, то и наоборот. Короче, бросайте вы это свое безнадежное и опасное дело.
Пока не забодали. Пока делают вид, что им на вас наплевать:
– Если вы наивно считаете, что факты в истории главное, то откройте глаза: на них уже давно никто не обращает внимания. Главное – их трактовка, угол зрения и массовая пропаганда.
Так и есть. Со всеми вытекающими. См. выше, в предыдущей книжке.
2012. № 8
Михаил Лемхин. Вернуться никуда нельзя. Разговоры о кино, фотографии, о живописи и театре. СПб.: Читатель, 2012.
Не прочитать эту книгу было бы ошибкой. Которую вы, наверное, сделаете. (Знаю – почему, да неохота формулировать.) Но ничего страшного: ее прочитают ваши дети или скорее внуки, если будут не невежды.
Кстати, она дала мне лишний раз (точнее – два раза: я еще и перечитывал) убедиться, какой невежда я сам, какой провинциал. Не видел этих фильмов; не читал этих книг; не слыхивал про авторов; даже о фактах некоторых, на Западе любому интелю моего, среднего пошиба, известных чуть не с детства, – понятия не имел. Как много интересного случилось на свете, пока я, так сказать, жил. То-то иностранцы – из деликатности – как завидят бывшего советского, так сразу: а что вы думаете о Достоевском? а о Толстом? Ну да, ведь любой житель острова Пасхи – потомственный специалист по монументскульптуре.
Правда, с Михаилом Лемхиным западный не выше среднего тоже чувствовал бы дискомфорт: Лемхин, конечно, всегда в курсе дела, но у него своя собственная палата мер и весов. Не даст насладиться единомыслием. К тому же спорщик. Хотя и очень странный: не настаивает на своем, а разными хитростями добивается, чтобы ваше было вами же додумано до конца и высказано как можно ясней.
Поэтому помещенные здесь интервью – совсем не интервью, а действительно самые настоящие разговоры. Незаурядных людей. (Отара Иоселиани. Алексея Германа. Александра Сокурова. Душана Макавеева. Александры Пелоси. Андрея Некрасова. Юрия Мамина. И др.) О важных вещах. В которых эти люди разбираются. И которые их волнуют.
Такие разговоры бывают в романах. Причем в хороших.
И рецензии Михаила Лемхина – тоже не рецензии, а новеллы. Он увлекательно рассказывает сюжеты фильмов. Биографии авторов. Вообще истории разных людей.
Вдруг припомнит что-нибудь из собственной жизни – и это опять же проза высокого качества.
Короче говоря, книга отлично написана, но слога не замечаешь, оттого что все время слышишь работу ума. Одного из нетипичных умов, образовавшихся в одной отдельно взятой империи зла в период ее полураспада. Страдающих сверхчувствительностью к оставшемуся от нее смраду. Такое же политическое обоняние было, например, у Бродского.
Потому что это ведь не метафора – что Зло бывает государствообразующей силой. И запах ничем не ограниченной глупости – тоже не выдумка, и кто дышал им хоть несколько лет подряд, хотя бы в детстве-отрочестве-юности, – тот не забудет никогда.
Типичный ум привыкает. Нетипичный – ненавидит. И, как в аэропорту служебная собака на саквояж с наркотиком, бросается и лает на любой лжесодержащий культурный предмет.
Я сам – такая собака. Мне нравится, как разбирается Михаил Лемхин с авторами дурных произведений.
Но так же нравится, как он понимает и умеет объяснить, что привносят в человеческую жизнь произведения настоящего искусства.
И я считаю абсолютно неопровержимой и единственно существенной – простую этику его эстетики. Этику со-противления путем несоучастия.
«Согласившись им помогать (не важно, в какую форму они одеты), – ты действительно помогаешь им, как бы ты себя ни оправдывал. Спасаешь ли ты свою жизнь, жизнь своей семьи, надеешься ли ты их переиграть. Не надейся. У тебя не было иного выбора? Ты не сразу осознал, чего от тебя хотят, а потом уже некуда было отступать? Твоим мнением вообще никто не поинтересовался? В этом-то и трагедия. Не важно, отведена ли тебе роль жертвы или палача. Расклад всегда тот же самый: ты согласился – значит, они получили то, чего они хотели. Значит, они выиграли, а ты проиграл».
Коготок увяз – всей птичке пропасть. Вроде бы очевидно, – а многие, в том числе и западные, не догоняют. А классовая борьба свирепых с боязливыми все обостряется.
Догадались бы, что ли, американцы эту книжку перевести. Тем более Михаил Лемхин живет и пишет там, у них, в Сан-Франциско.
Вердикт: Березовский против олигархов / Пер. с англ.; сост. Ю. Фельштинский; авт. предисл. Б. Березовский; Б. Немцов; Э. Стефенсон. М.: Рид Групп, 2012.
А это просто попалось под руку. Почти семьсот страниц большого формата, в твердом переплете с суперобложкой, пятитысячный тираж. Скорлупа от выеденного яйца, стоившего 50 000 фунтов стерлингов.
Дело было так. В октябре 2004 года по ящику показали телепередачу «К барьеру!». В которой Фридман, банкир, задел доброе имя бизнесмена Березовского. Бросил на него тень. Употребив глагол «угрожал». Дескать, в телефонном разговоре (о том, кому владеть газетой «Коммерсантъ», подробности совсем не любопытны) Березовский ему угрозил. Дословно: «Даже мне он угрожал. Он всем угрожал. У него работа такая».
Вот за эти слова Березовский притянул Фридмана к суду. Английскому. Высокому. В Лондоне. Поскольку и там – как это ни странно – есть, оказывается, люди, которые время от времени смотрят НТВ, и реплика Фридмана теоретически могла отрицательно повлиять на мнение этих людей о Березовском. Подмочить его деловую репутацию.
Суд состоялся в мае 2006-го, продолжался десять дней. Присяжные заседатели, свидетели (почти сплошь – богачи из России), судья и адвокаты в мантиях и париках – всё как в кино. Обсуждалась, конечно, проблематика глагола: роняет ли он как сказуемое морально-экономический облик подлежащего? и если роняет, то поделом ли в данном случае?
Заодно – в порядке углубления в контекст – подробно рассмотрели при свете совести механизм принятия решений в РФ (оказавшийся чем-то вроде организма: множество особей, сросшихся хвостами; россыпь глаз, горящих неистовой злобой).
На вопросы о глаголе присяжные ответили: во-первых, роняет; а во-вторых, не факт, что поделом. В силу чего м-р Фридман м-ру Березовскому полста тысяч фунтов да отслюнит.
А в этом, значит, фолианте собраны все материалы дела – от первичной исковой телеги до заключительного слова судьи:
– Все, что мне остается теперь, – это сказать несколько слов вам, господа присяжные. Я думаю, вы все видите, в каких сложных условиях может иногда проходить работа присяжных. И у вас определенно был период большого напряжения, особенно в последние два или три дня…
Они, наверное, пытались воспользоваться своим интеллектом. А ведь Тютчев предупреждал. И свидетель Немцов, излагая (не помню зачем) процедуру назначения председателя совета директоров Газпрома, подтвердил:
– …Если я буду описывать все наши разговоры, включая разговоры с Черномырдиным, то боюсь, некоторые дамы будут вынуждены покинуть эту комнату, знаете ли, потому что иногда мы употребляем очень специфические слова. Очень трудно перевести их на английский и очень трудно их объяснить.
Невероятно смешная книжища. Никогда не читал ничего скучней.
Вот Березовского спрашивают: имел ли он возможность влиять на содержание программ принадлежавшего ему ОРТ? Секунду, говорит Березовский. Непорядок. Не вижу Библии. Типа того, что как раз настроился говорить всю правду и ничего кроме, – но как бы этот порыв не пропал зазря.
– Секунду. Да, хорошо, я отвечу на ваш вопрос. Но мне просто интересно, вы не дали мне Библию, чтобы я подтвердил, что говорю правду. Одного раза достаточно?
Александр Крюков. Пушкин выпил со старушкой. (Массовая поэзия и массовые издания.) Воронеж: Наука-Юнипресс, 2012.
Это называется – однокорытники. Жизнь тому назад мы с автором этого труда одновременно посещали некое заведение имени Жданова. Где советская филология обнажала перед нами свои изъязвленные сосцы. Ему рассказывали про аорист и герундив, мне – не помню про что. Теперь он профессор в Воронеже, а я по-прежнему рецензент в «Звезде». Он всю дорогу, стало быть, сеет, пустынный, разумное, ну а я – веселый жнец и на дуде игрец.
Но и профессуре человеческое не чуждо, и А. С. Крюков, особенно когда был помоложе, иной раз позволял себе встряхнуться – по охотиться на дураков. Безжалостно и нескромно подстерегая момент, когда дураки особенно беззащитны, – момент вдохновения. Только дурак раскурлыкается во все горло – тут А. С. и набросит на него иронический силок.
Вот как это выглядит.
Дурак:
Я люблю в твое лицо глядеть досель,
Вот возьми попробуй эту карамель.
А. С. Крюков: «После употребления карамели можно винцо попить и потихоньку начинать вить веревки, затем играючи гнуть подковы, не нанося при этом телесных повреждений друг другу. Еще проще зевнуть и вздремнуть лет эдак на тысячу…»
Другой дурак:
Я любовь твою поставил на болты
Да вдобавок их законтрагаил…
А. С. Крюков: «Можно прибегнуть к холодной или горячей сварке, ежели болты и шплинты не удержат любови».
Ну и так далее. Дурак курлы-курлы, а умный кхе-кхе и ну-ну. А уж если вдруг попадется самка дурака и взвоет: «Он женщину, сгорая от любви, ухватит за лохматые подмышки», – просто помолчит укоризненно: вежливый же; пошутить как надо бы – не позволяет Заратустра.
Это можно еще представить себе так: сутулый очкарик на берегу моря Пошлости во время прилива. От советской любовной лирики спасения нет. Сам Писарев утонул бы вторично.
А впрочем, поэзия ведь и должна быть глуповата, не правда ли? Он ей (повелительно):
Грудь под поцелуи, как под рукомойник! Она ему (приветливо): Льни на лыжах! Льни – льняной!
В общем, это сборник ученых таких фельетонов: в первом разделе – что дураки пописывают; во втором – как они издают и комментируют классику. Второй раздел, конечно, лучше. Солидней. Тут и герундив наконец-то пригодился:
«Хорошо известное выражение Горация fuga temporum (буквально – бег времен), давшее название последней ахматовской книге, в примечаниях превратилось в fura temporium, что является полной бессмыслицей. Кроме того, авторы уверяют, будто выражение это находится в третьем томе сочинений Горация. Они, вероятно, и не подозревают, что римский поэт, живший в I веке до нашей эры, никогда не выпускал собрания своих сочинений. У Ахматовой, как и у Пушкина, речь идет о знаменитой 30-й оде, известной под названием “Памятник”, из третьей книги од Горация».
Браво, профессор! Так им и надо!
А вам, читатель, признаюсь: данная рецензия публикуется на правах коррупции. Просто захотелось послать старому товарищу – через всю жизнь и пол-России – привет.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































