Читать книгу "Знамя любви"
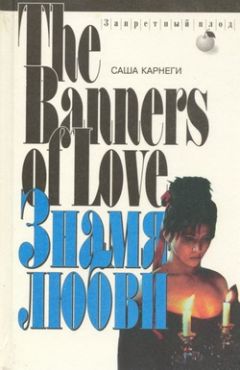
Автор книги: Саша Карнеги
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Саша Карнеги
Знамя любви
Часть 1
Глава I
Степной орел парил в потоках мягкого весеннего ветра, прилетевшего с запада, из Польши. Время от времени орел одним мощным движением взмахивал своими гигантскими крыльями, разглядывая голодными глазами лежащую внизу землю. Все было неподвижно и озарено розовым утренним светом, только длинные струйки дыма лениво выползали из труб большой белой усадьбы. На заливных лугах у реки не резвились зайцы, лисицы и косули затаились в дремучих лесах, которыми поросли равнины меж невысоких холмов; обширные угодья Раденских лежали, окутанные тонким слоем тумана после бурной весенней оттепели.
Как бы наверстывая упущенное после суровой зимы, весна в этом году внезапно нагрянула на Украину теплым западным ветром вместе с громким криком диких гусей, держащих свой путь дальше на север, накануне вечером растопила казавшийся вечным снег и всю ночь весело громыхала на реке льдинами. Апрельское солнце быстро высушило распутицу на обширных землях принадлежащего Раденским имения Волочиск, оставив только немного снега на северных склонах холмов.
Орел взмыл вверх над белой усадьбой. В дверях усадьбы стояла девушка и, ладонью заслонив глаза от солнца, восторженно наблюдала, как могучая птица проносится мимо усадьбы и устремляется через широкую Подольскую степь к похожей на подкову излучине Буга. Как бы она хотела лететь с этой птицей и увидеть весь мир ее зоркими глазами! На западе она бы увидела отроги Карпат, которые, словно черные копья, вонзались в равнины, тянувшиеся до Днепра и еще дальше до самой Монголии. На севере холмы постепенно переходили в границу между пашнями Припяти и бесконечной каймой лесов. На юге среди диких оврагов и ущелий, словно змея, петлял Днестр, добираясь до Черного моря через владения турок.
Она смотрела вслед птице до тех пор, пока орел не растворился далеко в небе. Тогда она шагнула во двор, где было слышно, как кто-то поет:
Наползли черны тучи на тихий Дон от Черкасска до самого моря.
Казацкая песня свободно лилась в теплом весеннем воздухе и внезапно оборвалась, когда певец увидел приближающуюся к нему девушку.
Сидя около дверей амбара, Михаил Фомин смазывал новое кожаное седло, втянув глубоко в плечи морщинистое обветренное лицо, много лет назад заслужившее ему среди волочисской челяди прозвище Орех. «Мишка еще больше похож на черепаху, чем обычно», – подумала девушка, улыбнувшись, когда ее любимец, огромный пес, с лаем закружился у ног старика.
– Пошел, пошел вон! Цыц, дьявол, кому говорю, не слышишь, что ли?
Его лохматая голова раскалывалась с похмелья – всю ночь они с Осипом-кузнецом крепко пили, – и собачий лай отдавался в его ушах, будто пальба сотни мушкетов.
Но при виде девушки его лицо просветлело. Святые угодники, она была настоящей красавицей. Густые черные волосы переливались на солнце, лицо до сих пор оставалось смуглым после прошлогоднего знойного лета; вокруг ее маленьких красных сапожек вилась дворовая пыль. Казя Раденская была похожа на настоящую казачку: она любила яркие платья и при ходьбе, как и все казачки, гордо покачивала бедрами.
Он искоса смотрел на девушку маленькими налитыми кровью глазами, медленно посасывая трубку, набитую зельем, заменявшим ему табак. Волосы цвета воронова крыла, высокие татарские скулы и тело, созданное для того, чтобы пленять мужчин. У нее была не такая налитая, мощная грудь, как у казачек, она была уже в плечах, но эта девушка, которая сейчас, смеясь, разглядывала его продолговатыми, чуть раскосыми глазами, обнажив в улыбке белые неровные зубы, что делало еще привлекательнее ее широкий чувственный рот, эта девушка скоро превратится в женщину, способную разжечь огонь в чреслах смиреннейшего из скопцов. Его грубая темная рука отложила в сторону седло, он с вожделением вздохнул об утраченной молодости. Наконец, он первым заговорил:
– Так твой отец воротился, а? И Яцек с ним. Вовремя, вовремя, – проворчал он сквозь клубы дыма. – Когда мне надо потолковать с графом о лошадях или о конюшнях, где он? Повесничает в Варшаве или в Кракове, или еще где.
– Он будет рад узнать, что ты о нем думаешь, – сказала Казя, устраиваясь поудобнее на куче соломы перед конюшней, так чтобы яркая вышитая юбка не трепетала на ветру, как флаг.
– Э-ээ... Да все это я ему уже сказывал. «Уж коли у нас есть лучшие лошади на Украине от Карпат до Днепра, так какого рожна вам еще надо, ваше превосходительство? – говорю я ему. – Тратите время на болтовню умников из сейма, а на что нам их законы?» Так напрямик и сказал: «Вы, граф Раденский, самый большой помещик в этих краях, хозяин Волочиска и еще Бог весть чего, но о лошадях вы не думаете».
– А что он? – Казя зарыла ноги в солому.
– Он кричит, что я старый глупый казак. Я! Да я оседлал лошадь и надел саблю, когда он еще молоко у мамки сосал. – Мишка шумно перевел дыхание, в сердцах хватив кулаком по седлу.
– А я ему говорю, мол, ищите себе, ваше превосходительство, другого конюшего. Я здесь уже, почитай, двадцать лет с лишком, пора и честь знать.
– Так прямо и сказал, Мишка? – невинно спросила Казя, разглядывая возящихся возле корыта кур.
– Так и сказал, – он посмотрел на нее подозрительно. Эта барышня была сущим чертенком. Так и норовит сыграть шутку. – Твой брат должен чаще дома бывать, с лошадьми, а не в Кракове. Там хлопца только портят, обрядят в мундир – и ну в солдатов играть. Баловство одно. Разве не Яцек будущий хозяин Волочиска? Нужно, чтоб он разумел и о лошадях, и о поместье. Само-то оно управляться не будет, – Он сбился на неразборчивое бормотание.
– Заниматься лошадьми буду я, – перебила его Казя.
– И ты сможешь, деточка, еще как сможешь. Ты управляешься с ними почище иного казака, – он довольно пыхнул своей трубкой, закрыв глаза от яркого солнца. На его заскорузлой, почти черной шее, которую семьдесят лет сряду жгло солнце, отчетливо белея, выделялся шрам.
– Поляки, – внезапно воскликнул он. – Чудной народ. Католики, фу-ты ну-ты. И зачем я остаюсь на ихней земле?! Мне бы уйти на Дон к своему народу.
– Ты правда не любишь нас, Мишка?
– Я родился в степи, – медленно сказал он в ответ, – У меня есть шрамы от турецкого ятагана, – он ткнул пальцем в шею, – от русской пули и от польской пики. Почему я должен кого-то любить, ответь мне.
– Чепуха, – сказала она быстро, – Если бы мой отец не подобрал тебя полумертвого и не привез сюда...
– Я бы встал у стервятника колом в глотке.
Они оба засмеялись. Михаил Фомин родился в год, когда подавили бунт Стеньки Разина. Он служил у гетмана Мазепы и сражался под Полтавой на стороне шведов, где русская пуля продырявила ему бок. Он дрался с турками во время многочисленных набегов и стычек и дважды на борту казачьего струга доходил до самого Константинополя. Подобно своим собратьям, он больше знал о войне и оружии, чем о повседневных трудах и заботах, а в свое время, будучи молодым и лихим казаком, умел завоевать женское сердце не хуже, чем зарубить саблей турка.
Он вынул изо рта трубку и запел хриплым, но удивительно мелодичным голосом:
«И за белы руки тут вывели Стеньку Разина. И на великой, на Красной площади отрубили ему буйну головушку».
Старик грубо сплюнул себе под ноги. Из кухонной двери, переполошив кур, вышла кухарка Анна с охапкой зерна в дерюге. Не заметив Кази, она громко выкрикнула:
– Что, некого тебе оседлать, пьянчуга, старый вонючий козел!
Захохотав, она довольная удалилась. Он что-то обиженно проворчал. В седле Мишка менялся: из сгорбленного, кривоногого старика он превращался в могучего кентавра, срастаясь с конем, цепко сжимая своими ногами пышущий жаром круп коня, из которого, казалось, исходит черная сила. Когда Казя была маленькой, он, чтобы потешить ее, часто устраивал представления – пришпоривал коня и с диким гиканьем бросался на окраину сада в густые заросли желтых подсолнухов. Свиньи и гуси с визгом разлетались в разные стороны, когда он несся с казацким боевым кличем «Нечай! Нечай! Руби! Руби!»
Его хлыст свистел, словно сабля, и головки подсолнухов слетали со стеблей, чтобы тут же превратиться в пыль под тяжелыми конскими подковами.
Он и сейчас был способен повеселить детишек, но с возрастом рука его стала не такой гибкой, и хлыст не рассекал воздух с прежней удалью и сноровкой. Но голос его оставался все таким же зычным и трубным. «Голова с плеч», – кричал он победно, наслаждаясь своим триумфом среди восторженной детворы. Или задористо выкрикивал: «Иезуит, выходи!» – когда рядом находился патер Загорский, Казин учитель-иезуит. Тогда он бывал просто великолепен, его черные глаза загорались диким огнем, как будто по-звериному неукротимая душа силилась высвободиться из заточения в дряхлом теле.
– Глупая баба, – он погрозил кулаком кухне. – У тебя не голова, а тыква. Я еще не слишком стар, чтобы тебя... – он выругался со всем презрением, которое вольный казак может питать к крепостному холопу.
– Расскажи мне еще о Стеньке Разине, – попросила Казя, стараясь его успокоить, – пожалуйста.
Она подтянула колени вплотную к груди и приготовилась слушать. Большинство его историй она давно знала наизусть, но любила слушать, как он рассказывал о станицах на берегу Дона, о бескрайних степях, о загадочных восточных землях, на которых жили, любили, сражались и умирали буйные непокорные люди. Эти истории завораживали ее. В ее воображении вставали чудесные картины, вызванные его рассказами. Она видела большую тихую реку, шепчущий на ветру ковыль, клубы пыли под копытами быстрых всадников, покрытую соломенными крышами станицу, прячущуюся среди тополей и ив. Смешное в этих историях смешивалось с печальным, доброе с жестоким, и всюду било через край несгибаемое жизнелюбие.
– Его называли атаманом бедных, – сказал он, напрочь забыв о седле. Мишкин голос звучал все сильнее и сильнее, когда он описывал поход казаков, двинувшихся от Дона к Уралу на боевых стругах по великой русской реке Волге. – Стоило ему вымолвить слово, и царские корабли вместе со стрельцами и воеводой застывали на месте, как камень. Но не женщины. Э-эх, женщины не теряли времени попусту, – Мишка зашелся хриплым смехом, похожим на тявканье лисицы, и затянул песню:
«А чуть взмахнет он рукою, выходят к нему красны девицы. Из чертогов златых, из теремов расписных.»
В его глазах Казя увидела едва заметный жаркий и влажный блеск, хорошо ей знакомый: она видела его в трусливых исподтишка взглядах кучеров, в дерзком откровенном взгляде Павла, молодого парня, Осипова сына; даже в глазах патера Загорского загорался странный огонек, когда, чтобы лучше объяснить какую-нибудь сложную задачу, он садился с ней рядом и, словно невзначай, его худая жилистая рука ложилась на ее плечи, как будто арифметические правила таились в кончиках его пальцев и могли передаться через легкое прикосновение.
Она привыкла к этому огню в обращенных на нее глазах мужчин. Он жег ее, волновал и доставлял странное, ни с чем не сравнимое удовольствие, хотя нередко, помимо своей воли, она заливалась краской, чувствуя себя обнаженной. Часто, когда она купалась в озере или стояла раздетой перед огромным зеркалом в своей комнате, она представляла себе, что стоит перед мужчиной, медленно поворачиваясь перед ним на цыпочках, наслаждаясь ощущением своего красивого женского тела, ждущего объятий сильных мужских рук. Ей очень хотелось спросить старика, так же ли она красива, как те девушки, которых он знал в молодости. Но вместо этого она спросила:
– А что с ним случилось потом?
– Потом? Он умер, как и все мы умрем. Но он умирал медленно и ужасно, из него сделали кровавую кашу, расплющили каждую его кость. На него смотрели эти проклятые московиты, пошли им, Боже, чуму, его предал родной народ, и с тех пор казаки несут на себе клеймо иудиного греха.
Мишка сердито подергал себя за седые усы.
Говорят, что однажды другой атаман поведет казаков с Дона на Москву и скинет с трона царя, этого кровавого пса. Я слышал это от одной мудрой старухи в нашей деревне. Она настоящая ведьма и по ночам летает на ухвате.
– А помнишь ту цыганку, которая предсказывала будущее, когда у нас гостила Фике?
Казя ясно представила себе высокую изможденную женщину в подпоясанном овечьем кожухе и лаптях, которая жила в лесу вместе с дровосеками. Это было в тот день, почти шесть лет назад, когда они все поехали кататься в лес: Фике, она сама, ее щеголеватый кузен Станислав Понятовский и Генрик Баринский из Липно. Она навсегда запомнила слова цыганки:
– Когда-нибудь для тебя наступят времена великой печали, но потом придет счастье, каким не может похвастаться ни одна женщина в мире.
Цыганка поглядела сначала на Фике, затем на Станислава Понятовского, покачала головой, и никакие просьбы не могли заставить ее говорить. Повернувшись к Генрику, она сказала:
– Ты проживешь много жизней, но из них лишь одна принесет тебе истинное счастье.
Ничего не поняв, Генрик по обыкновению весело рассмеялся, цыганка молча отошла от них, унося тайны их судеб в своей черной, как смоль, голове.
– Эта ваше Фике, – сказал Мишка, мрачно дыша перегаром, – что с ней сталось теперь?
– Она живет со своим мужем во дворце в Санкт-Петербурге, это за много верст отсюда.
– Так она вышла замуж за русского?
– Нет, за немца. Почти за немца. Он в недоумении покрутил головой.
– Вышла замуж за немца, а живет в Санкт-Петербурге во дворце?
Это было выше его понимания.
– Да кто она? Королева что ли?
– Она великая княгиня, – сказала Казя.
Мишке с трудом давалась дворцовая иерархия. Казя попробовала пояснить.
– Великая княгиня Екатерина... – начала она.
– Ее же Софьей звали! – Мишка раздраженно сплюнул и взорвался. – Мы, казаки, не любили всяких там царей и княгинь. – Мишка пнул ногой седло и ворчливо признал. – А она была не робкого десятка. Помнишь волков?
– Да, помню, – тихо сказала Казя.
Ветер доносил протяжный заунывный вой серых хищников. Две девочки что было сил бежали по заснеженному лесу, преследуемые призрачными серыми тенями, мелькавшими между стволов берез. Девочки спотыкались, падали, пошатываясь, вставали, стараясь спастись от беспощадных зверей, способных загнать и самого быстрого лося. Фике закричала:
– Нога! Я подвернула ногу. Я не могу больше бежать. Девочки остановились. Смерть гналась за ними по пятам. Бежать больше нельзя. Они встали спиной к спине в сгущавшихся сумерках, с отчаянием наблюдая, как вокруг них все теснее и теснее смыкается круг серых теней... Щелканье челюстей смешивалось с криками о помощи. Вдруг послышался стук копыт, и в волков полетели горящие головни. Мишка спрыгнул с коня, ругая на чем свет стоит их глупость. Яцек, ее брат, дрожал от волнения и внезапного облегчения... Но больше всего Казю поразила храбрость Фике. Несмотря на ужасную боль в ноге, ни единого слова жалобы, только бессильная ярость на свою собственную беспомощность! Такую хорошую подругу поискать надо!
– Но она слишком тощая, – продолжал он. – Кожа да кости, ну прямо суслик после зимней спячки.
Он затянулся трубкой.
– Так она подцепила себе муженька, великого князя какого-то? Ну-ну. Не расстраивайся, девочка, ты найдешь себе мужа получше. Молодые красавцы так и будут виться вокруг тебя, чтобы назвать своей даней. Э-хе-хе, и не очень молодые тоже.
Он посмотрел на нее, сощурив свои маленькие глаза, его тонкие губы раздвинулись в озорной улыбке, которая вновь сделала Мишку молодым, несмотря на остатки зубов, чернеющие у него во рту.
– Держи их в ежовых рукавицах, – посоветовал он.
Она откинула назад голову и искренне без кокетства захохотала. Ее длинная шея была ровной и нежной, как сливочное масло. В голубятне, устроенной на крыше конюшни, громко ворковали белые голуби, первые ласточки носились друг за другом вокруг луковичных куполов часовни, там же, деловито чистя клювом перья, сидели галки.
Когда золотые часы на часовне зашипели и пробили одиннадцать, с балкона усадьбы раздался голос, заставивший голубей с громким хлопаньем крыльев взмыть в воздух, а собаку угрожающе заворчать.
– Казя! – голос был скрипучим, как ржавый напильник.
– Господи, я забыла про время, – она вскочила с соломы.
– Чтоб ты сгинул, старый ворон, – пробормотал казак, глядя вверх на высокую фигуру в длинной сутане и широкополой шляпе. – Он не видел тебя. Спрячься в амбаре.
Он затянул новую песню:
«Ни пива, ни меда не лью, братцы, в глотку...»
Священник перегнулся через балюстраду с выражением крайнего раздражения на костлявом лице, его длинный красный нос торчал, будто клюв журавля, нацелившегося на лягушку.
«А с вечера и до утра я пью только водку...»
Мишка посмотрел вверх, на балкон. Его голос стал громче, он вполне наслаждался происходящим.
«Вишневую водку...»
Он многозначительно замолчал, наполнил легкие и выпалил с триумфальным ревом:
«Из очень большого ведра!»
Затем он невинно обратился к иезуиту:
– Вы меня звали, патер?
– Вы видели графиню Казю? – глаза патера Загорского были тусклыми и бесстрастными.
Вместо ответа Мишка плюнул себе на ладонь и начал тереть седло.
– Так как она делит досуг примерно поровну между своими лошадьми и вами, – едко продолжал патер Загорский, – я предположил, что вам известно ее местонахождение.
Эта велеречивая тирада не произвела на Мишку ровно никакого впечатления, он только шумно затянулся трубкой.
– Так что же, сын мой?
– А кабы я и знал, разве сказал бы? Чтобы ее пичкали разными поповскими выдумками, забивали ее головку всяким вздором в душном чулане! И знал бы, да не сказал.
Между ними не было настоящей враждебности, напротив, за их яростными перепалками скрывалось своеобразное уважение друг к другу. Они оба испытывали ревность к влиянию другого на девушку, которую каждый из них привык считать своей подопечной.
– Вы просто старый грешник, – сказал патер Загорский, быстро мигая на ярком солнце. Ему самому было под шестьдесят.
– Ежели я и грешу, – с ухмылкой парировал казак, – я не поползу к вам на брюхе за отпущением. Нет, шалишь, меня к вам не затащишь и на аркане. У нас на Дону есть пословица: «Признайся в грехе всемогущему Богу, синему морю да своему гетману». Этого с лихвой хватит. Нам не нужны попы, чтобы передавать наши слова Господу. Господь все услышит, даже ежели ты шепчешь.
Вдруг патер Загорский нетерпеливо взорвался:
– Казя, если ты в сарае, выходи сейчас же, слышишь! Сейчас же! У нас много уроков.
– Вишь ты, – насмешливо воскликнул Мишка. Потом потихоньку добавил. – Выходи, деточка, будет хуже.
– Слишком тепло, чтобы сидеть дома, – Казя вышла из сарая, стряхивая с юбки соломинки. Разве нельзя заниматься в саду?
– Позволь решать это мне, – жестко сказал патер Загорский.
– Да, патер.
– Ты легкомысленная, непослушная девочка, – крикнул священник.
– Простите, патер.
– Дюжину «Отче наш», – пробормотал Мишка, намекая на излюбленное наказание иезуита. Казя опустила голову, чтобы спрятать улыбку, трепещущую в уголках рта.
– Выше нос, деточка, – посоветовал казак. – Солнце будет светить и после того, как его закопают в землю. И яблони будут цвести, а это старое пугало – удобрять чью-то бахчу.
Он загоготал, хлопая себя по колену, очень довольный своей шуткой.
Но взглянув, как Казя медленно и неохотно бредет через двор, а за ней уныло плетется собака, он сразу поугрюмел. Он подобрал седло и начал еще одну песню:
«Ясный сокол сидит в неволе...»
Казя обернулась и продолжила звонко и вызывающе:
«Связан так, что не пошелохнется, связан шелковыми веревочками...»
Ее голос постепенно стих за дверью.
– Чертов сын, старый ворон!
Теперь, когда Казя ушла, у Мишки снова начала болеть голова, ему мучительно хотелось выпить. Он представил себе, как Казя сидит за пыльными книгами в тесной комнате, и голова у него заболела еще сильнее. Разве она создана для того, чтобы читать книги? Ей бы выйти замуж и рожать сыновей-красавцев. Или попытать счастья за пределами толстых стен Волочиска. Казины голуби возвращались назад в голубятню, похожие на белые лепестки, подхваченные порывом ветра.
Старый казак потряс седой головой, гадая, что за судьба ждет эту девушку со счастливыми глазами и заразительным смехом.
Патер Загорский закончил говорить и сел на стул, прислушиваясь к внезапному шуму, обрушившемуся на дом. Хлопали двери, топали ноги, раздавались громкие голоса, лаяли собаки. Эта суета была вызвана возвращением Казиного отца из Варшавы. Она подумала, что после уроков ей под шумок удастся улизнуть через черный ход на конюшню, куда наверняка придет Яцек.
– Я буду тебе очень признателен, Казя, если ты будешь повнимательнее.
Она ловко увернулась от нависшей над ее плечами руки.
– Теперь, моя дорогая, будь так добра, сделай краткое резюме событий, случившихся в тот несчастный день в Торуне.
Он ждал. Шум снаружи становился все громче и громче, как ураган он пронесся по коридору и, наконец, затих в противоположном крыле усадьбы. Казя задумалась. Она почти не слушала убаюкивающий голос учителя и сейчас с трудом припоминала суть случившегося. Кажется, лютеране напали на иезуитов. Или наоборот? В эту минуту Казе было не до религиозных распрей.
– Я жду, Казя.
Тетушкины мопсы затеяли на лестнице шумную возню. Патер Загорский, поморщившись, пошевелился. Башмаки скрипели и жали ногу, тело давшего обет безбрачия служителя церкви покрылось потом, он старался не замечать выбившихся из прически локонов на нежной девичьей шее.
– Ты слушала, что я говорил, Казя?
– О, патер, вы рассказали мне так много интересного этим утром, что я не смогла все запомнить, – ее лицо озарилось улыбкой, которую он так любил.
– Еретики, – сказала она. – Это все из-за еретиков.
– Что все?
– Ну, беспорядки в городе.
– Давай освежим твою память, моя милая. – Он украдкой вытер потные ладони о полу сутаны и продолжал: – Орден иезуитов устроил всеобщее шествие по улицам Торуни, торжественно пронося перед горожанами тело Христово. Возглавлявший их священник справедливо настаивал на том, что еретики должны преклонить колена, когда шествие будет проходить мимо их жилищ.
Он ждал.
– Ну?
– Они отказались, – попыталась угадать Казя.
– Да, будучи лютеранами, они имели нахальство отказаться. Произошли беспорядки.
– Вы имеете в виду, что они подрались? – поправила Казя, любившая точность.
Он кивнул, и его длинное лицо исказилось от гнева.
– Их всех надо сжечь, – проскрежетал он. – Их надо пытать за то, что они осмелились поднять руку против Бога.
В уголках его рта запузырилась слюна. Казя тихонько отставила свое кресло подальше. Стоило ему заговорить о религии, и он начинал выглядеть сумасшедшим.
– Учение протестантов проклято Богом, – сказал он, вскакивая на ноги и расхаживая по комнате. – Прокляты они сами, прокляты те, кто следует за ними в их ереси.
Он остановился около нее, его глаза горели.
– Ты как добрая католичка должна понимать это.
– Но... – начала она и остановилась.
Было не время завязывать теологическую дискуссию. Комната была душной, от патера Загорского пахло потом еще больше, чем обычно, и, кроме того, их урок уже подходил к концу.
– Мы должны быть абсолютно беспощадны к еретикам, – сказал он с холодной свирепостью, – ибо только так мы можем вернуть поляков в лоно истинной веры.
Он должен был повысить голос, чтобы перекричать сумятицу, вновь возникшую в коридоре: ее отец ревел, как бешеный бык, требуя шляпу, плащ и сапоги для верховой езды. Казя с тоской смотрела на дверь, ее ноги нетерпеливо переминались под столом, пальцы нервно теребили замусоленное перо. Патер Загорский пожал плечами и сказал:
– Вряд ли мы сможем еще что-нибудь сделать этим утром, – и добавил с внезапным суховатым юмором. – Ты, кажется, хорошо слышала, что от твоего отца сейчас лучше держаться подальше. Собери свои вещи, Казя, и можешь идти. Яцек наверняка тебя ждет.
Иезуит глубоко вздохнул, когда девушка радостно выбежала из комнаты. Он собрал книги и водрузил их на полку, печально вперив взгляд в их тусклые выцветшие корешки. Как можно было заставить ее думать о еретиках и о их нечестивом поведении, когда за окном весело сияло солнце, а лошади были готовы нестись по лугам что есть духу. Он вновь вздохнул, сознавая трудность стоящей перед ним задачи и завидуя этому старому язычнику Фомину, чья близость к девушке давно превратилась в его несбыточную мечту. Надвинув черную шляпу на седую макушку, он вышел на свою обычную утреннюю прогулку по окрестностям.
Казя нашла брата на конюшне среди ловчих птиц.
– Привет, лягушонок! – с радостным воплем он оторвал ее от земли и сжал так, что ей стало трудно дышать. – Дай посмотреть на тебя.
Он держал ее на вытянутых руках. Казя блаженно улыбалась ему в ответ. Они очень любили друг друга, и теперь ее переполняла радость, что он, наконец, вернулся домой после четырех долгих месяцев. Яцек Раденский был рыжеволосый, веснушчатый, не такой смуглый, как его сестра, но с теми же голубыми глазами и таким же маленьким прямым носом.
– Отец вернулся в ужасном настроении, – сказала она, отдышавшись.
– По сравнению с тем, что было во Львове, он сейчас как спящий ребенок. Видела бы ты его там! Я думал, его хватит удар, когда мы пришли на постоялый двор, и оказалось, что Баринские только что заняли две последние комнаты. Его, наверное, было слышно в Москве.
Смеясь и болтая, они медленно шли вдоль сидящих соколов со спутанными лапами.
– Не забыл меня, Генжиц?
Генжиц, любимый сокол Яцека, свирепо уставился прямо перед собой немигающими глазами, в которых не проскакивало искры радости или узнавания.
– Завтра ты снова полетишь охотиться, обещаю. Птица, нахохлившись, сидела на своей колоде, не изменив гордого дикого взгляда.
– Ты не возьмешь ее лаской, – сказала она.
Сокол заладил свое хриплое «кэк-кэк-кэк», быстрыми движениями поворачивая голову и одновременно стараясь высвободить лапы от опутывающих их веревок.
– Он хочет вырваться отсюда.
Казя вытянула вперед затянутую в перчатку руку. Благородная птица с подозрительным взглядом соскочила с колоды, при этом колокольчик у нее на шее тихонько зазвенел.
– Ведь хочешь, красивый мой?
Она ласково погладила теплые перья на его груди.
– Хочешь летать на солнышке, а не сидеть здесь.
– Тот же самый лягушонок, – сказал ее брат влюбленно. – Вечно хочет кого-то освободить.
В другом конце длинной конюшни мальчики-конюхи рассыпали свежую солому, и было слышно, как лошади громко жуют кусочки сахара, принесенные Казей.
– Отец неудачно съездил в Варшаву, – сказал Яцек. – Покупателей на лошадей не нашлось. Не знаю почему, но, кажется, в Варшаве ни у кого нет денег. Купили нового жеребца, так он охромел по дороге домой. А тут еще евреи-ростовщики привязались со своими расписками. – Яцек рассмеялся. – В общем, путешествовали на славу.
– А все Баринские были в Варшаве?
– Нет, только граф Сигизмунд и Генрик. Адама не было.
– Ты говорил с Генриком?
– Попробуй поговори, когда наши папаши ходят друг против друга, словно два петуха, и сыплют ругательствами. Самое глупое, что они похожи как братья. Да они жить не смогут один без другого, как бы ни бранились, – он говорил со всей безапелляционностью восемнадцати лет.
– Это просто стыд, что мы не можем даже повидать мальчиков. И все из-за этой глупой ссоры.
Казя поставила сокола обратно на колоду. Вдруг она ясно представила себе Генрика Баринского таким, каким он был во время их последней встречи. Вечером этого дня и случилась ужасная ссора: мать Фике, принцессу Иоганну фон Анхальт-Цербет, с истерикой уложили в постель, а Баринские ускакали из Волочиска, чтобы никогда больше не возвращаться... Черные вьющиеся волосы и улыбка, играющая в темно-серых глазах. Похожий на цыганенка – таким он был смуглым, с длинными изящными руками, которым доставало силы раздавить в ладони грецкий орех, когда ему было только четырнадцать. Но в ту ночь в его глазах не было смеха: сжав кулаки, он стоял лицом к лицу со Станиславом Понятовским, и его лицо пылало мальчишеским гневом.
– Ха, мальчики, – сказал Яцек, потешаясь, – Генрик, по меньшей мере, на два года старше меня, а Адаму в прошлом месяце было двадцать три. Мы выпили по этому случаю шесть бутылок вина, а потом...
– Об остальном я могу догадаться, – чопорно сказала Казя.
– Ну, уж и мальчики. Я тебе скажу одну вещь. Генрик имел большой успех в Варшаве. С женщинами, понимаешь? Так говорят.
– Кто говорит?
– Да все.
– Не сомневаюсь, женщины им довольны. А про тебя, Яцек, тоже так говорят?
Он покраснел.
– Лучше не спрашивай...
Он смотрел, как Мишка вразвалочку подходит к ним на своих коротких кривых ногах и на чем свет стоит проклинает конюхов за медлительность. Те, состроив недовольные мины, принялись живей ворошить вилами солому.
– Как ты ладишь с Адамом?
Старший Баринский также учился в шляхетском корпусе.
– Отлично. Но лучше бы это был Генрик. Не пойму, зачем отец послал его в университет. Ему больше подходит солдатский мундир, чем все эти новомодные либеральные идеи, в которых сам черт ногу сломит. К тому же Генрик намного веселее Адама, тот вечно хмурый, никогда не знаешь точно, о чем он думает.
– Что, вернулся? – встрял в их разговор Мишка. – Научили тебя держать саблю? Игрушечную?
Он один за другим выпалил вопросы, чтобы тут же накинуться на конюха, который, облокотившись на вилы, таращил глаза на Казю.
– А ну пошевеливайся, лодырь! Что, боишься пупок надорвать? Шевелись, шевелись, а то перетяну кнутом по спине.
– Они никогда не работали по-настоящему, – продолжал ворчать Мишка. – А тут еще ваш отец привез с собой...
На мгновение он потерял дар речи, потом взорвался:
– Пусть меня выгонят. «Почему меня до сих пор не выгнали? Разве это моя вина, – сказал я, – что вы купили себе верблюда?»
– «Вы можете найти себе другого конюшего». Ты сказал это, Мишка?
Казак метнул на нее острый взгляд из-под лохматых бровей, потом его лицо просветлело.
– Вот беда-то, – проворчал он, – на тебя нельзя долго сердиться.
Их шутливую перепалку прервал громоподобный приказ графа Раденского седлать лошадь для него и для управляющего.
– Пся крев! Поворачивайтесь, ленивые свиньи.
– Слышали! – крикнул в свою очередь Мишка. – Седлайте Молнию для его превосходительства и гнедую для пана Визинского. Поживее, вы там!
Все лихорадочно засуетились, и через пару минут лошади были оседланы и выведены наружу.
Надежно укрытые за стенами конюшни, Казя и Яцек не торопились попадаться на глаза своему отцу. Граф, громко сетуя на всеобщее нерадение и нерасторопность, пришпорил вороную лошадь и галопом выехал со двора, сопровождаемый на почтительном расстоянии управляющим Визинским, чье лицо было еще длиннее обычного.
– Бедняга, не хотела бы я быть на его месте, – с чувством сказала Казя.
Граф и управляющий миновали ворота и въехали на деревянный мост, перекинутый через глубокую канаву, когда-то бывшую крепостным рвом. Они скрылись из виду, а вскоре затих глухой стук копыт, поглощаемый мягкой и влажной весенней землей.









































