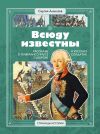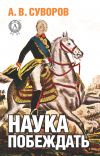Текст книги "Александр Суворов"

Автор книги: Сергей Григорьев
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Ах так! – воскликнула Елизавета Петровна. – Мы сейчас это испытаем, – продолжала она по-французски. – Алексей Петрович, дай рубль взаймы. У меня только червонцы.
Бестужев поднял юбку, достал из кошелька рубль и, сделав глубокий поклон, подал монету Елизавете.
– Ты мне понравилась, милочка, – сказала Суворову царица, – возьми рубль…
– Нет, ваше величество, устав караульной службы запрещает часовым на посту брать подарки, тем более деньги.
– Но я тебе приказываю!
– Тебе, дурак, царица дарит, бери! – прибавил Лесток, хлопнув Суворова по плечу.
Александр вспыхнул, отступил на шаг и крикнул по-французски:
– Если вы, сударь, еще раз коснетесь меня рукой, я вызову караул. Часовой – лицо неприкосновенное!..
– Ого! – в изумлении воскликнул Лесток, опустив руку. – Каков маленький капрал!
– Молодец! – похвалил Бестужев.
Елизавета Петровна кинула серебряный рубль на песок, к ногам Суворова, и сказала:
– Возьми, когда снимешься с караула… Видишь, граф, и в России есть непокупные.
Глава пятая
Соблазн
Стать литератором – эта мечта многих юных не миновала Суворова. «Разговор Герострата с Александром Великим в царстве теней» – так называлась его первая попытка влиять на людей не прямым примером своей собственной жизни, а рассказом о жизни других.
Александр раскрывал тетрадь и читал написанное им самим, как нечто новое, незнакомое, чужое.
«А в которую ночь Олимпиада родила Александра, и в ту пору сгорело преславное капище Эфесской Артемиды, зажженное от некоего бездельника Герострата[70]70
Герострат, житель г. Эфеса (Малая Азия), сжег в 356 г. до н. э. в своем городе храм Артемиды Эфесской, который считался одним из семи чудес света, для того чтобы обессмертить свое имя.
[Закрыть], который, будучи пойман, в розыске сказал, что он учинил то не для иного чего, токмо чтоб каким-нибудь делом прославиться. Тогдашние эфесские волхвы столь срамное подеяние вменили в предзнаменование большого разорения и весь город жалостным воплем наполнили: зажглась-де где-нибудь свеча, которая со временем для такой же причины (ради славы напрасной) пламенем своим весь Восток выжжет…Герострата казнили. Умер и Александр Македонский. Встретясь с ним в царстве теней, Герострат так приветствовал героя:
– Здравствуй, подражатель славы моей!
Александр. Какое между нами сравнение? Я – победитель вселенной. А ты человек презренный.
Герострат. Не будь горд, Александр. Царствование твое миновалось, и от всего твоего величества на свете только пустой звук остался, власть твоя прешла. Здесь все в одном положении, и нет никакого разделения между царем и невольником. Там ты страшен был, где тебе множество народа повиновалось и жертвовало страстям твоим, а здесь лишен ты скипетра, лишен окружающих тебя льстецов, лишен боящихся тебя, и больше гнев твой никому не вреден.
Александр. О боги! Герострат унижает Александра!
Герострат. Я не знаю, для чего ты меня унижаешь. Та ж причина понудила меня разорить Эфесский храм, которая понудила тебя опустошить всю вселенную. Оба мы основанием дел наших имели тщеславие, и оба мы живем в истории: ты – разорителем вселенной, а я – разорителем Эфесского храма.
Александр. Я искоренил гордость царей персидских и привел Грецию в безопасность!
Герострат. Ты искоренил гордость царей персидских, а на место оное свою восстановил. Освободив ее от чаемой напасти, ввел и в действительную напасть, которую она, тобой обманута, своею купила кровью.
Александр. Победители никогда игоносцами не называются.
Герострат. Но часто бывают. А я хотел показать, что великолепие света вдруг в ничто обращается и что все на свете суета.
Александр. Мне свет и поныне удивляется.
Герострат. Но моему великому предприятию еще больше удивляются. Слава моя ненавистью моих неприятелей не остановлена, даром что я не имел Курция.
Александр. Я не Курцием прославлен. Вся вселенная гремит о делах моих.
Герострат. И о сожжении Эфесского храма вся вселенная вспоминает…»
Но однажды Александр сжег написанное на огне свечи.
От бумаги остался лишь пепел. Глядя на него, Суворов в задумчивости сказал:
– Великой славе подобает и цель великая…
Прошло больше десяти дней, проведенных Александром за чтением книг и в размышлениях. Затем к Суворову явился Сергей Юсупов и рассказал, что графа Лестока арестовали и заточили в крепостной каземат. Лесток отказался принимать пищу и ничего не говорил при допросах. Его бывший адъютант – Шапюзо показал, что Лесток получал деньги из Пруссии и Франции и был близок с прусским и шведским посланниками. Председателем Следственной комиссии был назначен Апраксин. Комиссия решила допросить Лестока с «пристрастием». На первой пытке он ни в чем не признался и под кнутом страшно ругал Бестужева.
Дом Лестока Елизавета подарила Апраксину – со всей утварью, обстановкой и серебром.
Александр решил поселиться в ротной светлице, где ему приходилось иногда ночевать и раньше, будучи дежурным. О своем решении Суворов сказал командиру роты и Соковнину. Ни тот ни другой не удивились, только Соковнин заметил:
– Не было бы это тебе, Суворов, через силу.
Он только подлил масла в огонь, паливший Александра. Поселясь в роте, Суворов отказался от услуг своих хлопцев и оставил Шермака под их присмотром у дяди в Преображенском полку. Он решил твердо стать «на свои ноги». Денег, полученных от отца, у него оставалось немного. Он их послал на сохранение дяде и, получив за четыре месяца солдатское жалованье, увидел, что может расходовать на себя не более трех копеек в день. По табели 1720 года ему выдали медью два рубля восемьдесят пять копеек. Хоть и трудно, но надо было отказаться от чая с рафинадом, к чему он пристрастился с детства в отцовском доме.
Солдатский квас – его давали вволю – заменил Суворову чай. Бессменные кислые щи и каша, черный хлеб не являлись для Александра чем-то невероятным – он и раньше столовался иногда у ротного котла, – но теперь ничего другого не было. От тяжелой солдатской еды у Суворова начались желудочные боли, против которых ничего нельзя было придумать, кроме добровольного поста.
… Настала зима. Елизавета Петровна недолюбливала невскую столицу и особенно не жаловала хмурую и слякотную петербургскую зиму. Как обычно, она и в эту зиму объявила «шествие» в Москву всем своим Двором. Семеновцев отправили туда же, чтобы нести дворцовые караулы. Видя, что Суворову трудно, Соковнин приказал зачислить его в московскую команду.
– Соскучился, поди? Отдохни в родительском доме… Или ты не рад?
Суворов поблагодарил, но ничем не выразил радости. Он не мог, подобно другим, ехать в Москву на почтовых. Быть может, Василий Иванович и не отказал бы сыну в этом расходе, но Александру не хотелось ни о чем просить отца. Он решил идти в Москву вместе с батальоном походным порядком.
Первый поход
Знатные морозы сковали землю и реки. Вьюги заносили малоезженый тракт. Путь батальона лежал большей частью летником, лесами, а кое-где, для сокращения пути, – зимником, по ледяной глади озер и рек.
Солдаты шли без выкладки: амуниция и ружья ушли вперед особым обозом. Но все же вначале батальон сохранял вид войска. Через заставу семеновцы шли строем по четыре в ряд, под барабаны и флейты, ротные командиры ехали перед ротами на конях, сержанты, капралы и унтер-офицеры находились на своих местах, фурьеры[71]71
Фурьеры – младшие командиры-квартирьеры.
[Закрыть] несли пики с пестрыми флажками.
После первой же дневки батальон преобразился. Батальонный, пропустив солдат, вернулся с адъютантом в карете обратно, ротные командиры, все обер– и унтер-офицеры сели в ямские возки и поскакали вперед на тройках с колокольцами. Вслед за тем солдаты достали из саней извозчичьей роты кто валенки, кто душегрейку, кто башлык, кто овчинный полушубок, кто суконные рукавицы, кто варежки. У многих на головах появились вместо треугольных шляп бараньи шапки, у кого не было шапок, те обвязались поверх шляп бабьими платками.
Извозчичья рота ушла с дневки вперед, а за ней двинулся кое-как, вразброд, батальон; роты, взводы и отделения скоро перепутались. Суворов, нахлобучив шляпу, засунул руки в узкие рукава плаща, пошел вначале быстро, чтобы согреть ноги, обутые в сапоги, и оказался далеко впереди батальона. Привыкнув с детства ездить на коне, он никогда не ходил много и не знал, что значит сыпучий снег на плохо укатанной дороге. Ноги согрелись, но в левом сапоге сбилась портянка. Следовало, хоть и в мороз, переобуться. Дорога пошла лесом. Суворов огляделся. Обоз, шедший впереди батальона, скрылся, оставив на снегу глубокие следы и конский помет. И батальона за поворотом дороги не было видно. Суворов сел на пенек, чтобы переобуться. Сапог заскоруз на морозе и не поддавался.
– Что, уж с копыльев сбились? – услышал Суворов над собой насмешливый вопрос.
Подняв голову, он увидел незнакомого семеновского солдата с седыми усами. Глаза его дружелюбно искрились из-под насупленных бровей.
– Помоги, братец! Не могу сапог стянуть.
– Извольте. Держитесь крепче за пенек… Хоп!
Солдат сдернул сапог с ноги Суворова. Пока Александр перекручивал портянки, солдат мял сапог голыми руками и дышал в голенище, приговаривая:
– А я-то гляжу – отважно шагаете: как бы одного в лесу волк не съел. Чего же пошли с нами – и отбились. В народе теплее. Держите-ка сапожок. – Солдат подышал еще в голенище и подал сапог Суворову.
Обувшись, Александр сказал:
– Спасибо! Как тебя звать, какой роты?
– Звать меня, господин капрал, Сидоров, роты тринадцатой. Глядите, ушли мы от товарищей, а они нас настигли. Братцы, давайте нам с господином капралом теплое место!
Солдаты на ходу расступились, и Сидоров с Суворовым очутились в середине. Батальон шел широкой просекой в облаке морозного пара от дыхания и табачного дыма носогреек[72]72
Носогрейка – короткая курительная трубка.
[Закрыть]. Шли, тесно сплотясь. В тесноте можно идти только в ногу.
Само собой вышло так, что сильные очутились впереди и утаптывали снег следующим за ними. Кто плохо одет да послабее, оказался в середине, охваченный стеной тепло одетых товарищей, а позади батальон прикрывался от ветра самыми богатыми солдатами. Они шли лениво в тяжелых тулупах.
Суворову сразу сделалось теплей. Близился вечер. Мороз креп. Солдаты подогревали себя перебранкой. Слабые бранили сильных за то, что те скоро идут, сильные слабых – за то, что не дают идти быстрее. Солдаты в казенных плащах бранили тех, кто был одет в меха, «господами», а те, в свой черед, обзывали их «пропойцами». Доставалось и унтер-офицерам, ускакавшим вперед на почтовых, и фурьерам (они всегда с извозчиками первые в тепле), и командирам, и Апраксину.
Шаг разладился, дружное шествие распалось, батальон опять начал растягиваться по дороге. Ледяной ветер снова забрался под полы суворовского плаща и выжимал из глаз Александра колючие слезы.
Сидоров молча шел рядом с Суворовым, не выпуская из стиснутых зубов давно погасшую трубку.
Тринадцатую по счету роту полка по совести надо бы звать первой. Она состояла из старых солдат, хранивших воинские традиции участников петровских баталий, – они-то и являлись хранителями славных преданий полка. Поглядывая на Сидорова искоса, стремясь с ним равняться шагом, Суворов гадал, сколько же тому лет. Не менее пятидесяти, наверное, а он крепок, статен и вынослив.

Батальон шел широкой просекой в облаке морозного пара от дыхания…
Батальон растянулся. В сумерки откуда-то пахнуло соломенным дымом. Лес оборвался. На холме открылась небольшая деревенька. Около нее в дыму костров с навешенными над огнем котлами копошился народ. Виднелись сани с поднятыми оглоблями, распряженные кони извозчичьей роты.
Солдаты с криком и свистом побежали к деревне. Из волоков изб тянул дым: фурьеры позаботились о тепле для товарищей. У дверей болтались цветные флажки, показывая, кому где отведен ночлег.
Но никто не смотрел на них. Солдаты врывались в распахнутые двери изб и тотчас наполняли их. Деревенька не могла вместить и половину батальона. Когда Суворов с Сидоровым подошли к первой избе, в нее нельзя было уже втиснуться; то же и во второй, и в третьей, и во всех остальных.
Сидоров с суровой усмешкой сказал:
– Попробуйте, господин капрал, распорядитесь. Здесь вы один начальник.
Он отошел к костру, набил трубку и закурил от уголька.
Между тем к избам подтянулся хвост батальона. Среди отставших были обмороженные. Солдаты теснились к кострам. Суворов увидел солдата в форменном плаще, с головой, обмотанной посконной[73]73
Посконный– из домотканого холста.
[Закрыть] тряпкой. Его поддерживали двое товарищей: у него одеревенели ноги. Тусклый взор солдата встретился с глазами Суворова, и на его лице появилась улыбка.
– Да ведь это господин капрал!
Александр узнал солдата своего отделения, Петрова, весельчака и плясуна.
Суворов рассмеялся:
– А ты, Петров, сплясал бы, а то без ног будешь!
– Ох, ноженьки мои резвые пропали! – повисая на руках товарищей, заголосил Петров.
Внезапная мысль блеснула в голове Суворова, и сразу пришло озорное решение:
– Не унывай, Петров! Еще спляшешь, и я с тобой!
Суворов кинулся к саням и выхватил из-под морды коня охапку сена. Приказав двум товарищам стать у стены избы, Суворов взгромоздился на спины солдат и плотно закрыл сеном волок избы. Изнутри послышались крики: изба сразу наполнилась дымом. Из избы посыпался народ.
Петров закричал:
– Выкуривай из всех изб дармоедов!
Предложение понравилось. Со смехом, забыв усталость, слабые принялись выкуривать сильных изо всех изб.
– Семеновцы, стой! Срам какой! Дорвались до тепла, товарищей забыли! Идите к каптёру[74]74
Каптёр (каптенармус) – заведующий ротным имуществом солдат.
[Закрыть], берите топоры – дрова рубить! Скорей согреетесь! – распорядился Сидоров.
– А там и каша! – прибавил Суворов.
Солдаты выбрали у каптенармуса инструмент.
В лесу весело застучали топоры. В избах из открытых волоковых окон снова потянулся дым. Слабые наполнили избы кашлем, чиханьем и стонами. Суворов приказал растирать обмороженные руки и ноги. С Петрова скинули сапоги и посадили на скамью ногами в ушат с ледяной водой.
– Чуешь ноги? Шевельни-ка пальцами! – сказал Суворов.
– Эх, век вас не забуду! Спляшем еще, господин капрал! – Петров, притопывая ногами в ушате, весело запел:
Гренадеры-молодцы,
Други-братья-удальцы!
Запоем мы трыцко-хватско
Про житье-бытье солдатско!
Ой, мамынька! Пропали мои ноженьки – не шевелятся!..
К ночи на гумнах деревни с подветренной стороны пылало множество костров. От огня оплывал и оседал снег. Поспели каши, заправленные салом и щедро сдобренные стручковым красным перцем. Солдаты наелись и повеселели. Послышались песни. Уже никто не хотел оставаться в дымных избах – все выбрались на волю, к огням. Между кострами шныряли в полушубках, подметая полами снег, мальчишки и девчонки. Суворова звали от одного огня к другому: «Подите, господин капрал, и у нас погрейтесь!» Внезапно перед Суворовым предстал Петров, веселый, в чьих-то стоптанных валенках и хмельной, – видно, в деревне сыскалось и вино.
– Вот он, наш капрал! Ура! Спляшем! Знаете «Слушай, радость!»?
– Как же не знать, знаю. В деревне рос!
– Ребята, становись кругом!
«Слушай, радость!»
Образовался широкий круг. Посредине, между жарко пылавшими двумя кострами, оставались только Суворов и Петров.
– Девкой будете или кавалером? – спросил его Петров.
Суворов, не отвечая, приосанился и, сняв шляпу, церемонно поклонился Петрову, потом неожиданно запел басом:
Слушай, радость, одно слово!
Где ты, светик мой, живешь?
Там ли, где светелка нова?
Скажи, как ты, мой свет, слывешь?
Как и батюшку зовут,
Расскажи все, не забудь.
Что спешишь теперь домой?
Ах, послушай! Ах, постой, постой!
Петров по-бабьи метнул глазами на Суворова, потупился, повернулся к нему спиной и ответил тоненьким притворным голоском:
Полно, полно, балагур!
Мне пора идти домой,
Загонять гусей и кур,
Чтоб не быть битой самой.
Тебе смехи ведь одни,
Не подставишь ты спины.
Поди, поди, не шути!
Добра ночь тебе! Прости, прости!
Суворов приложил шляпу к сердцу.
Ты не думай, дорогая,
Чтобы я с тобой шутил.
Для тебя, моя милая,
Весь я дух мой возмутил.
Что спешишь теперь домой?
Ах, послушай! Ах, постой, постой!
– Уговаривай, уговаривай! – поощряли Суворова из круга.
Но «девка» не сдавалась… Петров сделал уморительную старушечью рожу и, жуя конец посконной тряпки, повязанной на голове, шамкал:
Господин ты мой изрядной,
Как ты можешь говорить со мной,
Девкой неученой,
Я не знаю в свете жить.
Я советую тебе выбрать равную себе.
Поди, поди, не шути! Добра ночь тебе!
Прости, прости!
Петров низко поклонился Суворову, коснувшись пальцами земли. Суворов лихо закрутил воображаемый ус, обошел Петрова кругом вприсядку и возобновил ухаживание:
Ах, свирепа, умилися,
Не предай меня в тоску!
Не хочу слышать про ту,
Про притворну красоту.
Что спешишь теперь домой?
Ах, послушай! Ах, постой, постой!
– Держи ее, держи! – взволнованно кричали из круга одни солдаты.
– Девка, не сдавайся, беги! – советовали другие.
Петров кинулся бежать. Суворов за ним погнался.
Петров хотел с разбегу пробить головой круг и вырваться на волю. Его со смехом отшвырнули. Упав навзничь, он плачущим голосом напевал, дрыгая ногами:
Отпусти меня, пожалуй,
Мне с тобой не сговорить.
Мне делов еще немало:
Щи варить, бычка доить,
Масло пáхтать[75]75
Пахтать – сбивать масло из сливок или сметаны.
[Закрыть], хлебы печь,
Овес шастать[76]76
Шастать – отделять зерно от шелухи.
[Закрыть], братцев сечь…
Поди, поди, не шути!
Добра ночь тебе! Прости, прости!
Вскочив на ноги, Петров напрасно искал спасения, с криком бросаясь во все стороны. Его отталкивали, он валился в снег под ноги Суворову и сбивал его наземь. Наконец Суворов крепко обнял Петрова за плечи, и тот, вспыхивая, пропел последний куплет:
Убирайся, не шути!
Поди, бешеной!
Прости, прости!
Суворов равнодушно отвернулся. Петров жалобно закричал:
– Ванька!
– Здеся! – отозвалось из круга с разных мест.
– Поди сюда!
– Иду! – рявкнуло сто глоток со всех сторон.
Суворов встал в кругу, подбоченясь:
– Выходи, выходи, Ванька!
Все кинулись из круга к нему, сшиблись, валясь друг на друга с криком: «Мала куча!» Поднялась веселая возня. Суворова подняли и начали подбрасывать. Он изнемог и взмолился. Еле живого от встряски, его посадили к самому огню. В костер подбросили сухих дров. Ветер утих. Высокое пламя вздымалось столбами, сизый дым завивался над ними кольцами, рои искр вились в дыму. Казалось, что среди снегов, у темной стены угрюмого леса, чудом вырос и расцвел веселый сад невиданных деревьев с пламенно-желтыми стволами, синей курчавой листвой и багровыми пахучими цветами, а вокруг деревьев летают несметные тучи золотых пчел.
Гомон у огней улегся. К костру подошел Сидоров и почтительно спросил:
– Какие будут приказания, господин капрал?
На лице Сидорова Суворов не уловил и тени насмешки. Он понял, что его приказания будут выполнены, и отдал распоряжение ночевать батальону тремя очередями.
Сидоров кивком одобрил распоряжение капрала и закричал:
– Ефрейторы, ко мне!
Суворов сел к огню и задремал. Наутро Суворов объявил новый порядок похода. Возы переложили, удвоив на груженых санях тяжесть. Много саней освободилось. На них Суворов посадил слабых солдат с инструментом: топорами, заступами, лопатами, погрузили котлы с дневным запасом. Этой части обозов приказано было ехать вперед как можно быстрее до следующего по расписанию ночлега, нарубить там дров, разгрести сугробы, настлать вокруг костров лежбища из еловых лапок. Кашевары обязывались изготовиться так, чтобы батальон пришел к готовым кашам. Веселой рысцой на восходе солнца эта часть обоза покинула первый ночлег батальона. За ним следовал колонной батальон поротно, и наконец двинулся тяжелый обоз.
До Москвы батальону предстояло пройти 700 верст[77]77
Верста – старая русская мера расстояния, равная 1,066 км.
[Закрыть]. Порядок похода на пути менялся частично, но, в общем, оставался установленный Суворовым для второго перехода. Суворова слушались. Несогласных убеждали товарищи. В шутку говорили: «Батальонный приказал!» Строптивым грозили: «Ужо он Соковнину доложит!» Смеясь, солдаты удивлялись: «Виданное ли дело? Гвардейским батальоном капрал командует! Хоть бы сержант!» Потом стали шутливо кликать: «Ефрейторы, к поручику!», «Майор зовет!». И кого звали, тот бежал к Суворову.
– Этак придем мы в Москву, – говорил Александру Сидоров, – товарищи вас в гвардии полковника произведут, скажут Апраксину: «Довольно ты, сударь, поцарствовал! У нас свой полковник». От государыни вы о милости такой не скоро услышите…
Батальон пришел в Москву. Распоряжения Суворова во время похода получили одобрение Соковнина. Благодаря самозваному командиру батальон закончил поход до срока. Апраксин, узнав об этом, захотел видеть расторопного капрала. Суворов сказался больным, когда его в очередь назначили к Апраксину ординарцем. Все это было нарушением субординации, но Апраксин не тронул строптивого капрала: он видел в Александре сына генерала Василия Суворова.
Глава шестая
Армия
Карьера Василия Ивановича Суворова возобновилась. Он быстро шел в гору, обновив старые придворные связи и знакомства во время пребывания Елизаветы Петровны в Москве. В 1751 году Василий Иванович занял должность прокурора Сената, а в 1753 году, произведенный в генерал-майоры, получил назначение членом Военной коллегии[78]78
Военная коллегия – высший центральный орган военного управления в России XVIII в. Учреждена Петром I в 1719 г.; преобразована в военное министерство в 1802 г.
[Закрыть]. Могло показаться, что Василий Иванович делает карьеру ради сына или вступил в состязание с ним, задавшись мыслью показать на своем примере, как надо служить. Возвышение отца и впрямь помогло Александру. Сын опального, если не ссыльного мелкопоместного дворянина превратился в сына влиятельного сановника. Василий Иванович с семьей переехал в Санкт-Петербург.
Еще в 1750 году, видя, что Александр изнемогает под добровольно наложенным на себя солдатским ярмом, отец упросил Соковнина взять сына к себе бессменным ординарцем. В 1751 году Александр Суворов достиг возраста гражданского совершеннолетия – двадцати одного года, и его произвели в чин сержанта – последний высший солдатский чин. А в 1752 году отец выхлопотал сержанту Суворову почетную командировку за границу – курьером с депешами в Дрезден и Вену. Многие из недорослей в гвардии мечтали об этом. Выбор пал на Суворова, потому что он знал лучше многих немецкий и французский языки.
Несколько месяцев провел Александр Суворов в русских посольствах при саксонском и австрийском Дворах. Здесь все говорили, что в скором времени предстоит большая война: прусский король Фридрих II строил завоевательные планы, накапливал средства и силы и собирался нанести главный удар России.
Возвратясь в Петербург, Суворов убедился, что Россия не даст застать себя врасплох. Василию Ивановичу Суворову Военная коллегия поручила изыскивать денежные средства для снабжения армии, так как государственная казна, разоренная взбалмошной императрицей, пустовала. Монету приходилось чеканить из пушечного металла и медью платить жалованье не только солдатам, но и офицерам.
А между тем в меди и бронзе остро нуждалась артиллерия. Подавляющая сила орудийного огня оценивалась после Полтавской победы Петра I его учениками очень высоко. Из них оставались в живых и находились у дел Абрам Петрович Ганнибал, его друг Василий Васильевич Фермор, тоже бомбардир Петра, да Василий Иванович Суворов. Ганнибал и Фермор ведали пушечным делом и готовили сюрприз прусскому королю: налаживалось производство новых гаубиц для навесного прицельного огня в десять калибров.
В доме Ганнибала Александр Суворов познакомился с Фермором.
– У Василия Васильевича ум чистый, без узлов, – рекомендовал Фермора сыну Суворов.
При домашних встречах у «стариков» часто возникали споры о том, что всего важнее на войне. Александр осмеливался, если его спрашивали, высказывать довольно резкие суждения. Ганнибал требовал от Военной коллегии как можно больше пороха, пушек, картечи, гранат. Василий Иванович считал, что не менее нужны холст, кожа, соль, мука, крупа. А главное – в чем был прав прусский король – для войны нужны три вещи: «деньги, деньги и деньги». Фермор прибавлял:
– И еще люди и человек нужен… Как ты думаешь? – неизменно обращался Фермор к Александру.
Александр отвечал, что он скорей согласен с Фермором, чем с отцом и Ганнибалом. Конечно, солдат должен быть сыт, здоров, удобно и хорошо одет, снабжен всей амуницией и превосходным оружием, но главное – надо солдата воспитать и обучить. Не только полевые войска, но и гвардия плохо обучена, забыла уроки петровских побед. Теперь это не солдаты, а мужики в солдатских мундирах: «сто голов одной шапкой накрыто». А командиры – те же помещики. Молодые солдаты видят в командире прежде всего барина, а не боевого товарища. И командир почитает солдата мужиком, своим крепостным, слугой своим, а не слугой Отечества.
Василий Иванович поёживался, выслушивая смелые суждения сына.
– Вот выпустят тебя в полк, там увидишь, насколько дело трудно. Руками беды не разведешь.
Ни в тех ни в сех
С декабря 1752 года первый батальон Семеновского полка пребывал в Москве, куда снова перебралась со своим Двором Елизавета Петровна.
25 апреля 1756 года при очередном выпуске сержантов из гвардии в полевые войска в числе прочих был произведен в поручики Александр Суворов.
Василий Иванович, узнав о приказе заранее, сиял, словно его самого, а не сына произвели в первый офицерский чин. Ганнибал подарил Александру свой боевой палаш[79]79
Палаш– рубяще-колющее холодное оружие с прямым и длинным клинком.
[Закрыть].
– Ты как будто не рад! Скажи же, чем ты недоволен? – спрашивал отец сына.
– Нет, батюшка, – улыбаясь отцу, ответил Александр, – мне должно радоваться уже потому, что радуетесь вы.
Почтительный ответ сына не успокоил Василия Ивановича. Он продолжал допытываться:
– Ты завидуешь Илье Ергольскому, что и тебя не выпустили капитаном? Так ведь Ергольский Илья – артиллерист, а в них у нас настала нужда. Артиллерия важна, она со временем станет еще важней. Недаром Петр Алексеевич и сам себя именовал бомбардиром, да и тех, кого любил, ставил к пушкам.
– А все же полем будут владеть всегда пешие войска… – возразил Александр.
– Или ты завидуешь, что твой старый друг Сергей Юсупов, минуя чин сержанта, прыгнул из фурьеров в подпоручики? Запомни: кто прыгает смолоду, к старости будет бродить курицей…
– Юсупов-то, батюшка, не допрыгнул: он подпоручик, а я поручик.
– Вот то-то! Чего же нам с тобой грустить!
Василий Иванович широко развел руками, словно собираясь кого-то заключить в объятия, но вдруг руки его упали, и Александр увидел, что на лицо отца набежало темное облачко печали. Александр понял, что отец вспомнил свою Авдотью Федосеевну.
– Мы, батюшка, с вами радуемся, а матушка и нынче горевала бы…
– Ан нет! Дал маху. И она – ну пролила бы слезы: бабы и от радости плачут…
– Чему же ей радоваться?
– А хотя бы тому, что ты так легко прошел солдатство. Шутка сказать, чуть ли не двенадцать лет!.. Что ты не сдюжишь – вот чего она страшилась да и тебя пугала. А нынче дивилась бы, на тебя глядя: «Да посмотрите на него, люди добрые, что за красавец из него вышел! Да ты, сынок, сам на себя в зеркало взгляни!»
Александр взглянул на отца и потупился. Нет, лицо отца не могло быть верным зеркалом того, что совершалось в глубине души сына. В холодном стеклянно-серебристом блеске этого «зеркала» недостает чего-то, какого-то огня. А вот если бы перед Александром в эти торжественные дни появилось сияющее радостью и восторгом и в то же время дышащее тревогой лицо матери, молодой офицер почел бы, что это «зеркало» вернее отражает его.
Каждый, кто надевает офицерский мундир со знаками, отличающими его от солдата, на всю жизнь запоминает мальчишескую радость этих дней. Хочется и можно бы «дать козла», но новое высокое звание и мундир офицера это запрещают. И вот они стоят по двое, по трое в кремлевском саду, картинно опираясь на саблю или держа руку на эфесе палаша, и гордо, с каким-то вызовом поглядывают кругом. Каждый не прочь благосклонно ответить отдавшему честь солдату. А то можно и остановить его, легонько распечь за расстегнутый мундир, пригрозить кордегардией[80]80
Кордегардия – помещение для содержания военнослужащих под арестом.
[Закрыть] и милостиво отпустить. Или, со своей стороны, оказать должные знаки субординации встречному генералу. А в ответ на быстрый любопытный девичий взгляд приосаниться и звякнуть шпорами, у кого они есть.
Прочно сложившийся обычай позволял накануне производства тем, кто был в этот вечер «ни в тех ни в сех», и пошалить и кутнуть. В тех кабачках, где обычно можно было застать только кутящих офицеров, в этот вечер толпились одни сержанты – те, кто завтра станет офицером.
К шалостям завтрашних офицеров в вечер и ночь перед производством начальство относилось снисходительно. И в самом деле, если сегодня отправят под арест сержанта, то завтра все равно придется сложить наказание или заменить взыскание более тяжелым офицеру. Но надо заметить, что шалости эти редко превращались в буйство: захмелевших удерживали товарищи. Что за беда, если сержанты (завтрашние офицеры), подметив, что кучер кареты у дворца вельможи задремал, подмигнут часовым у дверей и выдернут чеку из задней оси. Вельможа выйдет и важно усядется в карету. Выездные гусары вскочат на запятки: «Пошел!» Ну и… кони рванут с места, колесо скатится с оси, гусары повалятся в грязь, карета накренится, и разгневанный вельможа увидит, что окружен веселыми семеновцами. Откуда взялись? А подоспели кстати! С возгласами сочувствия и сожаления сержанты помогают вельможе выйти из кареты. Он еще не успеет опомниться, а уже один катит колесо, потерянное позади, другой несет чеку, хвастаясь, что нашел ее в грязи. Тяжелая карета дружными усилиями сержантов поставлена, колесо надето на ось. Вельможа в карете. Ему остается одно: благодарить, что семеновцы выручили его из беды.
По обычаю, полагалось целиком прокутить последнее сержантское жалованье за треть года. Всё оно, примерно три рубля на брата, пошло в общий котел. Пирушка вышла по необходимости скромной.
При погашенных свечах сварили жжёнку[81]81
Жжёнка (или крамбамбули) – глинтвейн, который состоял из шампанского, рома, белого вина и фруктов. Непременный атрибут гусарского пира.
[Закрыть] в большой чаше. На ней на двух скрещенных шпагах истаяла в синем пламени спирта глыба сахара, роняя в жгучую влагу капли леденца. Пели песни о славе, доблести, счастье, любви. Клялись в вечной дружбе, обнимались и целовались и опять клялись в том, что вечно не забудут друг друга, а кто «выскочит», будет «тянуть» отставших однополчан.
Шумной ватагой высыпали семеновцы из кабачка на площадь и предались озорным забавам.
Звон московский
К рассвету семеновцы приустали; выдумка истощилась. Буйная ватага редела, и на рассвете майской ночи на мосту, что вел из Замоскворечья к храму Василия Блаженного, оказались трое: Суворов и два князя Волконских – Николай[82]82
Дед декабриста С. Г. Волконского (1788–1865).
[Закрыть] и Алексей, записанные в полк в один день с Суворовым; они, как сверстники, держались вместе всю ночь.
На крутом горбу моста остановились. Кремль перед ними сиял золотыми шапками соборов, а на высокой главе Ивана Великого уже блистало солнце.
Все трое устали, но озорная лихорадка еще трясла обоих Волконских. Алексей внезапно для брата и Суворова швырнул в реку солдатскую шляпу и стал расстегивать куртку…
– Что ты делаешь? – испуганно спросил Николай.
– Хочу всё бросить в Лету – реку забвения…
– Зачем? – спросил Александр.
– Затем, что сегодня я уже не сержант!..
– Да, ты офицер! Как же ты явишься среди бела дня в таком безобразном виде?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?