Текст книги "Метафизика взгляда. Этюды о скользящем и проникающем"
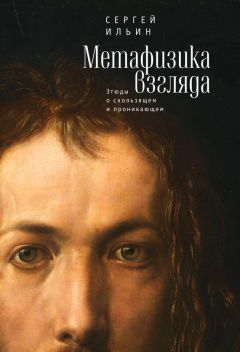
Автор книги: Сергей Ильин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Это мы уже, полярные и ограниченные существа, каждый на свой лад и в меру сил, переводим истину из субстанции отсутствия и оригинала безмолвия в присутствующие измерения и на условный, многозначный, человеческий язык.
А есть еще эльфы и гномы, которые, например, в Исландии живут почти на равных с местным населением и без их согласия не проводятся никакие строительные работы в той местности, где предполагают их местожительство; далее, тибетские буддисты убеждены, что в каждом кубометре комнатного пространства живет миллион невидимых живых существ (не микробного, но астрального свойства); наконец, в Англии, оказывается, имеется в продаже географический Атлас Привидений, где указаны все являющиеся или однажды явившиеся призраки.
Кроме того, для всякого непредвзятого наблюдателя очевидно, что те же самые астральные силы по всей видимости покровительствовали до поры до времени Адольфу Гитлеру: в том смысле, что охраняли его косвенно от многочисленных покушений, коих, согласно современным исследованиям, было несколько десятков: случаем и удачей тут никак не отделаешься, и сам немецкий фюрер был убежден в том, что рука Провидения простерта над ним; правда, у астральных сил – назовем так простоты ради все, что далеко выходит за пределы нашего разумения – были на Гитлера определенные планы: они, очевидно, явно не хотели преждевременного окончания войны, им почему-то очень важно было, чтобы Германия была полностью разгромлена и начала с нуля, что же, план сам по себе весьма глубокомысленный и разве что в жертву ему были принесены миллионы людей, но ведь не нам судить! правильно, а великий и неоспоримый Парамаханса Йогананда объявил Гитлера даже реинкарнацией Александра Македонского: факт, который не каждому известен, – нет, какова все-таки честь для организатора холокоста! вот вам пример действия иерархий Света и Его служителей.
Кстати, как раз в перспективе осмысления участия Небесных Иерархий во Второй Мировой войне в частности и в истории вообще кафковский «Замок», а заодно и «Процесс» приобретают совершенно новый смысл и некое пророческое значение, – эта субтильная ирония над самими небесными иерархиями! причем отнюдь не в переносном смысле! недаром сам Кафка завещал сжечь свои произведения, и недаром по характеру и по состоянию здоровья он был как бы «не от мира сего»: в его странной анатомии и еще более странной судьбе было что-то такое, что смутно намекало на глубочайшее недовольство им и неблаговоление к нему тех Сил, которые мы привыкли считать самыми светлыми, самыми добрыми, самыми ангельскими, – и мне почему-то кажется, что Кафка это отчетливо сознавал: он ведь показал нам, что в поведении, а быть может и самой сущности духовных чинов есть нечто такое, чего по большому счету не должно быть, и европейская история – вообще любая история – на каждом шагу подтверждают эту кафковскую концепцию.
Итак, демоны хорошо смотрятся только на фоне божественности и святости, бесы выигрывают, когда искушают великого человека и особенно праведника или святого: в Евангелиях это центральный драматический сюжет, да и в легенде о Будде его конфронтация с демоном Марой играет великую роль; когда же бесы заняты собой или мелкими людьми, они и сами мельчают, – таков простой закон контраста, одинаково неотъемлемый как для искусства, так и для религии.
В самом деле, где всего страшней, но и величественней нечистая сила? да, в церкви и при церкви, готические соборы недаром украшались химерами, архитектура приобретала от этого дополнительную выразительность, а темные силы радовались, что обрели, наконец, поистине вечное место под солнцем: из-под отеческой опеки божественного их уже никто отныне не посмеет изгнать, и они правы! темные силы сделались поистине тенью света, его изнанкой и оборотной стороной.
Правда, пришлось смириться с сюжетным каноном: они (бесы) навсегда вроде бы побеждены, таков неумолимый финал, – архангел Михаил пригвождает к земле победоносным копьем сатану, и вот мы уже имеем хорошо знакомый Happy End, который не обязательно свойствен художественному шедевру, а как правило даже ему порядочно противоречит, потому что сама жизнь показывает его надуманность. Итак, финал – финалом, но финалу предшествовали зачин и действие, а это значит: во все времена и во всех культурах, исповедующих Бога, мрак и зло восстают против света и добра, снова и снова, – и они должны быть всякий раз заново побеждены, и побеждаются, а это слегка напоминает тысячу раз проигранный на сцене школьный спектакль, – да, беда в том, что Иисуса уже нельзя помыслить помимо бесов и людей, так или иначе бесами одержимыми, а такими по логике христианства становятся все люди, не принимающие Христа; просто хорошими и добрыми людьми христианство не интересуется, между ними как бы нет звучания, музыки там нет.
Стоит только спросить себя: где больше музыки – у кающегося и обращающегося к Христу страшного преступника или обыкновенного человека, который всю жизнь никому не сделал дурного, зато родным и близким, как подобает, давал теплоту и помощь, но и к религии никакого отношения не имел? наш великий и незабвенный Федор Михайлович давно уже ответил на этот каверзный вопрос, – действительно, музыка все решает, и только она одна, в отличие от слов, не обманывает: преступник, мечущийся между церковью и плахой, хорошо смотрится и звучит, тогда как простой и добрый неверующий смертный бьется о мировые религии, как пробка о стекло: никакого звучания там нет; вообще, диссонанс, если он мастерски выражен – как у позднего Моцарта – и есть музыкальный образец полярности, а на полярности стоит наш мир.
В который раз: день и ночь, мужчина и женщина, жизнь и смерть, тело и душа, грех и святость, и так далее и тому подобное, – все это вполне нормально, а если нормально, значит нет и не может быть в одном начале ничего дьявольского, но тогда и в другой противоположности не может быть ничего божественного: таков ощутимо-пронзительный глас Будды из глубины веков, глас, утверждающий, что любая подлинная духовность прямо пропорциональна упразднению какой бы то ни было полярности; есть над чем задуматься, а плюс к тому вот еще какой психологический шедевр буддийского толка бросается здесь в глаза: Будда обращает наше внимание на то, что заниматься одним добром и идти лишь к свету не только предосудительно, но и опасно, потому что кармический маятник, достигнув апогея, начинает падать в другую сторону.
Это следует понимать таким образом: человеку, всю жизнь занимающемуся только добрыми и богоугодными делами, может все это чертовски надоесть и даже наверняка надоест, таков психологический закон, которому он не может сопротивляться, и поневоле, не в этой жизни, так в следующей, обратится он к противоположной деятельности, то есть станет творить зло и полюбит мрак: просто чтобы испытать иное и обратное, – и так вечно: туда-сюда, от добра ко злу, и от зла к добру, чаще же всего имеет место изначальная укорененность добра и зла в человеческой душе, – так что, творя добрые дела, человек вполне может испытывать при этом злые чувства, а делая зло, может ощущать самое искреннее раскаяние, даже не понимая, как он на такое способен и почему вообще делает то, что он делает, – все творчество Достоевского опять-таки посвящено этой теме.
Мы видим, таким образом, как простой нюанс буддийского мировоззрения, которого Мастер и касался-то лишь в том случае, если его об этом спрашивали, стал целым творческим кредо одного из величайших мировых писателей, – вот что значит научиться взвешивать гениев! но что из этого следует? а то, что любое зло, даже самого микроскопического размера, проходя сквозь игольное ушко смерти, мгновенно и неизбежно обретает природу ужасного, – и в мир приходит хоррор.
Разумеется, чтобы выявить ужас в чистом виде, нужна некая его творческая – а значит, мастерская, чтобы не задеть важнейшего принципа правдоподобия! – обработка, точь-в-точь как в соотношении искусства и жизни: поэтому, если спросить себя, присутствуют ли зерна хоррора в житейской действительности, то следует, конечно, ответить утвердительно, речь ведь идет именно о зернах и ни о чем другом, – зерна эти рассыпаны по миру как семена неведомых загадочных миров, отталкивающих и притягательных одновременно, примеры? сколько угодно: те же случаи экзорцизма, явления призраков, иные сновидения, предсказания скорой гибели каким-нибудь ясновидцем, атмосфера древних замков, серия необъяснимых смертей, иные нестандартные и зловещие люди, и так далее и тому подобное.
Обращает на себя в который раз внимание, что все по-настоящему ужасное, во-первых, вращается около феномена смерти, во-вторых, содержит обязательный намек на посмертное существование, и в-третьих, заключает в себе добавку некоторой субтильной зло-вещности, недоброжелательности или по меньшей мере просто отсутствия элементарной доброты и открытости.
Вам могут являться призраки ваших умерших родных, это вполне нормально, но стоит какому-нибудь призраку двусмысленно и зловеще улыбнуться, как хоррор тут как тут, и более того, любое странное и необъяснимое поведение астральных пришельцев, тех, кого вы хорошо знали и любили в жизни, любое отклонение их от ожидаемого нами в них любовного и доброжелательного излучения, – все это мгновенно может настроить нас на атмосферу тончайшего хоррора, да так и происходит во многих классических фильмах ужасов, но как будто, к счастью, не происходит в жизни, – хотя могло бы происходить.
Вот хоррор-жанр и додумывает по сути на свой лад древнейшую мечту человечества: о бессмертии души в более-менее земном облике и переселении ее в мир иной приблизительно в том виде, в каком мы его привыкли встречать в жизни; оттого-то готические соборы всегда будут удивлять нас полчищами химер, со всех сторон выглядывающих, выползающих и вылетающих из каменного фасада; здесь сокрыта гениальная идея: божественный дух, поселившийся внутри собора, поневоле выталкивает злых духов наружу и прочь, ибо существовать вместе они не могут, то есть слишком близко не могут; так в гоголевском «Вие» на исходе третьей ночи нечисть с наступлением рассвета не успела уйти в родные пределы демонического мрака и, наподобие гербарийных бабочек на иголках, в остановившемся движении замерла невиданной и недоступной обычно человеческому взгляду чудовищной коллекцией ада.
Неудивительно поэтому, что в мастерских, обычно располагающихся во дворах великих готических соборов, часто можно наблюдать полуразрушенные скульптуры ангелов и демонов: какой-нибудь анонимный реставратор оставил их рядышком друг против друга, – и вот стоят они, горемыки, в вечном и странном соседстве, и нет уже между ними давным-давно смертельной вражды, но они мирно уставились друг на друга безглазыми ликами.
И кажется, если бы им суждено было вдруг ожить, подобно Буратино под стамеской старого Джузеппе, они перво-наперво подмигнули бы друг другу, а потом, сознавая, что они вынуждены враждовать до скончания века, но победить друг друга не могут по причине изначального положения вещей, тем самым напоминая артистов, играющих смертельных врагов, – они по-деловому принялись бы обсуждать подробности очередной предстоящей сцены.
Так что подобно тому, как океанская глубь всегда спокойна и безмолвна, тогда как на поверхности ее бушуют штормы, этот немой диалог глазами в гримерской вдали от сценических битв, является истинным и глубочайшим прообразом взаимоотношения Добра и Зла, – хотя в жизни, как и полагается, они пребывают в состоянии непримиримой вражды.
Если смотреть на вещи с ангельской внимательностью. – В знаменитом фильме Вима Вендерса «Небо над Берлином» есть эпизод, где ангел, пристально наблюдая за человеком, видит, как тот бросается с крыши дома, – и смотрит ему вслед с выражением во взгляде, которое можно охарактеризовать как внимательность, одна только внимательность и ничего кроме внимательности.
Правда, на секунду взгляд ангела изображает шок, ужас, сострадание и некоторое смущение от невозможности вмешаться, но тут же возвращается к своей основной тональности пристального созерцания: действительно, немецкий режиссер признался, что самым трудным для него было отыскать единственно правильное выражение лица ангела, когда его подопечный совершает самоубийство, бросаясь с высоты на землю.
Вообще, эти два ангела в костюмах и с бюрократическими лицами в первый момент напоминают кафковский «Процесс» и только неизменная, невероятная и поистине неземная внимательность в глазах убеждают нас, зрителей, в их неземной природе: человек так за страданием своих ближних наблюдать не может, если бы он внимательно смотрел, как ближний его бросается с небоскреба, не желая и не стараясь ему помочь, мы бы назвали такого человека садистом и с возмущением от него отвернулись, – ангелу же его сверхчеловеческая внимательность прощается и мы даже не задумываемся о том, в состоянии ли он был помочь тому несчастному самоубийце, да и хотел ли вообще помочь ему.
Странным образом эта чистая и безграничная, то есть по сути метафизическая внимательность, неспособная к какому-либо спасительному деянию скорее всего убеждает нас в ангельской природе обоих странных наблюдателей из фильма, и даже вопреки церковному учению об ангелах-спасителях, потому что уж слишком часто люди, имеющие за плечами по меньшей мере одного ангела-хранителя, благополучно кончают с собой или гибнут от бесчисленного множества случайных причин: спрашивается, а где были в этот момент их ангелы-хранители и что они делали? ответ может быть только один: они наблюдали, – но за чем же они наблюдали и почему не вмешались вовремя?
Они наблюдали, надо полагать, как жизнь конкретного человека, заканчиваясь ужасным страданием – хотя неизвестно, как это страдание переживалось самим страдающим – перетекает в его бытие, и не вмешались они потому, что перетеканием жизни в бытие оправдывается любая жизнь, а более глубокого смысла, нежели упокоиться раз и навсегда в бытии, жизнь не имеет и иметь не может, – таков великий смысл ангельской внимательности: и понять ее вполне, а тем более приобщиться к ней, оставаясь человеком, а значит не переставая до конца сочувствовать и помогать людям, но уже с этой бесконечной внимательностью внутри помощи и сочувствия, точно внутри иглы, очень трудно, если вообще возможно, и здесь Вим Вендерс вплотную соприкасается с Буддой.
Действительно, страдание, вопреки Будде и Шопенгауэру, не формирует нашей общей оценки жизни: только под влиянием определенных обстоятельств и только в продиктованных этими обстоятельствами пределах наше жизненное пространство деформируется до такой степени, что мы остро осознаем разницу между прежними и «нормальными» условиями жизни и новыми и «ненормальными», – переживание этой разницы и есть страдание.
Ребенок выходит на свет чистый, невинный, напитанный субтильной витальной энергией, полный светлых надежд и благих начинаний, а уходит из него стариком высохшим и сморщенным, энергийно высосанным, опустошенным и всегда как будто в чем-то виноватым или по меньшей мере исполненным смутного разочарования и горького удивления насчет того, какую странную штуку с ним сыграла жизнь, и если не учитывать разницу в сознании ребенка и старика, то этот очевидный и повторяющийся от века спектакль дает вполне оправданный повод сказать жизни четкое и бескомпромиссное: «Нет», лучше всех его произнесли Будда и Шопенгауэр, к слову сказать, два человека, жизнь которых, от первого и до последнего дня, не считая нескольких неизбежных шероховатостей, была абсолютно удачной и счастливой.
Так вот, если бы не было в мире бытия, а была одна только жизнь, выводы этих двух уникальных гениев остались бы неоспоримыми, известна крылатая фраза Шопенгауэра: «Постучите в гробы и спросите их обитателей, хотели бы они снова вернуться к жизни, и они вам наотрез покачают головой», – однако это не совсем так, спросите любого старика – самого больного, кого возят в инвалидной коляске и чью слюну подтирают с полу, кому постоянно колют морфий и кого забыли его ближайшие родственники: жалеет ли он о своей жизни? хотел бы он ее сию минуту прекратить? или глубже: желал бы он, если б было возможно, вообще не прожить ту жизнь, которую он прожил? совсем не родиться? и вы увидите, что он не сможет сказать ни «да», ни «нет»: только подчиняясь минутному хорошему самочувствию, он ответит вам: «Да, мне хорошо жить», и только под влиянием сильнейших болей или сгустившейся душевной депрессии он скажет вам: «Нет, я хотел бы тотчас умереть».
Зато в более-менее ясном состоянии ума этот старик, как и почти любой человек, уверяю вас, не будет в состоянии произнести никакого окончательного суждения насчет того, что лучше: жить или не жить? все познается в сравнении: человек, родившийся в бедности и с болезнями, гораздо больше смиряется со своей жизнью, чем тот, кто стал бедным и вдруг заболел, иные заключенные после долгих лет тюрьмы настолько отвыкают от свободной жизни, что предпочитают после отбытия срока жизнь с поблажками, но в пределах тюрьмы, хотя другие приговоренные невзирая на чудовищные наказания и даже риск поплатиться жизнью постоянно совершают попытки к бегству; не испытавший страсти не может понять трагедии Ромео и Джульетты, а напрочь чуждый соблазна власти и славы вряд ли постигнет судьбу Макбета; одни готовы выдержать любые испытания и не откажутся добровольно от жизни, даже будучи привязаны к кислородной подушке и пищеварительному зонду, тогда как для другого дать слово и не сдержать его настолько невыносимо, что он стреляется в висок или делает себе харакири, – короче говоря, почти все в мире для одних может являться источником радости, а другим доставлять страдания и даже вести к смерти, поистине, и радости и страдания жизни относительны, а критерием тех и других являются наш характер и наше самосознание.
Не по теме здесь говорить о страданиях абсолютных, к каковым можно смело отнести пытки или погребение заживо, но, окидывая мысленным взором кое-какие известные нам представления об аде, как то: путешествия туда Данте и Вергилия, короткое посещение Аида Одиссеем, суждения Церкви о преисподней, учение Будды о шести мирах и аде как неблагоприятнейшем из них, остроумное высказывание Ж.-П. Сартра о том, что «ад – это другие», и прочее в том же роде, нам придется сделать вывод, во-первых, о глубочайшей неоднозначности ада, во-вторых, о существовании его в разных и параллельных мирах, и в-третьих, в качестве логического заключения, о его художественной природе.
И как страдание, доведенное до адских пределов, требует для своего самовыражения адекватный жанр, и таким жанром является только хоррор и он один, так страдание обыкновенное и житейское наполняет собой все известные нам «жанры» бытия, и ни в каком из них не имеет права полностью отсутствовать, в самом деле, с легкой руки Достоевского мы не только привыкли к страданию, но и научились видеть в нем некий высший смысл, жизнь без страдания точно суп без соли: он пресен и не аппетитен, мы окружены страданием, как птица воздухом, и чувствуем себя в нем, как рыба в воде, нельзя вымести страдание из жизни, как сор из избы: в нем есть свой великий смысл.
Каждый из нас страдает по-своему и в разной степени, но, положа руку на сердце, все мы в глубине души благодарны судьбе за страдания: они очищают нас так, как не может очистить никакая радость, раз их испытав, мы от них никогда не отречемся и отныне воспринимаем их как самые важные и поучительные события нашей жизни.
Такова человеческая психология: все легкое и безбольное проходит мимо нас как воздух, напротив, боль, трудность, потеря, разочарование оставляют на душе, как и на теле, неизгладимые рубцы, раны да и просто мелкие шероховатости, из которых, как искусным резцом, выпестовывается наша индивидуальная, ни на кого не похожая биография и судьба, – итак, страдание неотделимо от жизни, добровольно, правда, на него никто не согласится, но потом, поневоле испытав его, никогда от него уже не отречется.
Нынешняя эзотерика отыскала даже судьбоносные указания во всех решительно заболеваниях, почти каждый раковый больной благодарен своей страшной болезни: она открыла ему иной и высший смысл жизни, и даже не смысл – саму жизнь он стал чувствовать в отведенные ему последние часы, дни, недели или месяцы так, как никогда не чувствовал, будучи здоровым, он стал видеть жизнь как человек, у которого удалили глазную катаракту, стал слышать ее, точно слух его утончился многократно, стал ощущать ее, как будто сняли с него кожу… да и жертвы аварий переживают «туннель и свет» и больше уже не имеют страха перед смертью, и нет вообще такого трагического события, в котором нельзя было бы при желании обнаружить его великое оправдание.
А ушедший двадцатый век принес человечеству страдания, о которых оно не подозревало, двум его величайшим разновидностям – сталинскому и гитлеровскому террору – поставлены в литературе памятники, читайте «Колымские рассказы» Варлама Шаламова или «У нас в Аушвице» Тадеуша Боровского: там люди настолько привязаны к своему лагерному аду, что единственное, чего вы там не найдете, – это серьезного возмущения своим положением (которое так свойственно нам во время чтения), а также стремления уйти из ада любым путем, то есть в первую очередь наложив на себя руки, ибо иного пути, собственно, и не было (что опять-таки посоветовали бы несчастным обитателям ада мы, дотошные читатели).
Что говорить! также и для обитателей старческих домов или безнадежно больных подняться с постели и добраться до туалета – занятие столь же значительное и всепоглощающее, похожее на подвиг, как для Суворова переход через Альпы, и еще неизвестно, так ли уж различен онтологический вес обоих подвигов: везде, таким образом, мы наблюдаем одну и ту же закономерность – чем горше и дольше мы страдаем, тем сильнее свыкаемся с нашими страданиями и тем плотнее с ними срастаемся, так что, перефразируя Кафку, если палкой ударить по нашему существенному страданию, удар придется не только по телу, но и по душе.
И кто знает, быть может для того, чтобы в полном освобождении от страданий увидеть главную цель жизни, нужно было до поры до времени вовсе быть не причастным страданию, чтобы вообще не возникла эта бессмертная и губительная привычка: ценить и любить жизнь благодаря ее существенному страданию, а также уважать и быть благодарным страданию за то, что оно есть эссенция жизни, – это именно и случилось с историческим Буддой: возьмем ли мы легенду о нем или попытаемся извлечь из нее реальную биографию, вывод будет один – юный Будда не узнал никакого страдания, не узнав страдания он, не успел привыкнуть к нему, а не успев привыкнуть к нему, он не постиг его субстанциальных ценностей.
Действительно, Будда в юности никогда не болел, никто не смел обидеть его, у него были прекрасные родители, жена любила его без памяти, он имел все, что нужно для счастливой, безоблачной жизни, конфронтация с двоюродным братом Девадаттой началась позже, – и вдруг это столкновение с болезнью, старостью и смертью, которые он увидел со стороны, и по всей видимости не в результате трех легендарных выездов в сопровождении своего возничего, а просто по мере наблюдения за повседневной жизнью, – и вот они-то его потрясли так, как нас потрясает первый интимный контакт с женщиной, или первое прослушивание моцартовского Реквиема, или первое осознание, что мы тоже когда-нибудь умрем.
Но какой он сделал из этого вывод? любой другой на его месте человек, даже самый мудрый, стал бы додумываться до последних причин и, найдя их, на этом успокоился бы, потому что последние причины залегают всегда в космическом положении дел, а изменить его человеку не дано, Будда же поступил иначе: он не смирился с неизбежным, а попытался неизбежное преодолеть, хотя удался ли ему его подвиг, есть опять-таки вопрос одной только веры.
Поскольку страдания, согласно Будде, принадлежат жизни и от жизни неотделимы, постольку пришлось избавляться от самой жизни, и вот это освобождение от жизни – от любой жизни – оно и есть самое оригинальное в учении Будды, вот Будда уж точно вместе с водой выплеснул из ванны и ребенка, хотя все до него старались сохранить ребенка, то есть жизнь, и выплеснуть из ванны воду, то есть страдания и смерть: Будда показал, что это невозможно, и тем самым настолько всех удивил, как нравственно, так и метафизически, насколько удивили людей, каждый по-разному, Эйнштейн своими научными или Франц Кафка своими литературными открытиями.
Итак, страдание было, есть и будет, но всякий раз, когда оно заканчивается или даже ослабевает – а не ослабевать и не заканчиваться, хотя бы со смертью, оно просто не может – перетекая из болезненного жизненного опыта в опосредованное и сравнительно безболезненное сознание, осмыслясь им, трансформируясь и становясь неотъемлемой частью характера и биографии, – всякий раз в такие судьбоносные часы и минуты выковываются метафизические звенья той бытийственной цепи, которая крепче любых житейских оков привязывает нас к земному существованию, отчего и получается, что почти любой человек, прожив даже самую страшную жизнь и умирая в самых страшных муках, умирает все-таки в последнем изъявлении своей воли не навсегда – чтобы никогда больше не быть причастным жизни – но как бы частным образом: сбрасывая с себя лишь ту оболочку, которая в данный момент исчерпала себя, страдает и не может дальше жить.
И если жизнь человека, как был убежден Монтень, сводится все-таки к стремлению получать удовольствия, то в тех ее фазах, в которых, как кажется, кроме страдания вообще ничего нет, удовольствие – если вообще можно говорить о таковом – должно заключаться единственно в созерцании себя со стороны, в фиксации себя как страдающего существа, в ощущении, что люди и боги смотрят на него и видят, как он мужественно переносит страдания, – и вот эта оправданная гордость, смешанная с состраданием самому себе, смутное сознание, что он – страдающий герой, на которого смотрят зрители, быть может не от мира сего, – да, если и есть в последней степени страдания какое-то удовольствие, то оно может заключаться только в этом странном и остраненном сознании и ни в чем другом.
Согласно опросам девяносто девять процентов самоубийц, уходя из жизни, хотели избавиться не от жизни вообще, а только от своей неудавшейся и невыносимой жизни, то же самое можно сказать о всех людях, умирающих естественной смертью: когда нет уже сил не только встать с постели, но пошевельнуть рукой и дальше – языком и веками, а в последнем пределе нет сил сделать даже последний вздох, тогда, конечно, умирающий приветствует смерть и не желает возвратиться к жизни, оно и понятно: в его состоянии в жизни делать нечего, – но стоит его освободившемуся и мало-мальски отдохнувшему в астрале сознанию припомнить узловые моменты жизни, как например: иные незабываемые впечатления детства, первую влюбленность, очарование природой и искусством, близость домашних животных, семью, друзей, да и просто свой неповторимый путь в жизни, как притяжение жизнью делается опять неотразимым, и вступает в свои права неумолимый закон реинкарнации.
Так что, строго говоря, еще неизвестно, чем человек больше притянут к миру: бытием или жизнью, но поскольку бытие неотделимо от жизни, так что жизнь является всего лишь формой существования бытия, – постольку каждый из нас рождается и живет посреди «океана страданий»: страдания наши нами поминутно сначала прочувствуются, потом принимаются, а затем осознаются как наши же узловые биографические фазы и наши бытийственные точки опоры: мы живем в конечном счете для того, чтобы жизнь трансформировать в бытие, и пусть жизнь полна страданий, но в бытии их нет, точнее, они обретают там художественную природу, потому что любое настоящее, становясь минувшим, попадает в компетенцию памяти, фантазии и особенно врожденного инстинкта идеализации жизни…
Выше было отмечено, что даже раковые больные в подавляющем большинстве своем рано или поздно – но никогда сразу! – признают в своем заболевании смысл, при помощи которого они научаются видеть жизнь с иной стороны и в ином измерении, – мне довелось, однако, наблюдать исключение из этого правила: моя первая жена умерла от рака в пятьдесят три года, ее болезнь была безнадежной, врачи дали ей максимум полгода жизни, но на протяжении всего этого времени не было ни единой минуты, когда бы она хоть на йоту смирилась бы со смертью, приостановив борьбу с нею: больно и страшно было видеть этот вечно затравленный страхом взгляд и тупую, упрямую надежду, шедшую рука об руку со страхом.
Решительно все альтернативные способы лечения были перепробованы и много денег выброшено на ветер, а за два дня до смерти врач-онколог сказал, что эта изнурительная борьба, сократив немного время жизни, придала ей (жизни) определенный смысл: нельзя ведь так вот просто лежать в постели и ждать смерти, нужно либо бороться со смертью, как со смертельным врагом, либо примириться с нею, как с таинственным другом, но бороться легче, чем примиряться: таким путем идет большинство раковых больных в мире.
И вот вдруг совсем недавно я наткнулся в прессе на любопытную статью: некая француженка по имени Валери Милевски (45 лет) изобрела фантастическую профессию – в клинике Луи Пастера в Шартре она вот уже несколько лет записывает биографии безнадежно раковых больных, иные из них насчитывают пару страниц (пациенты умерли после одного-двух собеседований), другие дотягивают до средних книг (их авторы прожили несколько месяцев), иногда пациенты пишут сами, а г-жа Милевски обрабатывает их мемуары, в самых тяжелых случаях она записывает жизненные истории со слов больных.
Люди в последние отведенные им часы пытаются разобраться в свершившейся и практически завершенной жизни, которая лежит перед ними, как на ладони, в большинстве случаев они хотят сообщить что-то очень важное о себе своим детям и внукам: объяснить себя и тем самым оправдать иные свои решения и поступки, они хотят наладить диалог, который будет продолжаться над их могилой, диалог, обращенный как в прошлое, так и в будущее, диалог, уже не подвластный смерти, диалог, в котором, как мошка в янтаре, увековечен его автор.
Но внутри диалога всегда открывается монолог, люди незаметно приходят к себе, начинают лучше понимать себя, задумываться о себе, многие впервые, – говорить о том, что они научились схватывать суть собственного характера, улавливать сопряжение его с обстоятельствами, местом и временем своего рождения, догадываться о глубочайшей закономерности сложившихся в жизни отношений и прочее в том же духе, было бы порядочным преувеличением, но когда отец оставляет своей шестилетней дочери рукопись с посвящением: «Для Марии, роман моей жизни», а дочь понимает, что это написано для нее одной и краснеет от счастья, или когда повар, которого уже месяцы кормят через зонд, рассказывает, как мать в далеком детстве испекла для него шоколадный торт и под влиянием этих воспоминаний берет кекс со стола и начинает его есть, а у присутствовавшей рядом жены прорываются слезы, – да, тогда кажется, что никакого, собственно, преувеличения нет, а есть лишь попытка говорить об одном и том же, но другими словами, и кто знает, быть может это отношение между отцом и дочерью через оставленное слово рано ушедшего отца окажется полноценней и значительней несостоявшегося отношения в привычном и многолетнем контакте? и быть может шоколадный торт из далекого детства так связал умирающего повара с его матерью и женой, как ничто в жизни никогда их троих не связывало?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































