Читать книгу "Метафизика взгляда. Этюды о скользящем и проникающем"
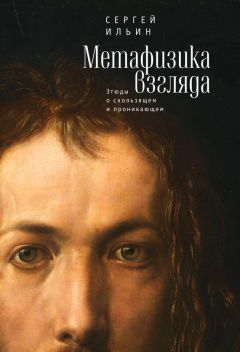
Автор книги: Сергей Ильин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Вопрос ребром. – Не кажется ли вам, что роман как жанр окончательно исчерпал себя – и не потому даже, что в наше время практически не пишутся выдающиеся романы (которые всегда в единственном числе), зато пишутся романы, мягко говоря, не вполне выдающиеся (имя которым легион), а потому, что слишком очевидной стала сама условная природа романа как жанра? и дело тут в том, что правда о любом человеке таится во времени как душа в теле, – так что чем больше временные промежутки, тем существенней в них раскрывается человек, а вот это-то для любого романа все равно что смерть: заряженное умной игрой художественное деяние, в чем бы оно ни заключалось, нуждается в сравнительно коротких промежутках времени (так называемое классическое единство времени, места и действия), – и никогда никакой герой романа не может фигурировать в пределах игрового пространства, разделенного годами, а то и десятилетиями, то есть получается, что самое важное и интересное в художественной литературе всегда происходит в течение довольно ограниченного времени, иначе теряется напряжение повествования, без напряжения нет связующей музыки, а без музыки нет вообще ничего.
Но ведь узнавать, как человек, а заодно и его ближайшее окружение меняются на протяжении десятилетий, есть без преувеличений самый интересный опыт, доступный человеку, однако этот опыт, как уже сказано, с жанром романа несовместим, и потому приходится выбирать: либо живую и неподдельную правду о человеке, либо умную и талантливую (в лучшем случае) выдумку о нем, – так что же нам выбирать?
Как говорится «просто ни к чему». – После долгих и трудных поисков отыскав, наконец, «единое на потребу», невольно начинаешь относиться ко всему прочему как к чему-то такому, «что по большому счету ни к чему», – и просто поразительно, с какой филигранной точностью это странное и несуразное определение «ни к чему» описывает суть проблемы: ведь речь здесь идет ни о чем другом как сознательном отказе от вспаханных поначалу ищущим духом и почти уже вывернутых им наизнанку целых пластов культуры, – боже, какие там отыскались богатства! как они смогли бы обогатить эрудицию! но что такое эрудиция как не ударный кулак культивированного тщеславия? а человек по природе своей ищет все-таки пищи для души, и пища эта в конце концов столь же проста, сколь и изысканна: она состоит всего лишь из хлеба, воды да божественной амброзии, причем у каждого свой хлеб, своя вода и своя амброзия, – и вот вкусив их однажды в том самом, вами одними для себя найденном и для вас одних предназначенном сочетании, вы уже не сможете есть другую духовную пищу, а потому рано или поздно на вопрос какого-нибудь очень доброжелательного и очень культурного человека: «Разве вы не читали такого-то и такого-то автора?», вы просто с улыбкой пожмете плечами, и на его естественный и неизбежный упрек: «Но ведь его нельзя не читать», вы произнесете ту самую золотую формулу: «Да, но мне это ни к чему»: поверьте, это и будет последним и решающим доказательством того, что «единое на потребу» вами, наконец, найдено, и ничего уже больше, к счастью, искать не нужно.
Добрый старый слуга. – Наши основные (то есть врожденные и практически неустранимые никем и ничем) страхи подобны нашим же старым и верным слугам, которые, служа нам верой и правдой, оберегают нас не только от опасностей мира сего, но и от дверей в Неизвестное, а между тем только смело и опрометчиво открыв одну из них, можно войти в новый для себя мир, тогда как другого входа туда, к сожалению, нет, – итак, наши слуги-страхи, будучи к нам приставлены от рождения, зная нас как облупленных, догадываясь своей безошибочной интуицией, что есть все же на этом свете двери, точно созданные для того, чтобы мы через них вошли, тем не менее на всякий случай и по привычке устраивают неприличную потасовку с нами всегда и без исключения, когда судьба сталкивает нас лоб в лоб с подобной дверью: и разыгрывается в тот момент одна и та же, наполовину комическая, наполовину трагическая сцена, когда мы и наш конкретный персональный страх, схватив друг друга за грудки, пыхтя и злобствуя, катаемся молча по полу, но в конце концов, как и полагается, мы берем верх, поднимаемся, перешагиваем через побежденный страх, открываем заветную дверь – там, свет, воздух и новая жизнь! – делаем шаг в только что завоеванное с таким трудом жизненное пространство, глубоко забираем в легкие опьяняющий тонкий эфир, а потом с некоторым виноватым упреком оборачиваемся к нашему незадачливому слуге, как раз поднимающемуся с пола: «Мол, что же ты нас удерживал?», однако тот чертыхаясь и отплевываясь демонстративно смотрит в сторону: догадываемся ли мы, что делает он это, как и подобает образцовому старому слуге, единственно из благородного побуждения – чтобы мы сами не догадались, что он боролся с нами только для вида?
Первый друг детства. – Любая гармония рождается из хаоса, это знали уже древние эллины, но задача состоит в том, чтобы прочувствовать эту великую истину на собственном опыте: я убежден, что наша российская провинциальная жизнь является одним из великолепных образчиков первородного хаоса, – так есть ли там гармония, и если есть, как она возникает?
Кажется, когда я учился в третьем классе, учительница по литературе попросила меня остаться после уроков и наедине сообщила мне, что некий мой одноклассник очень хотел бы со мной дружить, но не решается сделать первый шаг, – так не пошел бы я ему навстречу? тот мальчик плохо учился, отличался уединенным нравом, но был мне скорее симпатичен, чем наоборот, и вот я согласился, и он начал захаживать ко мне домой, мы все что-то строили, кажется, какие-то кораблики, заодно я, конечно, помогал ему в учебе, – но однажды, катаясь вечером на коньках, он нашел какую-то интересную палку, которая неизвестно чем мне приглянулась, и я очень захотел ее иметь, я стал просить моего нового друга уступить мне ее, но, наверное, просьбы мои имели слишком требовательный характер, во всяком случае он наотрез отказался мне ее давать, и я в запальчивости заявил, что он об этом пожалеет, а он в ответ лишь пожал плечами: я покатил от него прочь и весь вечер не подходил к нему, но каково же было мое удивление, когда на следующий день в классе мы даже не взглянули друг на друга, точно он стал невидимым для меня, а я для него, – и так прошла неделя, месяц, год и все последующие годы – пока мы не расстались навсегда: много бы я дал, чтобы понять, что же это за страшная невидимая сила вдруг, воспользовавшись самым пустяковым поводом, встала между нами, сопливыми мальчишками, и не позволила не только объясниться, извиниться, встряхнуться и посмеяться над случившимся казусом, как это потребовал бы от нас любой взрослый, узнай он о происшедшем, но, вызвав в нем по-видимому чудовищную и нечеловеческую гордость, а во мне столь же чудовищный и нечеловеческий тихий гнев, продемонстрировала в который раз, что чувства, из которых лепились и лепятся иные любопытные, пусть извращенные персонажи мировой литературы, не умерли, но продолжают существовать в хаотически-разбросанном состоянии повсюду и всегда, даже в российской провинции конца шестидесятых прошлого века, поводом же или сюжетной завязкой к их появлению послужила просьба нашей учительницы – она руководствовалась при этом наилучшими побуждениями – искусственным путем создать отношение, которое никак не могло бы возникнуть естественным образом.
Вот и получается, что гармонии, рождающейся из хаоса, в точности соответствует происхождение художественного бытия из недр сырой и черновиковой жизни.
Неисповедимые пути самого близкого родства
I. (Оглядываясь назад из будущего). – У какого-нибудь метрополитенового киоска, в субботу: стайка молодых парней и тут же пара девочек, все в облегающих джинсах с прорезями на коленках и свитерах, доходящих до бедер, девочки с прекрасно контролируемым восхищением слушают статного парня в черной мотоциклетной куртке и модных остроносых ботинках на скошенных каблуках, парень о чем-то с интересом рассказывает, и его по-мужски невозмутимое спокойствие никак не затрагивается полувлюбленными девическими взглядами и смехом, – он весь в рассказе.
И вот, проходя мимо него, я как-то очень внимательно посмотрел на него, а он, прервав рассказ, тоже против воли задержался на мне взглядом: он не мог знать, что причиной моего долгого взгляда была странная конфигурация в моем роду, которую, если бы она имела место в семье знаменитого человека, наверняка назвали бы либо трагедией, либо мистерий, либо проклятием.
Дело в том, что где-то к тринадцати моим годам мой отец и я вдруг почувствовали взаимное полное расхождение и, не сказав друг другу ни слова, тихо и мирно разошлись, как расходятся на улице малознакомые люди, столкнувшись и поговорив ради приличия пару минут, – и что интересно: никогда с тех пор ни он во мне внутренне не нуждался, ни я в нем, – так что о комплексе «недостающего отцовства» с моей стороны и речи быть не могло.
И ладно бы одно только это, но история почти полностью повторилась с моим собственным сыном: с той лишь разницей, что мосты в наших отношениях не были никогда до конца сожжены и родственное тепло сохранилось, однако тот факт, что, встречаясь иногда раз в месяц или два – и живя по соседству – мы ощущали такую же душевную комфортность, как будто расстались только вчера, говорит о многом.
О чем же? прежде всего о том, что родственные отношения зиждутся на тех же самых законах, что и супружеские: законах гармонии и тайного соответствия, но супруги могут разойтись, а родственники – нет, хотя мне с моим отцом это удалось, быть может, благодаря моей эмиграции, – однако желаю ли я аналогичного развода с моим сыном? ни в коем случае, хотя очень страдаю от невозможности дальнейшего сближения; больше же всего меня смущает то обстоятельство, что не однажды я встречал в жизни мальчиков и парней, ровесников моего сына, которые тянулись ко мне сильнее, чем мой сын, и инстинктивная симпатия к которым тоже местами осиливала мое отцовское чувство.
Вот в этом состоянии душевной размягченности и раздвоенности, как мне кажется, я и засмотрелся на того парня в мотоциклетной куртке и остроносых ботинках, а он, точно прочитав мои мысли, забыл на время о своем рассказе: впрочем, что я говорю? тогда еще мой сын не родился, ну и что из этого? как будто это что-то могло изменить.
II. (Дилемма). – В самом деле, чтобы до такой степени отец был равнодушен к сыну, а сын к отцу, и оба не только не страдали от взаимного отчуждения, но принимали его как подарок судьбы (в том смысле, что им просто очень хорошо было друг без друга, и совсем не так хорошо, когда они были вынуждены по тем или иным причинам встречаться), так что они даже избегали плохо говорить друг о друге (что неизбежно повело бы к разного рода недоразумениям, в которые под давлением людского окружения пришлось бы волей-неволей вносить ясность, для чего опять-таки им нужно было бы интенсивней заниматься друг другом), а при немногочисленных встречах их разговор начинал изобиловать дипломатическими нюансами (во-первых, потому, что не было практически ни единой темы, на которую у них были бы мало-мальски сходные взгляды, а во-вторых, потому что любой спор мог повести к обострению, которое тоже никому было не нужно), – итак, в подобную конфигурацию самых близких на земле людей я сам никогда бы не поверил, если бы не испытал ее на собственном двойном опыте: себя как сына и себя как отца, и весь вопрос только в том, как же все-таки следует вести себя в такой судьбоносной ситуации, – можно, например, отнестись к ней как к родовому проклятию со всеми вытекающими отсюда мрачными последствиями, но можно увидеть в ней и слишком явную улыбку какого-то неизвестного Устроителя всех наших дел, какое бы имя Ему ни дать, – самое же лучшее, как мне кажется, это верить в равноправное существование обоих моментов, и с молитвенным уважением чтить каждый из них.
III. (Пожизненно прикованные к галерам). – Когда мужчина и женщина пробуют организовать совместную жизнь, и их попытка не удается, в этом обычно не видят ничего удивительного, когда же против всякого ожидания обнаруживается – разумеется, после долгих-предолгих лет совместного принудительного существования – что и самые близкие родственники, такие, скажем, как отец и сын, абсолютно «не подходят друг другу»: в том смысле, что у них совершенно разные интересы, что они прекрасно могут уживаться друг без друга, что ни один из них не является настоящим авторитетом для другого, а тем более примером для подражания, что каждый втайне представляет себе иного «идеального» отца или сына, в чем они даже наедине с собой не готовы признаться, и что, как следствие, между ними не может быть ни откровенной (тайной или явной) вражды как последнего признака глубокой взаимной связи в ее обратном и трагическом варианте, ни полного обоюдного равнодушия как верного признака кармической – а значит и космической – непричастности, – итак, в подобных исключительных случаях мы имеем дело с редчайшим феноменом экзистенциальной игры на высочайшем бытийственном уровне: потому что, действительно, что может быть, с одной стороны, для человека первичней закона кровного родства? но с другой стороны, что может быть игривей его же собственного (закона) опровержения на примере родного отца или сына?
Психологическим эквивалентом вышеописанного феномена является, как правило, глубокое, как Маракотова бездна, и тонкое, как игла, ощущение взаимного и пожизненного недоумения по поводу своего самого близкого родственника: как же такое могло произойти? не сон ли это? и если сон, то как от него проснуться? а если не сон, то как с этим жить дальше?
И какой бы вывод ни был сделан, печать подобного недоумения невозможно ни понять, ни тем более стереть до конца: она будет сопровождать «ознаменованного» человека до скончания дней его, наравне с печатью первородного греха, но если последняя, как утверждают добрые языки, была все-таки вовремя вскрыта и упразднена Спасителем, то вот вторая уже, по-видимому, никем и ничем смыта быть не может.
И единственный выход из этой безысходной ситуации, быть может, состоит в том, чтобы раз и навсегда перестать, наконец, метаться в поисках выхода, а просто сесть и улыбнуться над собой: кто знает, не является ли такая улыбка единственным эликсиром против проклятия собственной закомплексованности? и не тень ли подобной улыбки играет на лице Будды в бесчисленных его скульптурных и живописных изображениях?
Причем, что интересно, никто из современников великого Реформатора эту загадочную улыбку на его лице не примечал, зато все люди искусства не сговариваясь начали ее производить.
Оставив тем самым вопрос навсегда открытым.
IV. (Все дороги ведут в Рим). – Когда я думаю о том, что моя мама не удосужилась ни разу за сорок лет навестить меня в Германии – если не ради сына, то хотя бы ради внука – когда я припоминаю, с какой неохотой она спрашивает по телефону о моей жене или теще (которые, между прочим, прекрасно к ней относятся) и в то же время всякий раз прибавляет: «Ну у тебя-то все хорошо в семье?», желая очевидно услышать в ответ: «Ну как тебе сказать – все бывает…», чтобы опять пригласить меня к себе в Саратов, меня одного… когда она подолгу и с ностальгической старческой зацикленностью рассказывает об одном и том же: о былом и давным-давно распавшемся заветном треугольнике семьи, треугольнике, состоящем из отца, матери и сына, треугольнике, в котором, осмысливая его трезво и задним числом, не было по сути живого места, и когда я все-таки должен сказать, что она меня по-своему очень любила, чему тоже имеется множество подтверждений, (правда, любила – и отправляла меня против воли ежегодно в пионерские лагеря, любила – и все-таки отвела в милицию, когда я с приятелями снял с поезда несколько арбузов, любила – и с таким трудом дала согласие на выезд), – короче говоря, подводя все вышесказанное, как и полагается, к общему знаменателю, как тут не вспомнить о природе духов в буддийской интерпретации (в данном случае духе или ангеле родительской любви)?
Она (интерпретация) утверждает, что, несмотря на безграничные возможности в смысле преодоления времени и пространства, сфера воздействия любых духов принципиально ограниченна, хотя и в разной степени, – отсюда и вытекает, что если у какого-нибудь отдельно взятого духа материнской любви слабые крылья, то он не может воспарить, как бы сам того ни хотел, и любые упреки здесь попросту неуместны: приняв на веру такую космическую конфигурацию, снисходительней начинаешь относиться и к своим ближайшим родственникам, и к людям, и к себе самому.
Если же, напротив, проникнуться ощущением вечной и неизменной природы человеческой души, а также прямо вытекающей отсюда полной ответственностью за каждый жизненный шаг, то тяжесть чувства вины, рождающаяся, например, из слабости любви, подобной вышеописанной, становится физически невыносимой.
И тогда невольно приходится смотреть на себя и на все вокруг себя тем самым предельно выразительным, но и предельно страшным взглядом, каким смотрят на зрителя наши православные иконы.
V. (Последняя схватка). – Как страшно разваливается тело под давлением возраста и болезней! и как трогательно сознание сопротивляется этому неумолимому природному процессу! ведь нет же и не может быть, кажется, в человеке ничего такого, что было бы вполне независимо от клеток, тканей и органов, а это значит, что любое их недомогание тотчас передается душе и духу, что бы под ними ни понимать, – и поэтому когда человек мужественно сопротивляется болезням, старается отогнать от себя раздражение и депрессию, пытается оставаться оптимистичным и доброжелательным к людям и к жизни, мы его уважаем и перед ним преклоняемся.
Нам кажется, что кроме как силой воли и мужеством невозможно противостоять разрушению плоти, и что в этом самом противостоянии заключается вся суть и сила духа, – все это несомненно так и есть на самом деле, но остается все-таки на душе некий едва фиксируемый сознанием оттенок, как бы привкус тончайшего психического дискомфорта, и сие субтильное чувство, если как следует в него вдуматься, коренится в нашей врожденной вере, что между духовным и материальным не просунуть и волоса, а значит, само состояние тела еще прежде и красноречивей воплощает заключенный в нем дух.
Иными словами, здесь имеется в виду древняя истина: «В юности мы имеем лицо, подаренное нам возрастом, а в старости то, которое сами заслужили», то есть насколько благообразно мы состарились, как мало у нас появилось безобразных морщин и до какой степени черты лица сохранили одухотворенное выражение, – вот что самое важное и вот что является первым признаком духовности.
А если этого нет, если тело разрушилось так, что свет духовности едва тлеет в нем, как последний уголек в бесформенной куче дров, и выражается только в отчаянном и жалком крике: «Я, душа, все-таки существую, но не имею ничего общего с этим телом!», – то это, конечно, тоже духовность, но как бы уже второго порядка.
Поэтому когда моя мама, случайно проходя мимо зеркала, задерживается перед ним взглядом и видит там все еще благородные черты лица, видит осанку головы, напоминающую Марлона Брандо – а ведь в юности этого сходства не было и в помине – видит все еще живые и теплые карие глаза под высоким и почти безморщинистом лбом – хотя волос на голове почти не осталось – и все это, несмотря на девяностолетний возраст, несмотря на то, что от болей в суставах она не проспала в последние десять лет ни одной нормальной ночи, несмотря на то, что она шагу не может сделать без крика или стона, – итак, видя все это, она должно быть чувствует мгновенный и малый прилив некоей невольной гордости за несомненное и всеми замечаемое достоинство, которое сохранило ее тело в смертельной борьбе со старостью и болезнями, и которое поддерживает ее и дает силы жить дальше.
Но так ли это на самом деле, я точно не знаю, потому что никогда ее об этом не спрашивал.
VI. – (Во всем есть свой смысл). – Для каждого внутренне созревшего события существует его собственное и как бы для него одного предуготовленное время, как оно существует для всякого плода, так что любое «слишком рано» или «слишком поздно» чревато, как мы знаем по опыту, неизбежными и удручающими последствиями недо– или перезрелости.
И нигде, пожалуй, этот простейший из всех универсальных законов бытия не проявляется с такой очевидной ясностью, как в любви: действительно, одним из основополагающих смыслов жизни человеческой является обретение настоящей любви – об этом едва ли не девяносто девять процентов всех фильмов и романов – но каждый из нас слишком хорошо знает, как это не просто, а для иных людей и практически неосуществимо, и сколько попыток нужно предварительно сделать, прежде чем мы, подобно гетевскому Фаусту, сможем от души сказать: «Остановись, мгновение, ты – прекрасно», чтобы, умножив это счастливое мгновение на предложенные нам житейские ситуации, получить долгую и гармоническую семейную жизнь.
Но как универсальные космические законы перестают действовать в отношении феноменов, стоящих на более высоком бытийственном уровне, или, точнее, их действие усложняется специфическими факторами, характерными для данного уровня, так элементарная закономерность недозрелости или перезрелости плода, в зависимости от времени его срывания, может быть перенесена в сферу человеческой любви только с большими ограничениями.
Это надо понимать так, что никакие предварительные опыты по «женской линии» нельзя признать до конца лишь «неудачными попытками», но в каждом из них таится великий скрытый смысл, хотя и остающийся по воле обстоятельств в тени даже на протяжении всей жизни: смысл этот, в частности, заключается в том, что та женщина, с которой вы были в связи короткое время и браку или многолетнему отношению с которой не «покровительствовали боги», все-таки по-своему любила вас во время этого вашего недолгого совместного «предварительного опыта», все-таки надеялась на вас как на будущего супруга и отца или отчима ее нерожденных или уже рожденных детей, и все-таки примеривалась к вам с точки зрения «вечной любви», а вот последняя и заключительная ваша женщина, с которой вы и создали, наконец, союз, «благословенный на небесах», если бы вы ее встретили раньше и при других обстоятельствах, быть может, даже не взглянула бы на вас, – да так оно и было бы на самом деле!
Говорю по собственному опыту: шанс для меня, русского человека, в семидесятые годы прошлого века выехать за границу – а без этого я не мог уже жить! – не превышал шанс угадать в лото шесть правильных цифр, и то обстоятельство, что судьба смилостивилась надо мной и послала мне девушку, благодаря которой я осуществил мечту моей жизни, но каким путем? путем мефистофельской сделки «любовь за выезд», ибо мы никоим образом не были созданы друг для друга, и все-таки, будучи слабыми людьми, под давлением обстоятельств попытались из формального брака, который только и должен был быть между нами, создать брак настоящий, в который она долгое время верила, я же не верил никогда, – итак, это обстоятельство, несмотря на изначальную приговоренность нашей связи, я оцениваю высоко и в какой-то мере сохраняю пожизненную благодарность первой моей жене за то, что она полюбила меня «на заре нашей юности» и многим для меня пожертвовала, тогда как – и это я знаю точно – вторая моя жена, безукоризненное в любой мелочи и абсолютно счастливое отношение с которой началось четвертью века позже, в первой молодости меня бы никогда не полюбила, а может быть даже и не заметила, – вот что значит: всему свое время! но все-таки не совсем в том плане, в каком мы говорим о времени сбора урожая яблок.
VII. (Amor fati). – Моей любимой падчерице пошел уже тридцать второй год, она только что закончила вечернюю гимназию и давно уже одна, потому что вследствие какой-то причудливой игры природы ей суждено было на всю жизнь остаться в душе ребенком, – и никакие «мальчики», никакая работа и никакое обтачивание годами не в состоянии изменить этого судьбоносного обстоятельства: какой-то внутренний механизм (который иначе как кармическим не назовешь) с неизменностью космического закона руководит всеми ее поступками, определяет основное ее душевное настроение и в конечном счете оформляет ее жизнь, отводя ее все дальше и дальше от основного предназначения взрослой женщины: создавать собственную семью, рожать и воспитывать детей, и подталкивая, наоборот, назад, к прежней и «забуксовавшей» навсегда дочерней роли, – любыми правдами и неправдами до последнего прилепляться к материнской семье, быть и жить там, видя свое главное жизненное предназначение в заботе о матери и ее втором муже, то есть обо мне, ее отчиме – причем подобную заботу, нужно сказать, она способна была бы осуществлять поистине идеальным образом и до скончания дней наших – но жизнь оказалась безжалостна к ее невинной незрелости, и один из законов жизни, состоящий в том, что на Западе дети должны жить самостоятельно и по меньшей мере отдельно от родителей, проехался по ней как колесо телеги по муравью, – и вот совсем недавно, после операции, которая точно по иронии судьбы была совершенно ненужной и как будто только для того и сделана, чтобы на месяц подарить ей искомый и драгоценный статус детскости, – итак, пожив у нас две недели, она опять отправилась в свою однокомнатную квартирку, что на расстоянии двух остановок метро от нашей, чтобы там заниматься непонятно чем, и было невыразимо грустно сопровождать ее туда, хотя и пребывание ее в нашей гостиной тоже отдавало субтильным тягостным чувством: все-таки и прекрасная ее светлая квартирка пустует, и вместе жить нам в одной квартире ни к чему и почти противоестественно, и образ вечной дочки, что никак не хочет становиться самостоятельной взрослой женщиной, точит сердце ее матери и моей жене, – короче говоря, у всех нас в разной степени осталось ощущение одновременного присутствия в душе двух равносильных и до щемящей остроты противоречивых чувств, а это, как в свое время показал Гамлет, больше всего на свете отнимает способность к действию, да и все наши совместные семейные деяния точно по странному совпадению остались в прошлом, – но что я хочу сказать? наверное, это так и должно быть, что люди рано или поздно перестают совершать поступки, которые могут серьезно изменить их жизнь, и либо ничего уже не делают, либо машинально отправляют однообразный обряд жизни: однако если даже тогда, в самый благоприятный момент, на пике трансформации жизни в бытие, не суметь увидеть в них увековеченных, как насекомые в золотой капле янтаря, пусть скромных, но вполне художественных персонажей собственных жизненных биографий, то уже больше и никогда не увидеть – но ведь это ужасно!
VIII. (Все течет, ничего не меняется). – Я не однажды обращал внимание на то, что когда я случайно встречался с моим сыном на улице, причем он первый видел меня, а я его нет, то он – это было видно по характерному застывшему на несколько мгновений размышляющему выражению в глазах – несколько медлил, прежде чем окликнуть меня, моя же падчерица при любых, в том числе и могущих обернуться для нее некоторым конфузом обстоятельствах, обращалась ко мне мгновенно, без какой-либо рефлексии и с самой сердечной улыбкой на лице: из этого я делаю вывод, что в ситуации иной и далеко не безобидной, более того, чреватой опасностью для здоровья и жизни, мой сын еще как следует подумал бы, рискнуть или не рискнуть ради отца и какими это грозит последствиями, тогда как моя падчерица пошла бы ради своего отчима на все, за исключением, пожалуй, готовности сразу и на месте отдать свою жизнь, – но кто же такое может требовать или ждать? еще и поэтому я так склонен верить в буддийски понятую карму: потому что, живи я среди древних римлян с приблизительно тем же характером, что и теперь – а это значит, что я должен был быть богатым и влиятельным человеком в те страшные и славные времена, иначе я просто не мог бы себе позволить иметь тот характер, который я имею – итак, моим полноправным наследником я сделал бы чужую дочь, но никак не родного сына, римские императоры, да и их приближенные так поступали на каждом шагу, – а ведь сколько бунтов, войн и просто заказных убийств произошло на этой почве! и тем не менее все случилось бы именно так, как здесь описано: но тогда ни одна даже самая малая йота безумных страстей человеческих не исчезла из этого мира, я это чувствую по себе! вот только радоваться или печалиться этому обстоятельству, я не знаю.
IX. (Самая большая удача в жизни). – Это, конечно, заполучить идеальную тешу, но что такое идеальная теща? та самая пожилая располневшая женщина, которая знает жизнь как свои пять пальцев и которая доказала это свое великое знание не какой-нибудь сомнительной эрудицией, а тем, что вырастила и воспитала одна двух дочерей, причем таких, что одной вы просто восхищаетесь со стороны, а на другой даже женились, и ни разу не пожалели о своем судьбоносном поступке, далее, на которую вы, быть может, в свое время даже не обратили бы внимание, как и она, впрочем, на вас, и которая, наконец и самое главное, когда собираются вместе она, вы, ее дочь и ваша жена и ее внучка, а ваша падчерица, сидя в центре «семейного портрета в интерьере», то есть будучи одновременно и мамой, и бабушкой и тещей, все-таки непонятным образом гораздо больше напоминает тешу, нежели маму и бабушку.
А доказательством тому является ваш собственный опыт зятя, когда вы с приятным удивлением, еще не веря до конца свои глазам, замечаете, как о ваше взаимное друг о друге уважение, но еще больше об ее несокрушимое добродушие, точнее, почти слепой инстинкт видеть во всем сначала хорошее, а потом уже все остальное, как волны о скалу, разбиваются и ваши расхождения в религии (она принадлежит к старому поколению и потому насквозь православная, а вы как прогрессивный человек склонны к буддистам и йогам), и ваша разность в отношении к людям (она выросла в большой семье, ценит и любит общение, ваша же семья числом была минимальной, да и люди, просто как люди, по большей части действуют вам на нервы – имеете на то полное право!), и еще тысячи других и мелких несоответствий типа вашего упорного нежелания желать за столом «приятного аппетита» (или он есть или его нет), или говорить перед уходом ко сну «спокойной ночи» (в фильме «В джазе только девушки» подобное пожелание означало, что тот человек скоро заснет навечно), или при чихании произносить «будь здоров» (вместо того чтобы строго и неодобрительно посмотреть на чихающего: ведь сколько микробов он выбросил в окружающее пространство!) – короче говоря, вся эта ваша почти юмористическая и вместе довольно твердая демонстрация собственного и сугубо индивидуального стиля жизни при минимальной готовности пойти навстречу «старому человеку» представляет собой некоторое – и сознательное с вашей стороны – испытание для гордого и трогательно-старомодно-авторитетного характера тещи, испытание, которое, нужно сказать, она с честью выдерживает, и которое едва ли не более важно для вас самих: видя ее доброту и покладистость, вы и сами становитесь добрей и покладистей, – а не это ли в конечном счете самое главное в жизни?









































