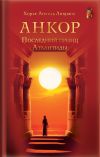Текст книги "Азовский"
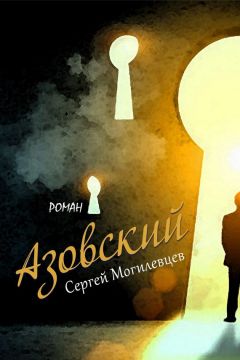
Автор книги: Сергей Могилевцев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Сергей Могилевцев
Азовский
20 декабря 1968 года. Пятница
Мне нравится на уроках изучать своих одноклассников. Прямо руки дрожат от волнения, когда изучаешь какого-нибудь застывшего от страха за свою внешность юнца, или девицу с томным и нежным, как у пушкинских барышень, взглядом. Особенно хорошо изучать во время лабораторных по химии, или во время урока по географии, когда сидят все с открытыми ртами, слушая очередную историю нашего Кеши, а ты, вжавшись в родную парту, с замирающим сердцем исследуешь знакомые и такие чужие затылки, профили и прически. А потом, ловя неожиданно на лету чей-то удивленный испуганный взгляд, невинно так отводишь глаза, словно ничего не случилось. О музыка, о восторг, о непонятное наслаждение этих сладких минут! До того, правда, момента, когда не придет тебе в голову мысль, что кто-то на задних партах, какой-нибудь Изя, или, того хуже, какая-нибудь девица с бледным и томным взором, тоже так ненавязчиво, так лениво тебя изучает. Затылок твой, или, к примеру, форму ушей. Внешность, одним словом. А это, если честно признаться, вопрос для меня довольно болезненный. До такой степени неприятный вопрос, что о внешности своей я предпочитаю не думать. Не думать, не говорить, и даже не смотреть в зеркало. А потому расскажу лучше о чем-нибудь более интересном. О том, например, что произошло сегодня после уроков. Вы не поверите, но вся эта история настолько невероятна, что стоит о ней рассказать подробнее.
После школы я пошел слушать пальмы. Я всегда хожу слушать их в это время. Не тогда, когда, гордые и зеленые, с большими ажурными листьями, они торжественно и радостно смотрят в сторону теплого летнего моря, а сейчас, в декабре, когда на улице минус пятнадцать. Вообще-то такая температура для нашего города непривычна, у нас обычно очень тепло, сказывается близость Черного моря, и иногда даже среди зимы расцветает горный миндаль. Существует такая легенда, что природа в Крыму перепутала листки своего отрывного календаря, они разлетелись у нее, поднятые ветром, пришедшим с вершин крымских гор, и кружат вдоль побережья, сменяя зиму летом, а осень – весною. И сколько ни пытается рассерженная богиня-природа собрать свой рассыпанный календарь, это у нее не выходит. Именно поэтому иногда летом у нас падает град со снегом, а в декабре расцветает горный миндаль.
Зрелище это поразительное до невозможности: среди снега и окоченевших ледяных камней белые гроздья цветов кажутся ненастоящими, выдуманными, вырезанными из бумаги. Вроде тех неживых цветов, что продают иногда по воскресеньям у кладбища. Говорят, что миндаль, расцветший во время зимы, приносит счастье и удачу тому, кто первым увидит его. Не знаю, правда ли это, или красивая сказка. Не знаю также, расцветет ли миндаль этой зимой. Пальмы, во всяком случае, не распустятся ни за что. Может быть, они не оживут даже весной. Они, скорее всего, погибнут, не сумев пережить жестоких морозов.
Я не могу ответить, почему прихожу сюда каждую зиму. Это не объяснишь словами, это можно лишь описать в большом и красивом романе – авторы больших и красивых романов умеют объяснять подобные вещи. Быть может, их могут объяснять некоторые поэты. Не все, а лишь те, которые чувствуют свое одиночество. Которым холодно так же, как пальмам, стоящим в снегу рядом с остывшим морем. Пальмы здесь чужаки. Чужакам всегда холодно и одиноко.
Я погладил рукой шершавый коричневый ствол, снял лыжную шапочку и приложил ухо к холодным щетинистым волоскам. Сначала не было ничего, только яростно выл ветер и волны с ожесточением били в бетонный бордюр набережной. Потом шум ветра немного утих, и я услышал внутри, в глубине, в самом центре шершавой замороженной оболочки какой-то таинственный звук. Какое-то движение, вроде того, что производит струйка скатившейся с крыши воды. Через мгновение звук повторился. Пальма жила, она умерла только внешне, ее прогнувшиеся, почерневшие от снега и холода ажурные листья создавали лишь видимость, лишь иллюзию гибели. Внутри у пальмы неторопливо текли талые весенние соки, она готовилась к весне, заранее зная, что переживет очередную снежную зиму, после которой с неизбежностью наступит весна. На глаза у меня навернулись слезы восторга и радости. Я плакал, не замечая вокруг ничего, не замечая сугробов и покрытых снежными шапками деревьев Приморского парка, не замечая ярости зимнего промерзшего моря и тех редких случайных прохожих, что скользили, ссутулившись, мимо по набережной. Быть может, вглядевшись в меня внимательней, они бы подумали, что я сумасшедший.
Иногда мне кажется, что я действительно сумасшедший. Возникают иногда такие минуты. Неожиданно окружающие тебя предметы, знакомые и привычные до сих пор, кажутся странными, перевернутыми, лишенными всякого смысла. Ты смотришь, к примеру, на кошку, и не понимаешь, зачем здесь все: хвост, лапы, шерсть, зубы, два глаза, кончик черного носа. Вроде бы по отдельности все это и ясно, но вместе не складывается ни в какую картину. Пока не скажут тебе, что этот странный зверь называется кошкой, ты будешь видеть лишь хвост, да два отдельно гуляющих глаза. А только лишь скажут, и сразу все становится ясным: кошка, она кошка и есть! И чему тут удивляться? А то еще, бывало, проснешься неожиданно ночью, и недоумеваешь, оглядываясь по сторонам: все странно, все непонятно вокруг. В соседнем углу на железной кровати кто-то таинственно дышит, какие-то светящиеся кругляшки сверкают в проеме ночного окна, комната заставлена таинственными предметами, и ты, сколько ни напрягайся, не можешь угадать их назначения. Но вот, словно бы молния сверкнула у тебя в голове, словно кто-то невидимый тихо шепнул, тихо назвал предметы их именами. Непонятное спящее существо превратилось в твою сестру, ожили стол, стулья, книжная полка, аквариум на столе, звезды на черном безмолвном небе. Как хорошо, когда кто-то может все объяснить! Не будь этого, люди бы ходили днем, словно в потемках, не говоря ни слова, и натыкаясь, подобно слепым, один на другого.
А вообще-то, если честно, все мои сегодняшние рассуждения о моментах, когда человек перестает что-либо соображать, и смотрит на обыкновенную кошку, как на несуразное собрание отдельных вещей – всего лишь намек. Всего лишь страусиная политика избежать дальнейшего объяснения. Дальнейшего описания. О том, что произошло со мной сегодня после уроков.
Про пальмы и про то, что я слушаю их – это чистая правда. Здесь нет никакого обмана. У меня еще до сих пор слезы на глазах не обсохли, и щеки горят от холодного ветра с моря. А вот что касается мгновений непонимания и абсурда…
Сегодня после уроков они смотрели на меня, как люди, которые никогда не видели кошку. Которые видят перед собой что-то непонятное и лохматое, а что – никак не поймут, сколько ни бейся над этим. Ну и, конечно, это их до крайности возмущает. В классе присутствовал весь наш актив: и председатель совета Маркова, и ее подпевала Весна, и еще одна активистка Рыбальчик, не такая, впрочем, зловредная, как первые две подружки. Меня всегда удивляло, почему по общественной линии проявляют себя обычно одни девчонки. Почему они не занимаются дома каким-нибудь рукоделием: не шьют, не вяжут, не играют в куклы, в конце концов. Я, если честно признаться, играл в оловянных солдатиков чуть ли не до седьмого класса. Вот просто играл себе в них, и ничего не мог с этим поделать – устраивал потешные бои на балконе, пускал в атаку одни армии на другие, воображая себя попеременно то Кутузовым, то Наполеоном. А то устраивал сражения Великой Отечественной: с пушками, танками и катюшами, – до того заигрывался, что забывал иногда даже про школу. Я хотел было слегка помечтать, вспоминая свои недавние увлечения, но мне этого, понятно, не разрешили.
– Он позорит нашу дружину! – сказала с осуждением Маркова, смотря на меня в упор, и видя перед собой только лишь глаза, усы и черный кончик хвоста.
Помню, как в классе первом или втором Маркова заявилась на новогодний праздник с громадной кремлевской башней из раскрашенного картона, надетой прямо на голову. Это меня поразило настолько, что всякий раз, как я смотрю теперь на нее, вижу эту картонную кремлевскую башню. Вот просто вижу, и все, и ничего не могу поделать с собой!
– Он не может быть комсомольцем, он поставил себя вне коллектива! – поддакнула ей Весна. Тоже, естественно, возмущаясь, что не понимает, кто перед ней сидит и откуда вообще он мог появиться в нашем отряде.
После этого она с усилием расправила на своем животе бесчисленные складки белого школьного фартука и заговорила о нашей дружине имени Володи Дубинина, которой доверено это высокое звание потому, что среди восьмисот с лишним учеников нет в ней ни одного, кто бы совершил такое чудовищное преступление. Она говорила очень правильно и очень долго, но я, когда смотрю на Весну, всегда почему-то думаю о взбитых сливках, песочных пирожных, тортах, кремах, пончиках и пирожках с разной начинкой. Кроме того, на коленях у меня лежал новый заграничный журнал, который взял я на время полистать у Кащея. Кто такой Кащей – я расскажу немного попозже. Точно так же, как о Шурике, дяде Иване, и других моих друзьях и знакомых. На обложке журнала красовалась потрясающая обнаженная девушка, и мне не терпелось рассмотреть ее как можно внимательней. Весь остальной текст в журнале меня мало интересовал, еще и по той причине, что был он то ли чешский, то ли японский. А может быть – какой-нибудь новозеландский. Языков этих, к сожалению, я выучить еще не успел. Но красотка действительно была потрясающая, особенно ноги и груди.
Возле них даже стояли специальные цифры, которые, очевидно, обозначали эталон красоты. Мы с Кащеем уже обсуждали этот вопрос, и решили, что в нашем классе вряд ли кто на эти цифры потянет. Дело в том, что девочки у нас или слишком худые, или толстые, как Лиля Весна. Есть, правда, и внешне вроде нормальные, как Маркова Лера, но я очень уж сомневаюсь, что ее когда-нибудь поместят на обложку журнала. Тем более обнаженной. Лера у нас председатель Совета отряда, она отличница, и, если получает четверку, то прямо в классе закатывает такую показную истерику, что учителю волей-неволей приходится исправлять ей оценку. И главное – все понимают фальшивость этой истерики, все чувствуют, что это всего лишь игра. Но, как в кукольном балагане, исполняют исправно свои заводные роли; Маркова ревет, как белуга, ближайшие подруги ей подвывают и стараются успокоить, учитель ходит кругами, кусает губы, хмурится, пытаясь прекратить этот цирк, а потом неожиданно исправляет оценку. Даже для себя самого. Наверное, после этого ему очень стыдно. Некоторые берут пример с нашей Леры. Особенно Весна, которая, когда разревется по-настоящему, становится похожей уже не на булку с маслом, а на раскисший под дождичком пончик. Я продолжил мысленно перебирать, кого бы из одноклассниц поместил на обложку, будь я фотографом, или редактором такого журнала. Я перебирал в уме всех девушек нашего класса, сознательно отодвигая последний момент, сознательно оставляя на самый конец Катю. И когда конец этот все же настал, сердце мое учащенно забилось, я даже, кажется, покраснел, руки мои вспотели, и я перестал что-либо соображать. Словно бы из тумана до меня донеслось:
– Вот видите, он покраснел наконец-то! Видимо, сегодняшняя наша беседа не прошла для него даром.
Стоя у холодной замерзшей пальмы и ощущая еще на щеках горячие слезы неожиданной радости, горячие слезы счастья и какого-то просветления, я подумал, что похож на эту холодную шершавую пальму. Наверняка она тоже плачет: от боли, роняя слезы из поломанных снегом листьев. Наверняка она тоже хотела бы дожить до весны. Я натянул на голову свою лыжную шапочку, засунул под мышку портфель, спрятал руки поглубже в карманы, и, простившись мысленно с пальмами до следующей снежной зимы, медленно побрел по заледенелой аллее.
Снег шел всю ночь, и аллея была усеяна сломанными ветками кипарисов, от которых, несмотря на мороз, шел густой и резкий запах смолы. Я подошел к обледенелому фонтану с фигурой юноши, держащего в руках огромного ершистого осетра. Оба они – юноша и осетр – покрылись синими натеками льда, и брызги штормящего моря время от времени окатывали эти натеки белой шипящей пеной. С этим юношей-рыболовом, между прочим, связаны очень интересные вещи. Надо сказать, что рядом с фонтаном, на бетонных, частично провалившихся волнорезах летом собирается прелюбопытная публика: местные бандиты, проститутки, наркоманы, воры, ну и, конечно, ребята из нашего города. Здесь запросто можно покурить анашу или план, выпить портвейна, или, допустим, снять потрясающую девчонку. Ничуть не хуже, чем на обложке журнала. Я лично, правда, еще ни разу девочку не снимал, но планом пару раз пробовал затянуться. Не ахти что, да и голова потом болит несколько дней. По мне, так лучше уж просто курить – это солидно, и не надо прятаться от милиции. Так что обычно летом я мирно сижу в холодке у бетонной стены и молча слушаю разговоры местных бандитов. Два года назад я дружил с городским королем Толиком Сердюком. Точнее будет сказать – он просто был моим соседом, жил этажом выше, и снисходительно позволял находится рядом с собой. Господи, какое же это было блаженство! Мне завидовали все городские ребята, и даже взрослые двадцатилетние парни заискивали передо мной, надеясь привлечь внимание короля. Я был чем-то вроде оруженосца при дворе знатного рыцаря, и был посвящен во все местные тайны. Я знал, кто из приезжих был ограблен вчера, и кого будут грабить сегодня. Я был в курсе всех любовных историй высшего бандитского света, вел себя крайне заносчиво, и никто не мог сделать мне даже маленького замечания. Вот это была жизнь! Однако счастье мое продолжалось недолго: сначала Сердюка по пьянке избили и скинули в море, и он лишь чудом не утонул. Потом вообще судили за вооруженный грабеж, и дали порядочный срок. Лет десять, если не ошибаюсь. Королем вместо него стал совсем другой человек, центральный нападающий в местной футбольной команде. По счастью, он тоже жил недалеко от меня, и поэтому месяца два или три я продолжал находиться в самой гуще местных преступных событий. Нападающему везло: они с дружками грабили доверчивых отдыхающих, воровали вещи из автомобилей и турбаз отдыха. Ничего его не брало: ни милиция, ни дружинники, ни происки претендентов на королевский престол. Он был спортсменом, и, в отличие от Сердюка, пил портвейн только по праздникам. С милицией же у него была давняя дружба, потому что в милиции тоже были свои футболисты. Но, однако, в конце концов не повезло и ему. Пришлось жениться на одной из местных девчонок, которая забеременело от неотразимого нападающего. Выхода у короля не было, ибо родители ее грозились судом и тюрьмой. Свадьба, а затем семейные хлопоты постепенно отдалили короля от преступного мира города, и его место занял какой-то приезжий грузин, которого я совершенно не знал. Из фаворитов мне поэтому пришлось удалиться, и лето я теперь проводил совершенно бездарно: бесцельно шатался по набережной, купался, а потом шел домой к одиночеству, книгам и ехидным остротам младшей сестры.
Но я, кажется, намного отклонился от темы. Я хотел рассказать о мальчике с осетром, который стоял в центре фонтана – словно один из сыновей Лаокоона, сражающийся с громадной змеей. Мне всегда казалось, что создатели этого фонтана не были знакомы с античными мифами, и по простоте душевной заменили змею осетром. Хвост осетра кокетливо прикрывал у мальчика то самое место, которое на античных скульптурах обычно прикрыто листиком или ракушкой. По поводу этого факта ходило множество слухов и толков. Некоторые говорили, что мальчик этот вовсе и не мальчик, на самом деле, а девочка, только совсем еще юная. Другие же вообще говорили такую чушь, что и на бумаге ее передать неудобно, но к делу это не относится, потому что большинство местных ребят полагало, что в центре фонтана находится именно мальчик. В виде шутки какому-нибудь отдыхающему под большим секретом сообщали, что мальчик в центре фонтана – настоящий живой пионер, выполняющий ответственное правительственное поручение. Что-то вроде часового у Мавзолея, специально отобранного для почетного караула. Который, ввиду местных курортных условий, держит в руках не автомат, а большую колючую рыбу. Разумеется, целый день под жарким солнцем не простоишь, человеку в течение дня хочется многое. Окунуться в прохладное море, съесть мороженое, или, извините, сходить в туалет. Поскольку на глазах у гуляющей публики сделать это, конечно же, неприлично. Последний довод на дураков действовал неотразимо: не проходило и лета, чтобы какой-нибудь пионер из Москвы или Киева, оставшись в одних плавках, не лез в фонтан помогать уставшему бронзовому собрату. «Ты не бойся, – говорили ему на ухо, – постоишь пять минут, и опять пойдешь в море купаться. Только, смотри, не урони осетра, это экземпляр уникальный, другого такого не найдешь во всем Черном море. И не забывай его время от времени окунать, а то он загорит, и придется его перекрашивать вместе с фонтаном.» Доброволец послушно лез в воду и старательно тащил осетра из рук бронзового рыболова. На зрелище это сбегалась обычно целая набережная. Щелкали затворы местных фотографов, из ресторана-поплавка лениво выходили бандиты и проститутки, а юного патриота, увитого лавровым венком, слишком поздно понявшего, что его жестоко надули, торжественно проносили до самой пристани, опуская в теплые воды Черного моря. Герой горько рыдал, венок качался на теплых волнах, все же остальные неудержимо смеялись. Фонтан, кстати, так и назывался у нас: «Мальчик, подержи осетра!»
Сейчас фонтан стоял, весь занесенный снегом, а бронзовый пионер с осетром мирно спал подо льдом в ожидании лета и юной пламенной смены. Я отсалютовал ему и пошел в сторону пристани. Пристань называлась «Дядя, брось двадцать копеек!» Именно эту фразу наиболее часто повторяли мальчишки, привыкшие клянчить деньги у богатых приезжих. В наступающих сумерках самый конец ее терялся в серой туманной дымке, и только время от времени загорался и тут же гас красный огонь портового маяка. Чаек, конечно же, нигде не было видно, они сейчас прятались где-то в прибрежных скалах. Чайкам было, наверное, еще хуже, чем людям. Хотя ведь у чаек есть перья и пух, а люди под пальто и перчатками совсем голые, вроде бронзового заледенелого пионера. На металлической ограде пристани ровными длинными лентами лежал белый, запекшийся от морской пены снег.
Море было яростное, пенное и холодное. Быстро темнело, и в павильоне Морского вокзала одна за другой зажигались яркие синие лампы. Я подошел к легкой застекленной веранде, поднялся на пару ступеней и заглянул внутрь павильона. Здесь все было роскошно и по-тропически блестело всеми цветами радуги. Лианы заплели стволы мохнатых веерных пальм, гирляндами свисали со стен белые гроздья цветов, из бесчисленных кадушек и бочек поднимались упругие зеленые стрелы побегов, распускаясь под потолком большими ажурными листьями. Только что попугаи не летали и не пели колибри. В углу же под пальмой, на табуретке, надвинув на глаза белую капитанскую фуражку с кокардой, мирно дремал старичок-дежурный. Рядом с ним на полу стояла недопитая бутылка портвейна. Я не стал стучать в окно и будить его, а, бросив прощальный взгляд на зеленую Африку, вновь окунулся в мороз и унылые серые сумерки. Где-то вдали, за фонтаном и пальмами, темнела заснеженная Моряковская горка, а рядом, спрятавшись в тени зеленого павильона, освещенный синими пятнами падающего из него света, стоял памятник Пушкину. Он был небольшой, из белого мрамора и с золотой надписью на такой же белой плите, которой сейчас, из-за льда, совсем не было видно. На голове у поэта лежала толстая шапка снега, нос его от холода совсем опустился, бакенбарды от ветра разметались по сторонам, но взгляд был спокойный, холодный, уверенный. Поэт смотрел сквозь меня в вечность, как сказала бы, очевидно, одна из наших старших вожатых, приводя очередную цитату из Добролюбова и Белинского. Нас иногда мучают походами к этому памятнику, строят торжественно, как в каре эскадрон летучих гусар, и долго, нудно читают что-то из Чернышевского или Писарева. Самого же поэта цитируют мало, в основном то место из глубины сибирских руд, в котором говорится о свободе и павших оковах. Вообще же отношение к памятникам в нашем городе совершенно особое. Лет десять назад в центре у рынка стоял еще памятник Сталину, и я, проходя мимо него в детский сад, все, бывало, удивлялся: почему это памятник стоит о двух головах? Я не знал просто, что Сталин стоял рядом с Владимиром Ильичем, очень плотно, почти в обнимку, и это, как говорит наш новый директор, было правильной генеральной линией. Я этого, конечно же, тогда не понимал, и двухголовый человек, один совсем лысый, а другой, наоборот, с волосами, казался мне не то таинственной гидрой, не то сросшимися сиамскими близнецами. Я уже тогда краем уха слышал что-то об этих явлениях.
Когда же я подрос, и стал ходить в школу, то неожиданно обнаружил, что вся взрослая, да и не только взрослая жизнь в нашем городе крутится, словно стрелка в часах, вокруг нескольких памятников. Которые каждый горожанин непременно в течение года должен несколько раз обойти. Было с десяток памятников Владимиру Ильичу – они, безусловно, считались самыми главными. Один такой, совсем небольшой бюст, стоял, да и стоит, конечно же, и сейчас, прямо у нас в школе. Возле него обычно принимают мелюзгу в пионеры. А вот в комсомольцы принимают уже у другого Владимира Ильича: громадного, бронзового, насупившего косматые брови, настоящего вождя угнетенных людей всех стран и народов. Владимир Ильич этот стоит на центральной площади города, и можно смело сказать, что он и есть его настоящий центр. Вообще же география у нас измеряется памятниками. Со стороны моря город охраняет белая арка с колоннами, на фронтоне которой написано: «Граждане СССР имеют право на отдых». Границу Приморского парка, к примеру, бдительно стережет бронзовый Горький: в дорожном плаще, широкополой шляпе и стоптанных башмаках, в которых проходил он мимо наших брегов когда-то очень давно, до того еще, как стал буревестником революции. Городок наш тогда был совсем ничего, можно сказать престо деревня, но уже славился своим местным писателем Н., у которого с товарищем Горьким на морском берегу состоялась недолгая встреча. Встрече эта преобразила внутренний мир нашего Н., и он стал ведущим советским писателем, почти таким же, как Фадеев и Шолохов. Хотя и писал в основном не о коллективизации и деревне, а о флоте и о славе государства Российского. Южную границу нашего города как раз и стережет памятник Н., к настоящему времени, естественно, умершему. О второстепенных памятниках, вроде бюста Пушкина или мальчике с осетром, я уж и говорить не хочу. Таких памятников в нашем городе очень много. Говорят, что от античных времен в некоторых заброшенных парках бывшей буржуазии остались еще настоящие античные статуи из белого мрамора. Так это, или не так, я судить не берусь, потому что среди бесчисленных мальчиков с осетрами, девушек с веслами, гипсовых дискоболов, пионеров, дующих в горны, и пионерок, держащих в руках символы нашего государства, рабочих, колхозниц, летчиков и танкистов античные статуи из белого мрамора совершенно затерялись и практически не видны. О них и говорить не стоит поэтому. Но вот о двух совершенно особых памятниках я умолчать не могу. Один из них охраняет северные подступы к нашему городу. Это – огромный обелиск с красной звездой на конце, на месте которой во время оккупации Крыма немцы установили крупнокалиберный пулемет и обстреливали из него виноградники, в которых иногда прятались партизаны. После освобождения города пулемет сверху убрали, а звезду опять водрузили на место. Сам же памятник, который, кстати, установлен на месте расстрела первого правительства Крыма, стоит теперь, как древний форт из рассказов Купера или Майн Рида, ощетинившись по сторонам золотыми надписями и символическими гранитными урнами. Если через люк спуститься внутрь обелиска, то увидишь множество человечьих костей. Говорят, что это кости членов первого правительства Крыма. Второй же памятник, о котором хотел я рассказать, на самом деле не похож ни на статую, ни на обелиск со звездой. Все дело в том, что памятник этот – обыкновенный платан, огромное дерево, растущее недалеко от Морского вокзала. В последние дни оккупации немцы повесили на нем партизанку Снежкову. Все происходило так же, как с Зоей Космодемьянской: Снежкову пытали в гестапо, но она не выдала никого из товарищей. После этого ее отдали на потеху солдатам, а наутро повесили. Вообще же все эти сведения о нашем городе я знаю по двум причинам. Во-первых, город наш очень маленький, и в нем не так уж трудно ориентироваться. И, во-вторых, обо всех этих вещах хорошо говорит Кеша. Так мы зовем нашего учителя географии. Но о нем, пожалуй, я расскажу немного позднее. Так же, как о Кащее и дяде Иване. Сейчас же я весь нахожусь под впечатлением допроса, устроенного мне после уроков. Я не отрицаю, что перед праздничной демонстрацией вполне мог бы сдержаться, и не делать того, что я сделал. Но, с другой стороны, любой бы нормальный человек на моем месте поступил так же. Однако, словно на беду, этот главный мой аргумент они как раз и повернули против меня. Они принялись меня убеждать, что я ненормальный, выскочка какой-то, моральный урод, и все в том же духе. Маркова заявила:
– Ты, Азовский, настоящий фанатик, и, между прочим, при Сталине тебя вполне могли расстрелять. При нем расстреливали и не за такие поступки.
– Он не понимает, – с пафосом сказала Весна, – всего ужаса своего положения. Он не понимает, что не только комсомольский актив, но и учителя нашей школы в ужасе оттого, что он совершил. Тебя, Азовский, запросто могут выгнать из школы. Подумай хорошенько – куда ты сможешь пойти после этого? На набережную, курить анашу или план? Или, быть может, пойдешь в бандиты, как бывший твой товарищ Сердюк?
– Он не был моим товарищем, – оторвал я глаза от журнала. – Просто мы жили в одном подъезде.
– Ничего себе жили! – завозмущалась Весна. – Все лето проводили на пляже, в обществе проституток и наркоманов, пили портвейн, и никакого при этом общественного труда! Ты даже розы в школе, по-моему, ни разу не приходил поливать.
– Приходил, сколько положено, и не один раз. Сколько по графику надо было, столько и поливал, и нечего навешивать на меня того, чего я не делал.
Они хотели еще что-то сказать в мое осуждение, но дверь тихонечко отворилась, и в класс бочком протиснулась Кнопка, наша классная руководительница, и она же учитель химии. Кнопкой звали ее из-за роста и малюсенького, похожего на кнопочку носа, всегда красного не то от химреактивов, не то от излишнего рвения на работе.
– Прорабатываете? – тихо спросила классная, усаживаясь бочком за соседнюю парту.
Она сидела за этой партой, похожая на прилежную ученицу пятого класса, даже отличницу, досрочно выполнившую лабораторную по химии и ожидающую похвального слова учителя. Активистки наши сразу же присмирели, сразу же стали похожи на обыкновенных советских школьниц. Оно и понятно: перед Кнопкой заискивают многие в классе. Как-никак, впереди экзамен по химии, да и до конца школы еще целых полтора года. Поневоле придется дружить со своей классной. Я лично, правда, дружить с ней не хочу, с меня достаточно и того, что с Кнопкой дружит моя мать. От этого иногда становится тошно до невозможности, до того, что хочется кричать, плакать, рыдать, словно Весна с Марковой. Но слезами, к сожалению, я ничем помочь себе не могу. Я могу лишь молчать, сжав от негодования зубы, наблюдая, как мать попадает во все большую зависимость от нашей классной. Мать у меня беззащитна перед разного рода опасностями. Я думаю, это из-за того, что у нее неладно с отцом.
– Прорабатываете? – опять тихо, почти что нежно, спросила Кнопка.
– Прорабатываем, – так же шепотом ответили ей активистки.
– Ну и как, есть надежда, что он осознает?
– Есть, – одна за всех ответила Маркова. – Есть, хотя и не очень большая. Из комсомола мы его вынуждены будем отчислить. Об этом уже и на бюро обсуждали, и решение специальное приняли. А в школе, я думаю, его можно пока что оставить. Временно, конечно, до первого негативного случая.
– Посмотрим, посмотрим, – задумчиво и тихо сказала Кнопка. И вдруг, подпрыгнув, как мячик, неожиданно подскочила ко мне и молниеносно выхватила лежащий у меня на коленях журнал.
– Посмотрим, – торжественно и громко сказала она опять, победно держа над головой журнал с обнаженной красоткой. – Посмотрим, что из этого у нас выйдет. – И, бочком протиснувшись в неплотно прикрытую дверь, бесшумно исчезла из класса.
Активистки стояли, полуоткрыв от неожиданности рты. Такой оперативности они должны были еще поучиться. Визит химички их немного смутил, и они недолго меня промучили, а потом отпустили. Дослушав до конца их нудную лекцию, я встал, и, сказав всем пока, пошел на берег слушать замерзшие пальмы.
Зимой быстро темнеет, и пока я плутал по промерзшим приморским аллеям, стоял у мальчика с осетром, у пристани и у Морского вокзала, на город опустилась настоящая ночь. Подходя к своему дому, я столкнулся на улице с Кнопкой. Она искоса посмотрела на меня, и, ни слова не сказав, молча вошла в наш подъезд. Она и дня не могла пропустить, чтобы не поговорить обо мне с матерью. Это было очень некстати, и я бы с удовольствием ушел опять бродить по своим аллеям. Но аллеи мои были сплошь засыпаны снегом, они были насквозь проморожены и завалены поверженными кипарисами. В аллеях было ничуть не лучше, чем дома. Стараясь сдерживаться и придав лицу беспечное выражение, толкнул я входную дверь в нашу квартиру.
Все уже кончилось, и я сидел за своим столом, глядя в покрытое узором окно и машинально вращая ручку приемника. Рядом на книжной полке стояли Стивенсон и Майн Рид, потрепанное жизнеописание великих алхимиков в обнимку с тремя мушкетерами, комплект журнала «Знание – сила», а также Шекли, Брэдбери и кое-что из любимого и ценимого мною. В аквариуме, ловя последние крошки корма, раскрывали жадные рты гуппии и меченосцы, черная моллинезия чертила в зеленой воде стремительные круги, лавируя между водорослями и подводными гротами, ленивые сомики неподвижно лежали на дне рядом с рапанами и морскими камнями. В соседней комнате тихо плакала мать, рядом с ней на серванте лежал злополучный журнал. Кнопки, конечно же, в доме давно уже не было, но запах ее прочно держался в воздухе, а в ушах звучали слова: «Ваш сын совершил тягчайшее преступление! Придумать такое в день ноябрьской демонстрации мог лишь один человек во всей нашей школе! И как он все долго скрывал, вы не поверите, но прошло больше месяца, прежде чем история эта вышла наружу. Если бы не помощь нашего советского ветерана…» Напротив меня в своем уголке что-то мастерила куклам сестра. Она отмалчивалась, и было неясно, как относится ко всем этим событиям. Отец с работы еще не пришел. Он теперь вечерами задерживался в санатории, колдуя со своими снимками и рентгеновскими аппаратами. Иногда он оставался в санатории ночевать, и тогда по ночам из соседней комнаты слышались приглушенные всхлипы матери.