Текст книги "Под шапкой Мономаха"
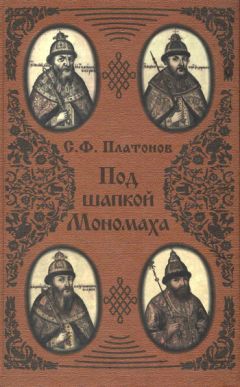
Автор книги: Сергей Платонов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава вторая
Политика Бориса
1. Международное положение Московского государства после смерти Грозного. – Правительственные задачи БорисаВслед за чрезвычайным политическим напряжением при Грозном Московское государство после его кончины переживало тяжелое похмелье. Длительная война с Литвою и Швецией за Балтийское побережье окончилась полною неудачею, и Грозный уступил своим противникам все, что успел завоевать в первый, счастливый период войны, поступившись даже кое-какими и собственными землями. Напрасно поклонники талантов короля Стефана Батория говорили, что Грозный был побежден именно этими талантами, и напрасно Карамзин писал, что «если бы жизнь и гений Батория не угасли до кончины Годунова, то слава России могла бы навеки померкнуть в самом первом десятилетии нового века».
Карамзин искренне думал, что «столь зависима судьба государств от лица и случая, или от воли Провидения!». Более справедлива мысль, что Провидение послало Грозному поражение и неудачу не столько от «гения» Батория, сколько оттой разрухи, которая создалась внутри Московского государства, как следствие опричнины и вызванных ею беспорядочной мобилизации земель и отлива населения из государственного центра на восток и юг. Принимая на себя энергичные удары Батория, Грозный был ими опрокинут потому, что за собою имел пустой тыл и расстроенную базу. Государь, который в 1562 году мог бросить под Полоцк такую массу полевого войска, что она в лесах по дорогам «сметалася» и «позатерлася» и надо было ее с усилием «разобрать», «развести» и «пропустить», – к 1579–1580 годам уже вовсе не имел полевой армии и избегал встреч с врагом в открытом поле. Ядовито указывал на это Грозному Курбский, говоря: «…собравшися со всем твоим воинством, за лесы забившися, яко един хороняка и бегун, трепещешь и исчезаешь, никомужь гонящу тя». Курбский понимал, что «все воинство» Грозного было так числом ничтожно, что царь чувствовал себя почти что одиноким («един хороняка») и должен был бегать и прятаться. Курбский объяснял это тем, что Грозный «всех бы до конца погубил и разогнал»; но, разумеется, это надлежало объяснять более общею причиною стихийного свойства: у Грозного просто не стало людей и средств для борьбы.
Мир с врагами был заключен незадолго до смерти Грозного (1582–1583), и царь кончал свой земной путь с горьким сознанием понесенного поражения[50]50
«Вечного мира» достигнуто не было – война закончилась перемирием: с Баторием в январе 1582 года на 10 лет, а со шведами в августе 1583 года на 3 года. Достигнуть «докончания» или вечного мира было трудно по взаимной неприемлемости взглядов и стремлений воюющих.
[Закрыть]. Конечно, с таким же сознанием по смерти Грозного принимал власть Борис. На его плечи падала забота о возможном смягчении последствий крупной политической неудачи и о восстановлении поколебленного войною престижа силы и предприимчивости Москвы. Равным образом на него же ложилось бремя, созданное внутренним кризисом: ему приходилось думать о воссоздании хозяйственной культуры в центральных областях государства, покидаемых рабочим населением, и о восстановлении там служилой и податной организации, расшатанной кризисом. В этих двух направлениях и действовала, главным образом, правительственная энергия Бориса.
Нет нужды особенно углубляться в подробности тех дипломатических сношений, какие происходили между правительствами царя Федора и короля Стефана Батория. По отзыву одного из серьезнейших историков (КН. Бестужева-Рюмина), это были «самые трудные» сношения того времени. Король мечтал после своих побед о дальнейшем торжестве над Москвою, даже о полном ее подчинении. В его грандиозных планах овладение Москвою было только одним из средств к завоеванию Турции. «По его соображениям (говорит Ф.И. Успенский) разрешение восточного вопроса должно начаться с подчинения Московии; московская война может быть окончена в три года; за подчинением Москвы последует завоевание Закавказья и Персии, движение на Константинополь со стороны Малой Азии и завладение проливами». Открытые отцом Павлом Пирлингом материалы раскрывают эти планы Батория. Королю казалось, что действия против Москвы не представят трудностей: Московией управляет больной и слабый государь; на деле власть перешла к боярам, которые борются за преобладание; народ будто бы помышляет об избрании нового государя. Сообщенные в Рим, через Поссевина и других дипломатов, планы Батория вызвали там сочувствие (папы Сикста V); а это сочувствие в свою очередь окрыляло королевскую политику и делало ее надменною и притязательной в сношениях с Москвой. Если бы король чувствовал под собою твердую почву в Речи Посполитой, Москве предстояла бы, может быть, новая борьба с Баторием и – кто знает! – новое поражение и подчинение королю. Королю сочувствовал его канцлер Замойский; его планами увлекался знаменитый Поссевин и другие иезуиты; но паны и шляхта, не посвященные в виды Батория и утомленные его войнами, не желали новой войны и боялись разных политических осложнений. Это обстоятельство связывало руки Баторию и склоняло его к осторожности.
С другой стороны, московские политики не удовлетворяли Батория своим тоном и поведением. Москва боялась Батория, о чем определенно и не раз писал из Москвы посол его Л. Сапега тотчас по смерти Грозного. Московское правительство готово было на всякого рода уступки, пожалуй, даже на унижение, только бы добиться на первое время мира, «взять перемирие». Оно, например, отпустило литовских пленных без откупа и согласилось в то же время заплатить откуп за русских пленных. Оно давало своим послам наказ быть уступчивыми и все, что казалось бы им неприемлемым в поведении короля и панов, оговаривать мягко, не идя на разрыв. Но в то же время оно приказывало послам отмечать при всяком удобном случае, что обстоятельства в Москве переменились и что Москва готова не только к обороне, но и к наступлению. Много раз московские послы в переговорах говорили примерно такие речи: «…теперь Москва не по старому, государю у них (в Литве) мира не выкупать стать, государь против короля стоять готов; и драницы (то есть доски с кровли) с одного города государь наш не поступится»; «теперь Москва не старая: надобно от Москвы беречися уже не Полоцку, не Ливонской земле, а надобно беречися от нее Вильне». Когда паны пробовали опровергать эту похвальбу, они слышали упорное ее повторение. Паны говорили: «…на Москве что делается, то мы также знаем: людей нет, а кто и есть, и те худы, строенья людям нет, и во всех людях рознь». В ответ им московские дипломаты не без яда замечали: «…над государством нашим никакого греха не видим, а только милость Божию и благоденствие; вы еще с Богом не беседовали, а человеку того не дано знать, что вперед будет;…государь наш дородный (то есть рослый, полный, красивый), государь разумный и счастливый; сидит он на своих государствах по благословению отца своего и правит государством сам (в противоположность Баторию – избранному и ограниченному);…людей у него много, вдвое против прежнего, потому что клюдям своим он милостив и жалованье дает им, не жалея своей государской казны, и люди ему все с великим раденьем служат и вперед служить хотят и против всех его недругов помереть хотят; в людях розни никакой нет». Как паны знали про московское оскудение и рознь, так и московские бояре знали, что в Литве нет единения между Баторием и его панами. Сообразно с этим московские дипломаты и получали приказание: буде у короля с панами рознь есть, то надлежит поднять тон, «если паны станут говорить высоко, и вы отвечайте им высоко же»; «если же почаете, что у короля с панами розни большой нет», то «по конечной неволе» необходимо идти на всякие уступки, чтоб непременно, «хотя на малое время», заключить перемирие. Таким образом, московская дипломатия проявляла значительную гибкость и, в меру своей осведомленности, меняла тон и поведение.
Благодаря этим обстоятельствам, то есть внутренней оппозиции в Речи Посполитой московской увертливости, Баторий не решился на войну. Он предъявлял московскому посольству (князя Троекурова и Безнина в феврале 1585 года) требование уступки Смоленска, Северской земли, Новгорода, Пскова, грозил разрывом, но все-таки согласился продлить действие мирного договора на два года (до 3 июня 1587 года), а затем и сам послал в Москву посла Михаила Гарабурду с предложением вечного мира и династической унии Москвы с Речью Посполитой. Миссия Гарабурды (1586 год), обставленная обычными требованиями уступок и угрозами разрыва, не имела успеха, но повела к дальнейшим сношениям и разговорам о вечном мире и унии государств. Москва держалась своей политики – уступок в решительную минуту и угроз при первой к тому ВОЗМОЖНОСТИ: она решилась даже потребовать у Батория уступки Киева, Полоцка, Витебска, Торопца и лифляндских городов, соглашаясь только на этом условии говорить о вечном мире. Стороны, конечно, понимали, что взаимные требования неумеренных земельных уступок представляют собою только известный способ начинать деловые переговоры и потому, погорячась, «многие укоризненные и непристойные выговаривали речи», а в конце концов, не уступив друг другу ничего, дошли до результата: продлили двухлетнее перемирие на два месяца (до 3 августа 1587 года).
Это соглашение было достигнуто посольством князя Троекурова и Писемского в августе 1586 года, а 2 декабря того же года Баторий умер. С его кончиною вышли из политического оборота вдохновлявшие его идеи завоевания Москвы и Турции и померкли на время мечты Поссевина и папы Сикста V об обращении Москвы в орудие папской политики. В жизни Речи Посполитой наступил темный период бескоролевья с обычными интригами и борьбою партий, сопровождавшими королевскую «элекцию» (или по московски: «олекцыю»). Мысль об унии Речи Посполитой и Москвы мелькала в дипломатических переговорах тех лет. Из Литвы подсказывали Москве мысль об унии: там желали в великие князья царя Федора, во-первых, по его характеру, пассивному и кроткому, а во-вторых, потому, что боялись кандидата католика и возможных от него гонений на православие. Москва отозвалась на зов Литвы и решила принять участие в «олекцыи», поставив кандидатуру царя Федора. По-видимому, в Москве больше всего боялись избрания выставленного канцлером Замойским шведского королевича Сигизмунда, который мог соединить на себе польско-литовскую корону со шведской. В начале 1587 года в Литву был послан Елизарий Ржевский с грамотами к панам рады польским и литовским. В грамотах царь Федор объяснял, что, услышав о кончине короля Стефана, он решил показать «безгосударным» свое милосердие и ласку и потому послал своего дворянина «в ваших невзгодах вас понавестити и наше милосердие и жалованье вам объявити»; «и вы бы, Панове рада светские и духовные все посполу ко руны Польские и великого княжества Литовского (продолжал Федор), смолвившися меж собою и со всею землею, о добре христианском порадели и нашего жалованья к себе и государем нас на ко руну Польскую и на великое княжество Литовское похотели». В случае избрания царь обещал многое: «…мы ваших панских и всего рыцерства и всее земли коруны Польские и великого княжества Литовского справ и вольностей нарушивати ни в чем не хотим, еще и сверх вашего прежнего, что за вами ныне есть, во всяких чинех и в отчинах прибавливати и своим жалованьем наддавати хотим». Но московские нравы и понятия были так далеки от польско-литовских, что Москва не могла примениться к условиям «олекцыи» и не умела делать скоро и ловко все то, что требовалось избирательной кампанией. Из Москвы не догадывались вовремя обещать и давать ни денег, ни обязательств, ни подарков; не обнаруживали настоящей податливости и ласки; круто ставили щекотливые вопросы о вероисповедании будущего короля и великого князя и о его резиденции. Выяснилось, что царь Федор веры не переменит, в Литве и Польше жить не станет и к щедрым выдачам вообще не склонен. Кандидатура московского государя при таких условиях теряла свою привлекательность даже для тех, кто ее искренно желал: «…все хотели есми и жаждали всем сердцем государя вашего (говорили московским послам паны «вся Литва и поляков большая половина»), да стало за верою да за приездом, что государь ваш скоро не приедет». Желательный кандидат вел себя так, что оказывался неудобным. И дело расстроилось: партия Сигизмунда взяла верх и короновала его в Кракове (в декабре 1587 года).
В конечном итоге кандидатура Федора принесла Москве материальные убытки и только один успех: во время междуцарствия польское правительство заключило с Москвою перемирие на 15 лет (с августа 1587 года по август 1602 года). В начале 1591 года это перемирие (до 1602 года) было подтверждено новым договором, совершенным в Москве с посольством Сигизмунда после неприятнейших пререканий, которыми имели обычай сопровождать свои встречи дипломаты Москвы и Литвы. Казалось, что за свое ближайшее будущее Москва могла быть теперь спокойна; по крайней мере, на ближайшее десятилетие миновала опасность нападений со стороны Речи Посполитой. То обстоятельство, что Сигизмунд был наследником шведской короны и мог осуществить унию враждебную Москве, Швеции и Речи Посполитой, теперь не страшило Москву. Москва воевала со Швецией, отстраняя вообще вмешательство Сигизмунда в шведско-московские отношения; она готова была принять посредничество литовской дипломатии только в деле заключения со Швецией «вечного мира». Подобная дальновидность и твердость делали честь московским дельцам: они рано почуяли, что личные свойства Сигизмунда лишат его популярности как в Речи Посполитой, так затем и в Швеции (где он получил престол в конце 1592 года). Уже в конце 1589 года (или в самом начале 1590 года) московский гонец А. Иванов сообщал в Москву вести из Литвы, что нового короля Сигизмунда держат ни за что, потому что промыслу в нем нет никакого, и неразумным его ставят и землею его не любят. Эти вести повели в Москве к успокоительным умозаключениям – и Москва начала войну со Швецией.
Отношения Москвы со Швецией после смерти Грозного носили иной характер, чем отношения с Речью Посполитой. Батория в Москве боялись, Швеции, по-видимому, нет. Война со Швецией, по выражению С.М. Соловьева, «считалась необходимостью: Баторию при Иоанне уступлена была спорная Ливония; но в руках у шведов остались извечные русские города, возвратить которые требовала честь государственная». Кроме того, внутреннее состояние Швеции было таково, что подавало ее врагам надежды. «Положение Швеции становилось, – говорит Г.В. Форстен, – год от году безотраднее: в государстве несколько лет подряд были неурожаи, народ голодал, вымирали целые деревни; в довершение всех бед начались заразительные болезни, смертность достигала небывалой суммы».
Король Иоанн расстроил финансы страны и обострил свои отношения к шведской аристократии. Московские дипломаты умели наблюдать и делать правильные выводы. В 1585 году после бранчливых переговоров московские послы князь Ф. Шестунов и Игнатий Татищев заключили «по конечной неволе» со шведами договор о продлении существовавшего перемирия на четыре года, ибо в Москве еще не видели возможности с успехом обнажить меч. Предполагали только, что шведы согласятся отдать за выкуп русским их города: Иван-город, Ям, Копорье и Корелу. Шведы не соблазнились на выкуп, и Москва решила ждать лучшей поры. Через четыре года, в 1589 году, когда внутреннее расстройство Швеции стало яснее, а солидарности Литвы и Швеции не оказалось, Москва заговорила другим языком. Послам велено было «говорить с послами (шведскими) по большим, высоким мерам, а последняя мера: в государеву сторону Нарву, Иван-город, Яму, Копорье, Корелу без накладу, без денег».
Если бы шведы согласились на «последнюю меру», то послам разрешено было соглашаться на «вечный мир». Но шведы не соглашались, и русские грозили им: «Государю нашему, не отыскав своей отчины, городов Ливонской и Новгородской земли, с вашим государем для чего мириться? Теперь уже вашему государю пригоже отдавать нам все города, да и за подъем государю нашему заплатить, что он укажет». Такие речи могли повести только к разрыву и войне.
Московское правительство начало военные действия тотчас по истечении срока перемирия – в январе 1590 года. Русское войско было направлено к Нарве. Оно взяло Яму и Иван-город, штурмовало самую Нарву, но не овладело ею. Перемирие, скоро заключенное, уже в феврале 1590 года, оставило за Москвою на один год занятую ею территорию. В следующих годах (1591–1593) враждебные столкновения возобновились, но не имели решительного характера. В 1593 году последовало новое перемирие на два года; а в 1595 году стороны пришли, наконец, и к мирному соглашению. Послы съехались под Иван-городом в деревне Тявзино и начали свои переговоры обычными в те времена полемическими выходками, советуя друг другу оставить непригожие слова и «поискать в себе дороги к доброму делу». Такая дорога была найдена: русские отступились от притязаний на Нарву, а шведы перестали держаться за Корелу, и мир был заключен на том, что старые русские земли от реки Нарвы до Корелы остались за Москвою. Есть основание думать, что эта вековая новгородская окраина представляла для шведов мало удобств: владение ею, правда, отрезывало Русь от моря, но обходилось шведам дорого: «неродивая» земля требовала подвоза хлеба и фуража, в которых в то время у самих шведов не было избытка. Трудности продовольственного характера были в том краю так велики, что шведы, в пору наибольшего своего торжества над Русью при Густаве-Адольфе, легко отдали Москве новгородские земли по Столбовскому договору 1617 года, главным образом, потому, что не имели сил организовать их питание. Тем более чувствовались эти трудности в конце XVI столетия, когда голодала сама Швеция. Возвращая себе стародавние русские города на Финском побережье, Москва выговорила себе некоторую свободу сообщений через шведские земли с Европою – для купцов, идущих с товарами на царское имя, для врачей и техников, едущих к царю, для царских послов. Но торговля в Нарве осталась исключительно в шведских руках. Москва была довольна «вечным миром» 1595 года потому, что сделала земельные приобретения – знак победы и военного торжества. Зависимость русского торга на Балтийском побережье от шведов не беспокоила Москву, ибо торг на Белом море, в Архангельском городе, обеспечивал для нее свободу коммерческих сношений с Западом. От шведского контроля терпела более немецкая Ганза, чем Москва. Но и шведы были очень довольны «вечным миром»: «…все ликовали, прекратилась 37 лет продолжавшаяся борьба, – говорит Г.В. Форстен, – в церквах служили благодарственные молебны, пели Тебе Бога хвалим… все друг друга поздравляли с счастливым днем». Королевские послы, возвращавшиеся из Тявзина, были встречены в Ревеле с чрезвычайным торжеством. «Pro hoc summo beneficio Deo optimo maximo sit laus et gloria!» (За это высшему благодетелю, равно же наилучшему и наибольшему, да будет хвала и слава! (лат.)) – восклицал современник-швед.
В отношениях Москвы к Литве и Швеции личное участие Бориса вовсе не заметно; оно может быть ценимо лишь по связи с общей оценкой целесообразности и дальновидности московской политики. В сущности, то же следует сказать и о сношениях с «цесарским» двором (так называли в Москве императорский двор Габсбургов). Из документов, сюда относящихся, возможно извлечь две-три мелкие черты, характеризующих личное поведение Бориса в отношении «цесаря» и его послов, но и эти черты допускают различные толкования. Дипломатические сношения Москвы и Вены в конце XVI века вообще неопределенны и сложны; предметы сношений многообразны: мотивы и цели не всегда ясны. По-видимому, император Рудольф II был уверен в возможности династической унии с Москвою: в 1588 году он указывал своему послу Варкочу в официальной инструкции, что имеются сведения («uns von weitten angelangt hette»; «uns hatt sonnst weitleuffig vor diesen angelangt» (из дальнейшего нам станет известно; нам станет известно об этом подробнее (нем.)) будто существует духовное завещание Грозного, но хранится в великой тайне; в нем, между прочим, постановлено: «буде ныне царствующий великий князь (Федор) умрет бездетным, то на наш достохвальный дом будет обращено предпочтительное внимание, и кто-либо из членов нашего дома должен быть избран государем». На каких основаниях выросли такие сведения и надежды, достоверно узнать нет возможности; но можно предполагать, что почва для них создалась в условиях польско-литовской «элекции». В избирательной кампании 1587–1588 годов Москва готова была поддержать эрцгерцога Максимилиана, брата Рудольфа, в том случае, если не будет избран сам царь Федор. Из Москвы извещали императора Рудольфа, что в этом именно смысле действовали в Варшаве московские послы: они там будто бы говорили, чтобы паны «брали себе государем нас, великого государя, и были под нашею царской рукою;…а буде нас себе государем не оберут, и они бы обрали себе государем брата твоего, Максимилиана, арцыкнязя Аустрейского;…ас невеликих бы станов. Свейского сына или которого иного Поморского княжати, на те великие государства не обирали, потому что те государи непристойные: о христьянстве не радеют, только всегда на кроворазлитье христьянское желают, а бесерменским государям в том радость чинят; а только будет брат твой Максимилиан на королевстве Польском и на великом княжестве Литовском, и нам то будет любо таково ж, что и мы будем на тех государствах». Это прямодушное заявление, сделанное в грамотах, сопровождалось, вероятно, столь же ласковыми – по наказам – речами гонцов, в которых могло быть говорено и больше, чем позволяли и требовали официальные наказы. В Вене могла созреть уверенность, что Москва, ввиду бездетности Федора, питая мысль об унии, предпочтет в свое время Габсбургский дом «непристойным государям» «невеликих станов». Отсюда проистекало большое внимание Рудольфа и Максимилиана к Москве и частые дипломатические посылки в Москву. Но как произошло предание о тайном завещании Грозного, сказать ничего нельзя.
Со своей стороны, московская дипломатия очень интересовалась цесарем – и не только по делам Речи Посполитой, но и в отношении возможного союза против татар и турок. Обе стороны терпели от «бесермен» и искали наиболее надежных союзников и средств для борьбы с ними. Обе стороны могли предложить друг другу немного и вообще больше искали, чем давали. Поэтому в их сношениях было много чувства, комплиментов и обещаний, но мало реального дела. Оно выразилось только в том, что Москва оказала материальную помощь цесарю, послав ему на большую сумму (44 000 рублей) собольих мехов. Когда же цесарь спросил не мехов, а денег (1597 год), то в Москве уклонились послать их, ибо, по выражению КН. Бестужева-Рюмина, «вообще были недовольны тем, что цесарь много говорил о своих союзах, а дела никакого не было видно». В сношениях с цесарем, титул которого поднимал его над всеми другими западными королями и «княжатами», Москва была особенно чутка к поддержанию соответствующего церемониала, чтобы этим подчеркнуть равенство «братьев дражайших и любительных» – московского царя и римского цесаря. И лично Борис как правитель особенно заботился о том, чтобы достойным образом самому выступить в роли первого в стране лица, как в царском дворце, так и на собственном боярском дворе, где он давал аудиенции послам. Одинаково и отчеты цесарских послов и такие же «статейные списки» московских дьяков рисуют пышные картины встреч и приемов у царя и у Бориса, но вовсе не обнаруживают реально-важных их последствий.
Иное дело – отношения с Англией: здесь пышности и парадов очень мало, но зато весь тон отношений очень деловит, и личное участие в них Бориса вполне ясно и понятно. Англия в Москве имела только торговые интересы, и Московия пока не занимала места в политической системе Англии. Очень известны обстоятельства появления английских мореходов в двинском устье в XVI веке и получение ими монопольного права пользования этим устьем для торга с Москвою. Английские купцы и правительство имели в виду только этот торг и желали сделать его наиболее льготным и доходным для себя. В 1569 году английский посол Томас Рандольф добился у Грозного «привилегии», по которой образованная в Англии торговая «русская компания» получала исключительное право торга, и притом беспошлинного торга, во всем Московском государстве, а также право торговли через Россию с Востоком. Англичане были взяты в опричнину, что считалось и самими англичанами и Грозным за особенную честь и удобство для иноземцев. За столь многие льготы и почет Грозный требовал своего рода платы: он желал, чтобы королева Елизавета вступила с ним в союз против общих врагов, дала соответствующие льготы русским купцам и предоставила московскому царю право получить убежище в Англии в случае его личной невзгоды (такое же убежище Грозный взаимно готов был предоставить и Елизавете). Когда же Елизавета, не видевшая нужды входить в такие обязательства и связывать Англию рискованными союзами, ответила уклончиво, Грозный раздражился, послал ей укорительную грамоту, а на английских купцов наложил свою опалу. Потом отношения сгладились, и царь в 1572 году, возвратив англичанам свою милость, восстановил их «привилегии и повольности»; однако же с тем, чтобы они платили со своих товаров половинные пошлины. Возвращение к льготам 1569 года оказалось неполным; а некоторые политические осложнения, последовавшие вскоре затем, лишили англичан и многих других преимуществ. Московское правительство очень дорожило английским торгом на севере; но оно столь же дорожило и другими возможностями сноситься с Западом и получать европейские товары. Пока Грозный владел Нарвою, он всячески поощрял торговлю в Нарвской гавани с торговыми людьми всяких народностей, кто бы туда ни проникал. Вопреки монопольному праву «русской компании» английских купцов, Грозный покровительствовал и другим англичанам. Компании он предоставил Северный путь и закрепил за нею монополию в двинском устье; а в Нарве он готов был дать права другим предпринимателям из той же Англии, хотя против этого компания протестовала с большой энергией. Конкуренция Нарвы пала только с переходом Нарвы в шведские руки (1581), чем фактически восстановилась монополия Северного пути и компании, обладавшей этим путем. Но одновременно с утратою Нарвы Москва испытала затруднение и на севере. Кроме англичан, торговавших на Двине, московский север в XVI веке посещали мореплаватели и других национальностей. Они не проникали в горловину Белого моря, а приставали на мурманском берегу, там, где была «Кола волость» и «Кольское пристанище». Туда «приезжать почали ново Францовские, Датцкие, Подолные земли (Нидерландов), Барабанские земли» корабельщики-купцы, и на Коле (приблизительно в 60-х годах XVI века) завязался торг, который мог создать конкуренцию англичанам, господствовавшим в двинских устьях. Москва понимала всю важность Мурманского торга и готова была его поощрять. Но вмешательство датско-норвежского правительства испортило дело. Датчане считали норвежскою всю Лапландию, обвиняли русских в насилиях и захватах, сами насильничали и мешали Кольскому торгу, «разбойным обычаем меж нашие вотчины на море у Колы и у Колмогор разбили немец, которые к нам в наше государство ехали». Кольское «пристанище» утратило безопасность, и московское правительство склонилось к мысли перевести оттуда весь торг и всех торговых «немцев» на Двину, где было, конечно, безопаснее. Такое решение должно было уничтожить исключительные права англичан на двинских пристанях независимо от того, благоволили к ним в Москве или же нет. Общие условия морского торга требовали этого, и Москва принялась устраивать (1583) город на Двине, у Архангельского монастыря, для корабельного пристанища. Здесь должен был образоваться общий для всех заморских «немцев» ярмарочный центр. Во время этих мероприятий скончался Грозный; с его смертью дело не остановилось, и царь Федор объяснял датчанам (в 1586 году), что «мы ныне торг изо всего Поморья, из своей вотчины Двинские земли и из Колы и из иных мест перевели и учинили в одном месте – на устье Двины-реки у нового города у Двинского, и торговым людям изо всех из ваших поморских государств со всякими товары к тому месту, к Двинскому городу, поволили есмя ходити без вывета (без исключения)».
Англичане, принадлежавшие к «русской компании», по-видимому, не были осведомлены о мотивах, руководивших московской властью. Им казалось, что со смертью Грозного иссяк для них источник милостей при московском дворе. Бывший тогда в Москве английский посол сэр Еремей Боус очень рассердился на то, что тотчас же по смерти царя Ивана обращение с ним в Москве изменилось. Дьяк Андрей Щелкалов ядовито заметил Боусу, что «умер его английский царь», и затем Боуса заперли на его посольском дворе. Выражение об «английском» царе, конечно, было неуместно: оно намекало на то, что англичане, взятые в опричнину, были чересчур почтены и приближены Грозным и что этот их фавор должен был окончиться вместе с опричниной. Что же касается до заключения Боуса и его людей в стенах посольского подворья, то это была обычная мера московской предосторожности во время междуцарствия, направленная не только против англичан. Боусу не следовало сердиться, но он не сдержался и увидел во всем происходившем только злостные выходки лично против него самого. Он обвинял во всем «самозваных царей» (как он выражался) Никиту Романовича и Андрея Щелкалова; а те в свою очередь рассердились на Боуса. Боус был отпущен из Москвы без особой чести, и сам при этом оскорблял московское правительство грубыми выходками. Свидетель-англичанин с горем восклицал, что «лучше бы Боус сюда не приезжал!». В этом прискорбном недоразумении один Борис Годунов представлялся Боусу другом и покровителем: единственно он, «благородный и честный дворянин некто Борис Федорович Годунов», по словам Боуса, неизменно оказывал всякое уважение посланнику и «охотно сделал бы ему и более одолжений, но еще не имел власти». На прощанье Борис прислал Боусу подарок, парчу и соболей, и велел сказать ему, что желает дружбы и братства между их государями и самими ими. Таков был начальный момент отношений Бориса к англичанам. Борис сразу явил себя их другом в противоположность прочим властным вельможам. Такая дружелюбность оставалась у Бориса неизменной и в последующее время. Борис через своего агента, англичанина Горсея, потушил неудовольствие, вызванное в Англии столкновениями Боуса, и наладил дальнейшие дружественные сношения. В 1586 году англичанам дана была «государева жалованная грамота», или «привилегия», которою восстановилось их право беспошлинного торга («только чюжих товаров им с собою в наши государства не имати и не продавати»). Но Борис не изменил ничего в общем направлении московской торговой политики: торговая монополия в Белом море англичанам возвращена не была. Беломорские «пристанища» были распределены между купцами разных наций, и все они могли непосредственно торговать с Москвою. Преимущество англичан ограничилось только таможенными льготами. Грамота 1586 года была подтверждена в 1596 и 1598 годах на тех же самых основаниях, и, таким образом, англичане могли только вздыхать о первых благословенных годах их московских операций, когда Грозный утверждал за ними необыкновенные льготы. Не жертвуя интересами государства английским выгодам, Годунов, однако, очень ласкал англичан. Незнание русских обычаев и отношений вводило иногда английское правительство в напрасные «ошибки». Елизавета, например, приняла московского гонца не во дворце, а в саду, который по-московски был назван «огородом»; она прислала царю Федору слишком ничтожные «поминки»; она задержала долго в Англии и отпустила без личной аудиенции московского толмача, «молодого паробка», – все это вызывало выговоры и жалобы из Москвы, которая не пропускала ни одного подобного случая преподать Елизавете по своему разумению должные правила дипломатического такта. Плутовали английские купцы и приказчики в торговых сношениях, злоупотребляли кредитом, ссорились с москвичами и «тягались» между собою, а затем жаловались в Англию и просили там защиты и заступничества – все это вызывало претензии и репрессии со стороны московской власти. Но Борис неизменно приводил все недоразумения к благополучной развязке и делал так, что государь оказывал разные милости англичанам, «любя тебя, сестру свою любительную (писал Борис Елизавете), а за моим челобитьем и печалованьем». И надобно сказать, что англичане, вообще недовольные стойкостью русской администрации в борьбе за свободу московского торга с иноземцами, всегда признавали внимание и ласку к себе Бориса.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































