Текст книги "Севастопольская страда"
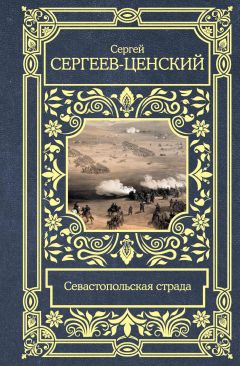
Автор книги: Сергей Сергеев-Ценский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 121 страниц) [доступный отрывок для чтения: 29 страниц]
– Конечно, делали бы что-нибудь менее омерзительное, чем теперь вот собираются сделать с вами англичане с их осадными орудиями… и французы… и турки…
– На нас нападают, мы защищаемся, не так ли?
– Ах, это очень трудно разобрать. – Хлапонина слабо махнула кистью руки в сторону гостя. – Только Руссо в тысячный раз оказывается правым: ни науки, ни искусства не послужили к смягчению нравов, нет!
Она была взволнована, – это видел Лесли по ее сильно порозовевшему лицу и по ярко блестевшим глазам. Он видел также и то, что мужу своему она уже говорила это, потому что он деятельно и торопливо ел, как очень занятой и проголодавшийся человек, но предпочитал не вдаваться в отвлеченности.
И, улыбаясь, как это было ему свойственно, Лесли обратился к Елизавете Михайловне:
– Совершенно верно: разобрать трудно, кто виноват, что мы должны отстаивать Севастополь, как это случилось, как это допустили!.. Но раз допустили, раз дело дошло до такого очень громкого разговора, как пушечные залпы, ничего нам больше не остается, как перекричать их, не правда ли?
– И мы их перекричим, – отозвался ему за жену Хлапонин. – Потому что не может этого быть, чтобы им удалось привезти вот теперь и орудий крупных калибров, и снарядов, и пороху больше, чем было заготовлено у нас в Севастополе! Да нужно подсчитать еще и то, сколько подвезено за последнее время…
– Они опоздали! – решительно поддержал Лесли. – Они теперь кусают вот это место, – он постарался поднести ко рту свой левый локоть, – от досады. Но напрасно-с! Не укусят!.. Какой роскошный арбуз! – восторженно перебил он сам себя, увидев, как входил денщик с огромным полосатым арбузом на подносе, уже надрезанным и кроваво-красным. – Вот мы-то имеем полную возможность наслаждаться такими прелестями, а как обстоит с этим у союзников – вопрос!
Как раз в это время раздалось один за другим два пушечных выстрела где-то не очень далеко, потому что задрожали не убранные со стола рюмки.
– Союзники ответили на ваш вопрос! – сказала Хлапонина тревожно.
– За-ви-дуют, бестии! – Лесли очень весело подмигнул в сторону выстрелов.
– Однако вам надо же идти на свой бастион?
– Если вы меня гоните, если я вам надоел, то я, конечно, уйду, – отнюдь не собираясь уходить, напротив, принимаясь за арбуз, отозвался Лесли, – но эти выстрелы нашего бастиона не касаются, это по фортам с моря… Должно быть, по Волоховой башне.
Загрохотали выстрелы и с берега, потому что гораздо сильнее дрогнули рюмки. И Хлапонин крикнул денщику:
– Убери посуду!
Несколько раз еще грохотало и сотрясало воздух, но вот наступило продолжительное затишье.
– Отчалили! – спокойно принимаясь за другой кусок арбуза, сказал Лесли.
– А я думаю… что сейчас начнется настоящая канонада… – снова закрывая глаза и сжимаясь, проговорила тихо Хлапонина.
– Напрасно думаете! Пожалуйста, не думайте так! – весело наблюдая ее, говорил Лесли. – Настоящая канонада впереди… Если мы не совсем еще готовы ее встретить как следует, то, поверьте, и союзники далеко еще не готовы ее начать!
Глава седьмаяТоржество логики
I
Действительно, в стане союзников были еще не готовы к канонаде, но там работали, подготовляя ее, методически, умело, обдуманно, а главное – без помехи.
Та крепость, которую в разобранном на тысячи частей виде перевезли сначала из Дувра и Марселя в Константинополь, потом из Константинополя в Варну, из Варны к Евпатории, спокойно и хозяйственно перевозилась теперь в бухты, занятые союзным флотом, здесь выгружалась на берег, направлялась в заранее намеченные участки осадной линии и воздвигалась неукоснительно по плану подобных сооружений, выработанному западной наукой войны.
Все, оказалось, было нужно, что везли на сотнях коммерческих судов: и мешки с землею, и кирпичи, и готовые фашины, и туры, и тысячи болгар-землекопов с их собственными прочными добросовестно выкованными в болгарских кузницах кирками, мотыгами, лопатами и ломами.
Может быть, даже великое изобилие всего, что было заготовлено для устройства этой крепости против крепости русской – Севастополя, и было отчасти причиной того, что Раглан и Канробер не отдали приказа по своим армиям штурмовать город еще 12 (24) сентября.
Бывает так, что обилие средств для достижения какой-нибудь цели подталкивает методический мозг использовать их все, хотя и раздается ветреный голос: «Зачем так много и для чего так долго?»
Старость медлительна и педантична. Редки случаи, когда она способна круто изменить свои расчеты, так как эти расчеты и есть именно то, что она больше всего ценит в своей угасающей жизни. Подчинить события своей логике, а не жертвовать хотя бы иногда логикой, натыкаясь на внезапно изменившийся ход событий, – в этом полнее всего проявляется старость.
Массивный и говорливый при этом, как часто бывает у стариков, лорд Раглан окончательно овладел нерешительным Канробером – прекрасным командиром роты, хорошим командиром полка, посредственным начальником дивизии и совершенно неспособным главнокомандующим армии.
Когда Сент-Арно слабым голосом умирающего передавал ему власть над войском, Канробер был убежден в том, что Севастополь будет взят через несколько дней и что его, Канробера, имя войдет в историю в ореоле славы.
Татары-проводники, бывшие при армии, уверяли, что город совершенно не защищен со стороны суши.
Однако, обогнув город со стороны Инкермана, Канробер увидел, что линия укрепления существует, что она снабжена орудиями и живой силой.
В досаде Канробер приказал повесить татар, хотя они и не были виноваты: они не знали, что было сделано для защиты города Корниловым всего за несколько дней.
– Все-таки, – сказал Канробер Раглану, – эти слабые укрепления не будут в состоянии остановить натиск наших армий, и я уверен в успехе штурма.
Раглан предостерегающе поднял руку и отрицательно покачал головой. Канробер казался ему молодым человеком, способным на всякие легкомысленные, свойственные молодежи действия.
Тщательно округляя фразы, он заговорил о том, что армии утомлены тяжелым переходом, что много больных, что русские будут отчаянно сопротивляться, и если Алма стоила свыше трех тысяч человек, то штурм Севастополя обойдется в десять и все-таки может не дать того, что хотелось бы им обоим; между тем укрепления русских так слабы, что не выдержат и пятичасовой бомбардировки осадной артиллерией.
– Севастополь мы с вами можем уже считать взятым, – завершил Раглан цепь своих доводов в пользу правильной осады. – Нам надо добиться только того, чтобы нашу победу не называли пирровой победой… Нам надо взять его с наименьшим количеством жертв с нашей стороны!
Канробер согласился с тем, что потерять десять тысяч человек при штурме – это слишком большая цена за Севастополь, что такая крупная потеря заставит значительно потускнеть его ореол победителя, между тем как порох и чугун, сколько бы он их ни истратил, учитываться не будут, но сделают то же самое вернее, проще и безопаснее для армии императора французов.
Он помнил красивые слова приказа по армии, данного Сент-Арно в конце августа, при отплытии из Варны: «Скоро на стенах Севастополя мы будем приветствовать три союзных знамени нашим национальным криком: «Да здравствует император!»
Тогда эти слова казались ему только словами в обычном духе этого бывшего провинциального актера; теперь они приобретали значение и вес. Теперь он думал, что неплохо было бы эти слова вставить в его будущий приказ по армии, когда Севастополь будет взят после надлежащего обстрела из осадных орудий.
II
Можно было нисколько не заботиться о том, чтобы назначить военные суда сопровождать транспорты и купеческие пароходы и парусники, подвозившие все нужное для осады: плавание у берегов Крыма было так же безопасно, как у берегов Франции.
На суше союзники стали твердой ногой: о нападении на них слабой армии Меншикова не могло быть и речи, о крупных вылазках из Севастополя тем более.
Однако в первые же дни оказалось много непредвиденных неудобств. Прежде всего в занятой союзниками под свои лагери местности почти совсем не было воды. Колодцы в Балаклаве, рассчитанные на скромные нужды небольшого населения, а также в селении Кадык-Кой, в другом селении Комары и в нескольких небольших усадьбах далеко не могли обслужить большую армию англичан, и стакан воды в их лагере продавался по три шиллинга, то есть почти по рублю серебром на тогдашние русские деньги. Еще меньше было воды на Херсонесском полуострове, занятом французами; очень скоро пришлось перестроить водопровод, снабжавший Севастополь, так, чтобы он спас большие десантные армии от грозного безводия.
Но если запасливые французы в первые же дни разбили для себя палатки и начали ставить бараки, то английская армия ждала палаток десять дней, а пока, совершенно непривычно для себя, расположилась на голой земле бивуачным порядком. Ночи же стали уже холодными, поэтому цена на самое ветхое дырявое одеяло поднялась до двух фунтов стерлингов.
Кроме холеры, которая не прекращалась, развивалось много других заболеваний. Почти все офицеры были больны. Между тем походные госпитали почему-то совсем даже не были погружены на суда и остались в Варне; их ждали со дня на день, но они не приходили.
Однако осадные работы должны были вестись усиленно, чтобы покончить с Севастополем как можно скорее. И с первых же дней английские солдаты поняли, что их любящий комфорт старый главнокомандующий, облюбовавший для штаб-квартиры Балаклаву, не пощадил ни ног их, ни спин, так как разные тяжести, необходимые на позициях, приходилось тащить им на себе за полтора десятка километров, рабочих лошадей было мало, корму для них тоже мало; надрываясь на подвозе осадных орудий к позициям, они выбивались из сил и погибали. Местность была гористая, дороги плохие, если не приходилось их тут же прокладывать.
Даже огромные гвардейцы дивизии герцога Кембриджского, племянника королевы Виктории, и те через несколько дней сильно подались и имели измученный вид.
Французы занимали левый фланг осадной линии; им от Камышовой и Стрелецкой бухт до позиций было гораздо ближе; их главный штаб, подготовлявший экспедицию, оказался гораздо предусмотрительнее английского; их интендантство заботливее; в их лагере было меньше больных.
Но третье союзное знамя, которое Сент-Арно собирался приветствовать на стенах Севастополя, принадлежало туркам. Их дивизия насчитывала семь тысяч офицеров и солдат; они привезли с собой двенадцать полевых орудий и девять осадных, но кормить людей этой дивизии приходилось французам на свой счет еще в Варне, и если в первое время в Крыму даже французские солдаты не могли получить того, что им полагалось, то турки тем более.
Поставленные как резервные силы в тылу французских и английских лагерей, турки, мучимые голодом, толпами бродили около кухонь и походных пекарен французов и англичан, выпрашивая необглоданные кости и хлебные корки; рылись в кучах отбросов и расходились по окрестностям в надежде ограбить местных жителей.
Но к этой последней спасительной мысли пришли и главнокомандующие союзных армий, решив ограбить Ялту как наиболее близкий к Севастополю и наиболее населенный из прибрежных городов.
Это было утром 22 сентября – перед Ялтой выстроилась эскадра в десять вымпелов; из этих судов, часть которых принадлежала английскому, часть – французскому военному флоту, особенно выделялись величиной два трехдечных корабля, сопровождавшихся на случай безветрия двумя колесными пароходами.
И ялтинцы только еще спрашивали друг друга встревоженно, что может значить этот ранний и торжественный визит, как один из пароходов подошел к берегу.
Тогда всем ясно стало, что надо бежать из города, и первыми двинулись различные, свойственные уездным городам того времени «присутственные места»: казначейство, уездный суд, городская управа и прочие. Весь гарнизон Ялты – около пятидесяти солдат и казаков при офицере – прикрывал это шествие. Таща детей и узлы наскоро собранного скарба, потянулись за ним жители по дороге на Симферополь, мимо Гурзуфа, Алушты и других татарских аулов.
Но уйти успела только часть жителей. Союзники действовали быстро. С каждого судна были спущены шлюпки; в них посажено человек до пятидесяти солдат, и десант этот, рассыпавшись по набережной и всюду по улицам, чуть ли не к каждому дому поставил часового; всякое движение было прекращено, все замерло, ожидая, что будет дальше.
Дальше же начался грабеж. Все дойные коровы и козы, которых ввиду раннего часа не успели еще выгнать на пастбище, выгонялись со двора на улицу, откуда их гнали к пристани, чтобы грузить на шлюпки и баркасы. Туда же тащили мешки, набитые курами и прочей домашней птицей. Так как свиней вообще трудно перегонять с места на место, то их кололи штыками и подвозили туши их к пристани на обывательских подводах. Хлеб, яйца, вино, сахар, мука, крупа – все съестное забиралось и отправлялось на суда.
Однако солдаты нуждались не только в съестном. Они выламывали двери и окна, которые могли пригодиться им в лагере; из сундуков и гардеробов вытаскивали пальто; потом, входя во вкус полной безнаказанности своих действий, разбивали прикладами посуду, рвали штыками картины, книги, вообще уничтожали то, что им было не нужно или чего не могли унести.
С почтовой станции вывезли все брошенные там экипажи и сбрую, опустошили все магазины и казенные склады. Совершенно разорили и Ливадию, принадлежавшую тогда графу Потоцкому.
Два дня длился этот погром Ялты и окрестных имений. Только в ночь на 24 сентября ушла эскадра, и только имение императрицы – «Ореанда» – осталось нетронутым из соображений высшей политики.
III
По ночам в Севастополе слышен был стук многочисленных колес по каменистым звонким сентябрьским дорогам на неприятельской стороне: там неутомимо трудились над возведением брустверов и установкой орудий. Прошел даже слух, что союзники привезли с собой паровые машины для рытья траншей, но саперы сомневались, чтобы такие машины могли справиться со скалистым грунтом.
Ясными днями отчетливо была видна пыль, поднимаемая тысячами кирок и мотыг за три, даже за две версты от русских оборонительных линий. Рабочих обстреливали из дальнобойных орудий и замечали, что они разбегались, прекращая работы, но по утрам оказывалось, что неприятельские траншеи росли и что приближались зигзагами.
Со стороны англичан – против третьего бастиона – появилась вдруг за одну ночь траншея всего в семистах саженях от русских траншей, а со стороны французов, против пятого бастиона, еще ближе: меньше чем за версту.
Это был труд не менее упорный, чем труд русских моряков и солдат. Лошади союзников решительно не в состоянии были выносить ту работу, которая требовалась от них по подвозке к укреплениям осадных орудий, они падали по несколько десятков в день.
Пластуны и команды штуцерников ежедневно посылались Корниловым обстреливать рабочих, но французы выставляли против них цепи своих африканских егерей, англичане – снайперов, и перестрелка, то оживляясь, то временами затихая, стала ежедневной, втягивая все большее число команд.
Но штуцерных в русских полках было мало. Корнилов просил Меншикова прислать ему батальон стрелков. Меншиков обратился за этим к Горчакову, в Одессу. Горчаков, получив с курьером просьбу Меншикова, правда, распорядился послать стрелковый батальон на подводах, но батальон прибыл гораздо позже, чем его ждали.
Союзники спешили. Они не отвечали орудийным огнем на выстрелы русских пушек, не желая обнаружить расположения своих батарей. Они даже не прорезывали вполне амбразур или, прорезав, тут же закрывали их мешками с землей и турами. Они скрытничали, но когда стало обнаруживаться, что пехота выбивается из сил, сооружая траншеи и блиндажи, Раглан и Канробер потребовали от командующих флотами – лорда Дондаса и Гамелена – подкрепить пехотинцев матросами, которых насчитывалось в обоих флотах до двадцати пяти тысяч. Так что части моряков союзников, как и все русские моряки, сошли на берег, чтобы стать саперами и потом – артиллеристами у осадных орудий.
В полдень 4 октября и Канробер и Раглан получили донесения, что подготовительные работы к бомбардировке крепости с суши можно считать законченными. Из главных квартир обеих армий об этом дано было немедленно знать Дондасу и Гамелену, и к вечеру этого дня с береговых фортов замечен был проворный небольшой пароход, шнырявший вне выстрелов русских батарей на линии входа на Большой рейд и разбрасывавший буйки.
Что это значило, было известно морякам. Союзная эскадра в полном сборе стояла у устья реки Качи, из которой доставляли пароходами воду во французский лагерь; буйки, поставленные в море, показывали, что корабли союзников решили появиться перед фортами во всем своем боевом могуществе.
И в то время как флигель-адъютант подполковник Альбединский скакал на перекладных с собственноручным письмом Николая Меншикову, Раглан и Канробер верхами, в окружении нескольких штабных генералов, французских и английских, объезжали свои укрепления, на которых все считалось законченным для небывалой еще в истории канонады.
Николай отбрасывал даже и самую мысль об обороне, казавшуюся ему позорной; он настаивал на наступлении, хотя бы и постепенном, «укрепляясь на удобных местах». Он ободрял Меншикова: «Время года за нас; думаю, что союзникам куда не покойно в их лагере, на голой каменистой местности, где их продувает со всех сторон! Сын твой говорит, что они очень болеют и мрут, – ничто им! В газетах тоже упоминается о болезнях. Все это несколько охладит их жар!»
Главнокомандующие союзных армий знали о том, что действительно многие болеют и многие мрут, но видели, объезжая свои позиции, что предначертания выполнены, несмотря ни на что.
Канроберу, который в Галаце, будучи еще только начальником первой дивизии, накричал на пашу, требуя от него дров для отопления казарм в апреле, не хватало выдержки и теперь, когда он стал во главе французской армии. Это подумал о нем, поморщившись, лорд Раглан, когда тот обратился к инженерному полковнику-англичанину с бестактным замечанием:
– Все-таки я нахожу, что русские укрепления тоже очень сильны! Как вы их находите, господин полковник?
Полковник, исхудалый от трудов, но аккуратно выбритый, поднял глаза на сидящего верхом французского главнокомандующего и ответил:
– Они построены не для огня наших орудий! При первых же наших выстрелах они обратятся в пыль.
Ответ этот понравился Раглану. Кивнув поощрительно в сторону столь великолепного, самоуверенного инженера, он обратился к Канроберу несколько более возбужденно, чем это было позволительно для его лет:
– Мой дорогой друг! Здесь, – он указал широким жестом своей единственной руки на огромные ланкастерские осадные орудия, выстроившиеся внушительно на батарее, прозванной русскими пятиглазой по числу амбразур в ней, – здесь мы с вами присутствуем на торжестве военной логики! Она молчалива пока, но завтра ее силу почувствуют русские! Завтрашний день будет началом конца наших военных операций!
Глава восьмаяКанонада 5 (17) октября
I
Два полка дивизии генерала Кирьякова – Московский и Тарутинский – готовились к своим полковым праздникам, которые наступали для первого 5‐го, для второго – 6 октября.
Как всегда перед подобными праздниками, в полковых казармах все мылось, чистилось, «репертилось», как говорили тогда солдаты, производя это слово от «репетиция». Кашевары на кухнях даже пекли пироги с начинкой из капусты с рублеными крутыми яйцами. Заготовлялась водка для раздачи солдатам праздничных чарок; варилась двойная порция мяса: кроме говядины, еще и козлятина.
Между тем на батареях уже чувствовалось всеми, что вот-вот разразится бомбардировка: позиции противника были очень оживлены, замаскированные амбразуры открывались… Люди здоровые, полнокровные, жизнелюбивые, осевшие на батареях моряки, из которых многие сражались при Синопе, не хотели зря терять вечера, может быть последнего для многих, и тот праздник, к которому только еще готовились пехотинцы двух полков, самочинно пришел на батареи.
Это был как бы вполне законный отдых, когда люди пошабашили, закончив долгую, трудную, ответственную работу. Сделав все, что могли, вспрыснули в складчину конец дела, бастионы – восемь больших, считая с Малаховым курганом, и тридцать четыре малых.
Начальство не запрещало матросам ни музыки, ни песен, ни плясок до поздней ночи. Начальство разрешило это и себе. Казармы и палатки, в которых расположился Московский полк, были невдали от третьего бастиона; приготовления к полковому празднику создавали на всем бастионе то предпраздничное настроение, когда люди, честно проработавшие перед тем больше месяца, разгибают спины, разминают плечи, утирают пот.
Душою вечеринки в офицерском блиндаже был Лесли: непринужденно острил, рассказывал неизвестно откуда им взятые, но явно для всех свежие анекдоты, пел «Чижика» с вариациями не для дам…
Командиром бастиона был капитан 2-го ранга Попандопуло, из одесских греков, а младшим офицером на батарее Лесли – сын старого Попандопуло, мичман, юноша лет двадцати двух, во всем стремившийся подражать своему непосредственному начальнику – капитан-лейтенанту.
На бастионе было двадцать два орудия; Лесли командовал батареей крупнокалиберных пушек, снятых с линейного корабля «Императрица Мария».
Вглядываясь в амбразуры английских батарей и поглаживая и похлопывая гладкий и длинный хобот одного из своих орудий, Лесли говорил юному мичману:
– Ничего, господа энглезы! Мы вам вшпарим по всем правилам искусства!
Мы вам расчешем ваши рыжие кудри!
И мичман Попандопуло, невысокий, но стройный и очень ловкий южанин с правильным, красивым, несколько долгоносым лицом, понимал, что это не для его ободрения говорит так его начальник – он не нуждался в ободрении, – что это была твердая уверенность в успехе артиллерийского состязания завтрашнего дня. Кроме дальнобойных морских орудий на бастионе стояла батарея полевых пушек и батарея мортир для стрельбы картечью, на случай если союзники рискнут пойти на штурм.
Так как бастионом ведал его отец, немногоречивый, но деятельный и умевший всех около себя заставить работать как надо, то юный мичман чувствовал себя, может быть, даже прочнее, чем кто-либо другой на бастионе: отцу он привык верить с детства, отец не мог что-нибудь упустить из вида, не мог чего-нибудь недоделать. Для мичмана Попандопуло третий бастион был самым сильным на всей линии обороны, и после шумной вечеринки 4 октября юноша заснул спокойно и крепко, укрывшись шинелью, в углу блиндажа, чтобы подняться в пять утра, как ежедневно, ополоснуть лицо водой из корабельной цистерны – и к орудиям: долг службы – стать возле них раньше, чем подойдет Евгений Иванович, командир батареи, а в шесть происходила смена вахтенных и он заступал на вахту.
В полдень этого дня объезжал линию укреплений, как обычно верхом, с двумя флаг-офицерами, Корнилов, и мичман Попандопуло слышал, что адмирал, остановясь у них на бастионе, указал его отцу, кивнув на пятиглазую батарею англичан с открытыми амбразурами:
– По всей видимости, они приготовились уже к бомбардировке… Ну что ж… Встретим и примем!
– Мы ведь тоже сделали все, что могли сделать, ваше превосходительство, – с достоинством отозвался отец, который при одних летах с Корниловым имел уже сильную проседь в черных усах.
– Да, мы готовы… Мы готовы… Мы готовы! – все с большей уверенностью повторял Корнилов, подымаясь на стременах, чтобы разглядеть что-то такое там, на Зеленой горе, у неприятеля. – Они готовы, конечно. Однако – и мы тоже… А там пусть уж решает сам Бог!
Он был очень серьезен, говоря это, даже торжественно серьезен. У него были прозрачные глаза в несколько воспаленных, от недосыпания вероятно, веках и длинные, белые, с синими венами, кисти рук.
Засыпая в углу блиндажа под шинелью, мичман увидел высокую тонкую женщину в средневековом шлеме, с мечом на серебряном поясе, с такими же прозрачными глазами и с такими же длинными белыми кистями рук. «Кто это, Евгений Иванович?» – спросил он Лесли. «Как же так „кто“! Понятно, Жанна д’Арк!» – ответил Лесли.
А у Корнилова как раз в это время сидел, собираясь уже уходить, Нахимов. Корнилов жил тогда в доме того самого отставного поручика Волохова, который построил форт в виде башни на Северной стороне. Меньшую половину дома занимал он сам, большую – его штаб. Установка буйков в море пароходом союзников ясно указывала на то, что к бомбардировке с моря нужно быть готовыми не позже как завтра, поэтому Корнилов собрал к себе на совещание не только начальников сухопутных оборонительных дистанций: трех адмиралов – Новосильского, Панфилова и Истомина – и генерала Аслановича, но также и командиров береговых фортов. Конечно, на совещании присутствовал и генерал Моллер, продолжавший считаться начальником Корнилова, и Кирьяков, командовавший не только своей дивизией, но и всеми резервными силами, местом стоянки которых была Театральная площадь, а назначение – броситься в ту сторону линии обороны, которой неприятель угрожал бы прорывом.
Но все бывшие на совещании уже разошлись, Нахимова же удержал сам Корнилов, так как только с ним связывала его не то чтобы близкая и теплая дружба, но та старинная приязнь, которая стоит дружбы.
Нахимов часто бывал в семействе Корнилова, его, с его коротенькой трубочкой, всегда любила видеть у себя Елизавета Васильевна, жена Корнилова; к нему привыкли дети. С ним можно было поговорить не только о служебном, тем более что о служебном все уже говорилось раньше.
Куда и какими бортами должны были стать оставшиеся корабли в случае бомбардировки с суши и с моря, об этом уже говорилось; обсуждался и способ потопить их, если бы противник ворвался в город. Как тушить на них пожары, результаты обстрела, команды знали…
Нахимов был нужен Корнилову, чтобы поговорить с ним о чем-то другом, что для него самого было как бы неясно, но важно.
В просторном кабинете, где они сидели, висел синий табачный дым. Тогда лучшим табаком считался табак фабрики Жукова, и курить какой-либо другой табак было признаком плохого тона. Два адмирала сидели друг против друга за столом, с которого не убрали еще распитых после совещания бутылок красного вина.
– Павел Степанович, письмо мне привез николаевский курьер от жены… Просит Елизавета Васильевна передать вам поклон… и дети тоже…
– Очень благодарен за память!.. Очень рад, очень… – пробормотал Нахимов. – А где-то теперь Алеша на «Диане»?
– Да, вот… Алеша… «Диана», может быть, теперь подходит к Сингапуру, но ведь англичане находятся с нами в состоянии войны и могут захватить корабль, – вот чего я боюсь!
– Отстоится, – благодушно кивнул Нахимов. – Отстоится в каком-нибудь нейтральном порту-с… скучно, конечно, будет, если очень долго стоять, да… но ведь трудно-с и предположить такое, чтобы покусились они на наш корабль, когда он учебное плавание совершает!.. Нет, Владимир Алексеевич, они этого не делали до сих пор и, я думаю, не решатся сделать.
– Я тоже полагаю, что англичане… Они – народ крепких традиций… Но вот французы, при теперешнем правительстве, – французы могут!
Нахимов поморщился, усиленно потянул из чубука, выпустил кольцами дым и сказал решительно:
– Нет, и французы не сделают!.. Наконец, постоять в китайском или голландском порту – это-с… это-с поучительно для юноши…
– Об этом нет спору… Поучительно, да, – был бы хороший надзор за ним… А то эти портовые города в Китае…
– Алеша – строгий к себе мальчик: для него не опасно-с.
– Это вы хорошо определили его, – с живостью подхватил Корнилов. – «Строгий к себе». Прекрасно сказано!.. Он даже и плохим товарищам не поддастся! В нем есть эта… эта твердая самостоятельность, да – она и в детстве у него была… «строгий к себе»! Это, это, знаете ли, то самое, что и нам всем осталось… Мы попали в строгое время, и не мы одни, – вся Россия! Для России настали строгие времена, да! И может быть, самый строгий день будет завтрашний… Переживем ли его мы с вами, Павел Степанович?
Вопрос был задан быстро, скороговоркой, так что Нахимов, казалось, не сразу даже и понял его, но когда он дошел до его сознания, то, пососав чубук, адмирал с большим Георгием – за Синоп – на шее крякнул, оперся о спинку кресла и проговорил назидательно:
– Бог не без милости, а моряк не без счастья.
– А если моряк выброшен на сушу? – слабо улыбнулся Корнилов. – Нильскому крокодилу в воде тоже везет, а вылезет на берег – и не заметит, как схватит пулю… Ведь это – совсем другая стихия, Павел Степанович, для нас с вами… Но это я между прочим… Жена прислала благословение: тревожится. Правда, она уж давно тревожится, и могло бы войти это даже в привычку, но теперь как-то у нее это сказалось… от глубины сердца… Вы верите в предчувствия?
– Я верю только в то, что не всякая пуля в лоб-с, – серьезно ответил Нахимов. – Убить человека – для этого (нам-то с вами это известно) много свинца и чугуна надо истратить.
– Вы одинокий, Павел Степанович… Правда, брат у вас есть в Москве, но брат – это, знаете ли, совсем не то, что своя личная семья – жена, дети… Я написал на всякий случай духовную с месяц назад, еще перед Алмой. Сегодня утром перечитал ее – кажется, все там сказал: не знаю, что еще можно добавить.
– Что вы, Владимир Алексеич. Что вы! – даже с подобием испуга в глазах отозвался Нахимов. – Разве вам можно думать о смерти? Вы только вспомните, как же без вас останется Севастополь! Что вы-с! Вы только об этом, об этом самом подумайте: кем же вас заменить можно? Никем-с! А защита Севастополя, как вы ее поставили, очень надолго-с, очень надолго-с может затянуться! Мимо таких-с людей – о, она, эта курносая, с косой, – сторонкой, сторонкой-с обходит, сторон-кой! Я даже и за себя не боюсь – видит Бог, ни вот столько! – Он указал на кончик чубука. – А вы Севастополю необходимы, как… как все его орудия и все снаряды-с! И чтобы такой человек погиб в самом начале дела – помилуйте-с! Вас история выдвинула-с, сама история-с? Зачем же она вас выдвигала? Чтобы тут же, извините меня, по затылку вас хлопнуть? История не дура-с! История не так глупа-с, нет!
Давно не замечал Корнилов, чтобы герой Синопа так искренне говорил и так разгорячался при этом. Ему стало неловко, как будто он смалодушничал.
Рука его, уже готовая было дотянуться до кипарисового ларца, в котором лежало его духовное завещание, медленно опустилась и стала вертеть пустой винный стаканчик. Видимо, в словах Нахимова нашлось что-то такое, что было для него если не ново, то убедительно, – и он поднялся, обошел стол, положил руки на эполеты Нахимова и три раза, точно христосуясь, поцеловал его в дымящиеся, слабо растущие усы.









































