Текст книги "Бурная весна. Горячее лето"
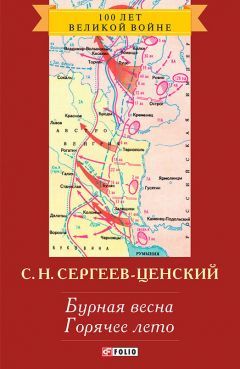
Автор книги: Сергей Сергеев-Ценский
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
За это-то художество «баранов» и отчислили в резерв «льва», однако не сразу. Он должен был совершить еще подвиг, от которого благоразумно отказался генерал, уже явившийся было ему на смену. Этот подвиг был – форсирование с боями реки Вислы, имевшей в том месте полверсты в ширину, причем на реке не было никакого моста, – его еще нужно было сделать.
По замыслу высшего командования предполагалось произвести здесь не столько переправу через Вислу, сколько демонстративные действия, имеющие характер переправы. Настоящая переправа войск происходила гораздо севернее, но об этом не было дано знать Гильчевскому, он понял приказ буквально и принялся за дело с тою энергией, которая его отличала, тем более что распоряжение шло от Лечицкого, а это был генерал серьезный.
В виду неприятеля, занимавшего позиции на другом берегу Вислы, с лесопильного завода, расположенного верстах в двенадцати от русских позиций, начали доставлять доски для постройки моста. Над этим трудилось много полковых лошадей и много людей, но это был мирный труд. Немцы с другого берега широкой реки наблюдали его спокойно: пока мост не был перекинут через реку, им и беспокоиться было нечего, а вот строить мост под орудийным и пулеметным огнем, – это могло, конечно, привлечь пристальное внимание кого угодно, не только немцев.
Гильчевский достал не только доски, но и булыжник для башмаков козел моста, – горы этого булыжника привезли подводы на берег, – и железо, и скобы, и гвозди, и канаты, – строить так строить, – нужно, чтобы все при этом было под руками, но прежде всего, конечно, надо было отогнать подальше зрителей с другого берега, а для этого переправить каким-нибудь образом свою дивизию на тот берег и занять позиции немцев.
Это было то самое, чего испугался его заместитель, засевший пока в штабе корпуса в ожидании, когда сломает себе на этом голову Гильчевский.
Однако Гильчевский ломал голову только над переправой и ломал не зря. Он изъездил верхом весь свой участок берега, – приблизительно верст двадцать, – и хорошо изучил и глубокую реку с ее быстрым течением, крутыми берегами и широкой, версты на три, на четыре, долиной, и небольшие заросшие ивняком острова на ее старом русле. В эти-то острова он и вцепился.
Берега Вислы здесь были чрезвычайно густо заселены: польские деревни, еврейские местечки, отдельные фольварки, господские дома в имениях польских помещиков, окруженные парками, – все это, с одной стороны, содействовало продвижению дивизий к намеченным для переправы островам, с другой же – убеждало в том, что сделать это втайне от противника, хотя бы и пользуясь ночами, было невозможно: глаза и уши его непременно должны были таиться тут везде.
Гильчевский пустился на хитрость, чтобы сбить с толку и противника и его шпионов: днем он развил большую суету в одном, более удобном для переправы месте, чтобы ночью начать переправу в другом, менее удобном на любой взгляд. Он учел при этом и то, что против места, выбранного им для демонстрации, тянулись позиции, занятые германцами, а позиции против островов, намеченных для переправы, занимали австрийцы.
Но где бы и как бы ни переправлять дивизию, этого нельзя было сделать без каких-нибудь, хотя бы и небольших, лодок. Однако у приречных жителей лодок не оказалось. С трудом удалось узнать, что лодки были, но владельцы сознательно утопили их, чтобы сохранить от реквизиции. Действительно, когда в хмельниках помещичьих имений нашли длинные жерди, то при помощи жердей этих разыскали утопленные лодки; выбрали из них камень, подняли, и Гильчевский довольно потер руки от удачи. Теперь оставалось только приступить к переправе передовых отрядов там, где намечена была демонстрация.
В сумерки 9 октября эта демонстрация началась и, конечно, встречена была орудийными залпами немцев, но зато в ту же ночь на 10 октября пять батальонов переправилось где в брод, где вплавь, где на лодках, которых было всего несколько штук, от острова к острову, на другой берег Вислы, выбили австрийцев из их окопов и закрепились в них при поддержке артиллерии, стоявшей на берегу.
Беспрерывная артиллерийская пальба доносилась на другой день с севера, около Ивангорода, где завязались серьезные бои, так что, выйдя на левый берег, дивизия Гильчевского должна была ударить во фланг австро-германцам, – так он сам понимал свою задачу. Поэтому, лично руководя переправой полков, он руководил и боем, пока наконец то, что считалось совершенно невыполнимым с точки зрения теории, – форсирование широкой реки без малейшего подобия моста и под обстрелом с сильно укрепленных позиций противника, – не закончилось вполне успешно, хотя проводилось и не одну только ночь, а захватило еще четыре дня и три ночи.
За это время у самого Гильчевского не раз возникали сомнения, не подтянет ли противник достаточных сил, чтобы опрокинуть и утопить в Висле и авангард его и другие батальоны, которые он вводил в дело постепенно, не имея средств для переброски их разом: на пяти-шести лодчонках много людей не поместишь, но ведь, кроме людей, нужно было переправлять и лошадей и орудия.
В то же время никаких новых указаний он не получал, – значит, прежние оставили в силе. Ему приходилось думать, что начальство знает и силы и замыслы врага и где-то в другом месте проводит против него основательный нажим, а он должен не только приковать к себе немецкие и австрийские части, но еще и расколотить их и все это сделать со своими запасными, которые весьма упорно продолжали считать себя если и взятыми в ряды армии, то исключительно для службы в тылу, а не для сражений на фронте.
Во всей дивизии был только один штаб-офицер – подполковник, командовавший одним из полков, и его-то поставил Гильчевский начальником авангарда. Однако и он, кадровый офицер, не был уверен в успехе штурма неприятельских позиций, назначенного Гильчевским в ночь с 12 на 13 октября; он просил перенести его на утро, когда солдаты будут, по крайней мере, видеть, куда именно они идут на штурм.
Гильчевский в ответ на это только подтвердил свой приказ и ждал потом, что из этого выйдет: он считал, что штурм подготовлен артиллерией, и думал, что ночью его запасные будут действовать отчаянней. Артиллерия замолкла как с русской стороны, так и со стороны врага. Настала тишина. И вдруг – «ура» с того берега. Сначала жидкое, оно становилось все могучей, и трескотня пулеметов и винтовок не могла его заглушить.
Это значило – начался штурм. Но его могли отбить, могли опрокинуть штурмующие колонны в Вислу… В землянке у своего офицера связи сидел Гильчевский и смотрел на него выжидающе, время от времени повторяя: «Ну? Что? Ничего нет?..» Провод мог быть, конечно, и перебит пулей теперь или перед атакой осколком снаряда… Гильчевский скрипел зубами, выходил из землянки, вглядывался в сырую темь, откуда «ура» хотя и продолжало еще доноситься, но уже гораздо слабее, а выстрелы показались громче и чаще.
Наконец затихло там все – ни ура, ни выстрелов… Что же там происходит? Тонут его солдаты в реке?.. Не забыл в то время Гильчевский никаких крепких слов, которыми вспоминал он свое начальство, давшее ему приказ, заведомо неисполнимый… Но вдруг дошло до связиста первое донесение с того берега: «Позиции противника взяты, идет подсчет пленных…»
– Ого! Ого, запасные!.. Вот тебе и запасные! Знай наших! – радостно выкрикнул Гильчевский и вытянул из кармана полфляги коньяку.
Потом пришло другое донесение: «Пленных 700 с лишним человек, из них 13 офицеров».
Для того чтобы броситься на штурм, солдаты должны были перейти вброд через проток – рукав Вислы – по грудь в воде, держа вещевые мешки и винтовки над головой. Как бы ни энергично вели обстрел батареи в течение дня, но гарнизон противника понес не такие большие потери, если после сопротивления сдалось еще несколько сот человек: можно было предположить, что не меньше бежало в тыл, пользуясь темнотой ночи. Эти бежавшие, конечно, должны были притянуть к утру гораздо более крупные силы, и вот перед Гильчевским встал вопрос, что делать дальше. Он решил в эту же ночь перебросить на тот берег всю остальную дивизию.
И переправа началась, тем более что накануне удалось поднять со дна реки уже не рыбачью лодку, а целую баржу, на которую погрузили теперь пушки. К утру на другом берегу было уже одиннадцать батальонов, восемь орудий и две сотни донцов. Это позволило отбить контратаку противника, который ввел на другой день в дело бригаду босняков с артиллерией. Отбитые босняки окопались вблизи, ожидая подкреплений. Гильчевский тоже мог бы, как сделал бы другой начальник дивизии на его месте, остаться вблизи боевых действий около остальных пяти батальонов и пяти восьмиорудийных батарей, расположенных на правом берегу, и отсюда руководить действиями большей части дивизии, переброшенной на левый.
Однако он предпочел переправиться на каком-то наскоро сбитом плоту, причем случилось так, что через проток ему пришлось идти вброд наряду с солдатами. Это его отличало от других генералов, тем более от академистов, что он не переносил неизвестности, неразлучной с сиденьем в тылу, когда дивизия его вступила в бой.
Свои одиннадцать батальонов на бригаду босняков он вел уже сам, начав штурм их окопов в четыре часа ночи. Штурм этот был так же удачен, как и первый. Окружены были все передовые позиции противника, захвачено больше шестисот пленных с офицерами, гаубичный парк, и от окончательного разгрома босняков спасли только их быстрые ноги.
Впрочем, преследовать их было запрещено командиром корпуса, приславшим в этом смысле строгий приказ. Предписывалось заняться постройкой моста.
Пришлось приступить к строительству, хотя материалов для моста было собрано не так много и качество их было плохое. Но через несколько дней на буксирных пароходах прибыл наконец из Ивангорода понтонный мост.
Вслед за тем явилась возможность отчислить Гильчевского в штаб корпуса с передачей им своей дивизии тому самому генералу, который выжидал в штабе более легких задач, чем форсирование Вислы без всяких надежд на удачу.
Никто из высшего начальства не обратил внимания на то, за что иного любимца судьбы могли бы выдвинуть или хотя бы отметить, и целую зиму Гильчевский был не у дел. Только в марте 1915 года он получил дивизию, которую надо было еще самому формировать из дружин, притом в большом портовом городе – Одессе.
Впрочем, долго с этим возиться не пришлось, – фронт требовал пополнений.
Вооруженные берданками, снабженные старинными запасами патронов с дымным порохом, дружины потянулись в Буковину, – в тот краешек ее, который был близок и к Каменец-Подольску, и к Хотину.
В каждой бригаде этой дивизии было шесть дружин, а при каждой из дружин по конной сотне и по батарее в шесть орудий. Так они и действовали в первых своих боях: стреляли отсыревшими патронами сорокалетней давности, причем пули летели не дальше как за пятьдесят шагов, а сами стрелки окутывались непроницаемым для глаз дымом, под защитой которого можно было бросать свои окопы и уходить, что они и делали, так как никакой дисциплины не знали. Бывало и так, что и окопы свои рыли они, обращая их фронтом не к противнику, а в тыл, – до того не умели они располагаться на местности. Офицеров было очень мало; все они были или из отставки, отягченные годами, болезнями, но отнюдь не знаниями боевых действий, или зауряд-прапорщики, что было не лучше.
И вот такую дивизию получил боевой генерал, причем времени на ее обучение ему не было дано, – она была брошена на фронт отстаивать отечество. Выходило так, что не зачисление в резерв генералов на полгода, а назначение командиром такой дивизии было подлинным наказанием для Гильчевского. Он все-таки привык ценить себя, если даже не ценило его начальство, но в первые дни и недели на новом для себя фронте и с совершенно небоеспособными дружинами что мог он сделать против неприятеля, прекрасно укрепившегося, вполне дисциплинированного, в изобилии снабженного новейшим оружием и боеприпасами?
Он мог удивляться только тому, что не делал ничего и противник, только сидел в своих отлично оборудованных окопах и не то чтобы стрелял даже, а постреливал, – держал фронт и давал понять, что всего у него вдоволь, что воевать для него – приятное занятие, поэтому к каким-нибудь решительным действиям, которые бы сократили это удовольствие, он не стремится.
В то время как австрийцы защитили свои окопы сплошной стеной колючей проволоки на четырех рядах кольев и выбрали для окопов командующее положение, дружины должны были закапываться в землю в сырой низине, и ни кольев, ни проволоки им не доставляли долгое время. Много настоятельных требований об этом послал по начальству Гильчевский, пока наконец-то явилась возможность забить хоть один ряд кольев, а также раздать в дружины вместо берданок японские винтовки, которыми надо было еще научить пользоваться ополченцев, привыкших уже из-за дыма берданок не замечать, производит ли какое-нибудь действие их стрельба или нет.
Каждый день делал Гильчевский то, чего нельзя было даже и вообразить в русской армии того времени, – он, начальник дивизии, обходил окопы всех своих двенадцати дружин, проверяя лично чуть ли не каждого ополченца, не говоря об офицерах. Но когда в конце апреля 1915 года получил приказ о наступлении на своем участке фронта, он все-таки ахнул от изумления.
– Кто же сидит в штабе корпуса и армии, какие мерзавцы, хотел бы я знать?! – кричал он у себя в штабе дивизии. – Как же мы будем наступать, когда у нас нет даже ножниц для резки колючей проволоки? Как наступать, когда у нас почти нет снарядов? И против кого наступать мы должны с голыми руками? Против австрийцев, у которых снарядов горы, которые по одиночным людям нашим не стесняются из орудий лупить! Хороши мы будем, если начнем наступать! Красивый вид мы будем иметь, когда нас возьмут в работу!
Однако приказ он выполнил и если к чему стремился, то только к тому, чтобы уберечь своих ополченцев от больших потерь, когда австрийцы пошли в контратаку, показав при этом, что у них есть в глубине позиций даже и двенадцатидюймовые орудия, а по колючей проволоке пропущен с электростанции ток. Так защищали они в апреле 1915 года г. Черновицы, который штаб девятой армии намерен был взять силами двух рядом стоявших дивизий из ополченских дружин.
Впрочем, отогнав вздумавшие наступать дружины, австрийцы тоже не пошли вперед: они снова засели в свои чистенькие сухие окопы, наводя этим на размышления привыкшего к кипучим действиям Гильчевского. Но это был крайний левый фланг тогдашних русских позиций Юго-западного фронта, а серьезные действия готовили австро-германцы не против девятой армии генерала Лечицкого, а против третьей, – которой командовал Радко-Дмитриев, – стоявшей на Карпатах и угрожавшей вторжением в богатые долины Венгрии.
Гром и грянул именно там в ближайшее время, а здесь, против Черновиц, раздались только его отголоски. Со стороны противника появились новые части, между ними и бригада баварских улан, и началось наступление, которое готовилось с ранней весны. Штаб корпуса приказал Гильчевскому, как и начальнику другой ополченской дивизии, отступать планомерно, а сам умчался в тыл сразу верст на сто.
Отступать под натиском значительно превосходящих сил – трудное искусство. Не раз случалось, что, поддавшись панике, ополченцы-артиллеристы бросали свои орудия, хотя и бесполезные, правда, в тот момент из-за отсутствия снарядов, а пехотинцы накидывались на свои же обозы, сбрасывали с повозок обозных, садились в них сами и, нахлестывая коней, мчались в тыл по дорогам и по хлебам вдоль дорог…
Гильчевский сам собирал, кого только удавалось собрать, чтобы приостановить напор противника арьергардными боями, пока не закрепился наконец там, где представилась возможность защищаться продолжительное время. Но это было уже за Хотином, на подступах к Каменец-Подольску, так что пришлось бросить и долину Прута и перейти через Днестр.
Не только удалось укрепиться, но даже неугомонный Гильчевский решил перейти сам в наступление на австро-германцев, пользуясь тем, что они тоже приостановились и начали окапываться на вновь занятых рубежах.
Местность была богатая. Огромные сливовые сады окружали частые деревни. В одной из них, прилегавшей к Хотинскому шоссе, был большой сахарный завод, занятый противником. Туда-то и решил направить Гильчевский свой удар. Это была вполне понятная для всех ополченцев цель, и радовалось сердце начальника дивизии, когда, после артиллерийского обстрела завода, ринулись туда среди бела дня, – в четыре часа пополудни, – три дружины.
И завод был взят к ночи, – это было первое удачное дело дивизии, за которое Гильчевский готов был расцеловать каждого из своих ополченцев, будь то зауряд-прапорщик, будь то рядовой. Этот завод был ключом новых позиций противника, поэтому последствия успешной атаки оказались гораздо более крупными, чем ожидал Гильчевский: в следующую ночь австрийцы очистили все, что было ими занято, и откатились к старой линии своих окопов.
Гильчевский повел свои дружины следом за ними, чтобы не потерять соприкосновения с врагом, между тем как другой ополченской дивизии рядом с ним теперь не было, а штаб корпуса успел забраться так далеко, что о нем ничего не было слышно. Дивизия действовала так, как будто одна она и представляла все русские силы между Днестром и Прутом в направлении Черновиц.
И нужно же было, чтобы как раз в то время, когда дивизии удалось нагнать противника, нагнал дивизию и офицер, посланный вдруг проявившим признаки жизни где-то в тылу командиром корпуса генералом Федотовым. Офицер этот привез категорический приказ остановиться и ждать подхода остальных частей корпуса – второй ополченской дивизии и конных полков.
Пришлось остановить дружины, горевшие желанием боя, но это значило дать противнику возможность и время подготовить как следует отпор, тем более что он занял холмистую местность, покрытую буковым лесом, – очень удобную для защиты и трудную для нападения.
Подошла вторая дивизия; подошли даже и кавказские пластуны, которые, пробыв перед тем несколько дней в Севастополе, отправлены были потом морем в Одессу. Однако, как ни приятно было Гильчевскому иметь у себя под боком кавказцев, с одной стороны, и вторую дивизию ополченцев – с другой, он горестно бил себя по бедрам, прикусывал ус и грозил кулаком в сторону предполагаемой штаб-квартиры Федотова, приговаривая:
– Эх, вот кого бить некому, а следует! Пропустил время, лодырь божий!
Относительно пластунов он знал еще по Кавказу, что они не признают никаких окопов и никогда не занимаются саперным делом, что вместо окопов у них кусты, пеньки, камни, но они – меткие стрелки. Пренебрежение к окопам прощалось им на Кавказе, но здесь была другая война, и тревожно было за них: как-то они себя здесь покажут?
Впоследствии пластуны приспособились и к этой войне, и противник их очень боялся, но в эти дни неудача ожидала всех, так как пришлось атаковать врага на его старых, давно им обжитых, позициях.
Даже те двенадцатидюймовые гаубицы, которые были уже знакомы дивизии Гильчевского, заговорили снова, делая огромные воронки десятиметровой глубины. Три атаки одна за другой были отбиты венгерскими и хорватскими частями, и, хотя несколько окопов было взято, их все-таки пришлось оставить. Потери были значительны, и единственным результатом этих атак явилось только то, что, укрепившись потом вблизи австрийских позиций на австрийской же территории, ополченская дивизия Гильчевского оказалась единственной в этом отношении дивизией во всей русской армии, продолжавшей отступление в глубь своей страны.
После того надолго установилось затишье в этом углу фронта. Летом из двенадцати дружин каждой из двух ополченских дивизий 32-го корпуса были сформированы по четыре трехбатальонных полка, командиры которых были присланы из полевых войск, а бывшие командиры дружины стали командовать батальонами. Самое слово «ополченец» было с тех пор вычеркнуто из обиходной даже речи.
– Ну, братцы, раз вы назвались груздями, так полезайте теперь в кузов! – сказал своим теперь уже обстрелянным питомцам Гильчевский и приступил к их окончательной шлифовке, когда тот или иной полк поочередно находился в резерве.
Тут все тогда делалось при нем: и показная атака позиций, укрепленных рядами проволочных заграждений, и решение тактических задач на местности, и вождение войск в лесах, для чего было выписано много компасов. Последнее было самым трудным делом: части, попадавшие в лес, очень быстро теряли и направление и связь и становились беспастушьим стадом. Тут же делались саперами ручные гранаты из консервных жестянок, заготовлялись рогатки, которые потом по ходам сообщения выносились к передовым окопам.
Все научились тогда резать ножницами колючую проволоку, но на деле оказалось, что одно дело заниматься этим у себя в тылу и совсем другое – под огнем противника. Однако введенного тогда уже французами способа уничтожения проволочных заграждений при помощи гранат в русской армии еще не знали.
Даже учебную команду на триста человек для подготовки унтер-офицеров учредил в своей дивизии Гильчевский. Никто не помогал ему в работе ни из штаба корпуса, ни тем более из штаба армии, но он был рад и тому, что никто не мешал.
Так простояла его дивизия до конца года, когда весь корпус был переведен в восьмую армию Брусилова, в район города Ровно, на Волыни, где и застала его весна 16-го года.
Через месяц после того, как утвердился здесь Гильчевский, он, по своей личной инициативе, повел атаку одним из полков на высоту противника, с которой тот обстреливал и днем и ночью из винтовок и пулеметов дорогу между местечком, где был штаб дивизии, и деревней, где был штаб этого полка, – нельзя было ни ходить, ни ездить, много было потерь.
Высота эта взята была ночным штурмом, и два батальона не только заняли на ней бывшие окопы австрийцев, но и удержали их за собою, несмотря на сильный артиллерийский обстрел и неоднократные попытки противника их отбить.
Так как штурм высоты произведен был без ведома корпусного командира Федотова, то он задержал список отличившихся при этом, представленных Гильчевским к награде. Но вскоре после этого явился на смотр нового корпуса своей армии Брусилов, и для него приятной новостью оказалось, что доложил ему сам Гильчевский о взятой его полком высоте.
– Как же вы не донесли мне об этом? – обратился Брусилов к Федотову.
– Дело это у меня совершенно подготовлено, но просто по недостатку времени, ваше высокопревосходительство, – вывернулся Федотов.
Сам он никогда в окопах не бывал и теперь, идя следом за Брусиловым, видимо даже не понимал, как может командующий армией ходить там, где все время свистят над головой пули.
– Я представил к награде командира полка, а также всех отличившихся в этом деле, – не постеснялся сказать Брусилову Гильчевский, – но до сих пор однако…
– Как же вы так? – обращаясь к Федотову, перебил Гильчевского Брусилов. – Сегодня же передайте мне список представленных, – добавил он сухо, – и на будущее время прошу вас этого не делать.
И тут же, остановившись под пулями, которым то и дело кланялся Федотов, Брусилов, поняв уже, что не Федотов отважился приказать взять высоту штурмом, а этот бравый начальник дивизии, сердечно поблагодарил Гильчевского. Это была первая благодарность, какую получил от высшего начальства во всю войну боевой генерал.
III
Ливенцев за два-три дня успел познакомиться и со своей ротой и со всеми офицерами четвертого батальона, благо их было пока немного, да и весь батальон еще только составлялся тут из маршевых команд, окопы же, которые он занял, оставила ему другая часть, переведенная гораздо левее по линии фронта.
Оказалось, что на людей в эту весну не скупилась ставка, – людей в тогдашней России нашлось еще очень много, несмотря на огромные потери летом 15-го года: мало было тяжелых орудий и снарядов, мало вагонов, так как сотни тысяч их было занято под постоянное жилье беженцами, мало было даже винтовок, но людей пока хватало для того, чтобы создать подавляющее превосходство в силах на всех фронтах войны.
И люди были не плохи, – это видел и Ливенцев по своей и по другим ротам. Кроме вятских, тут были и волжане – довольно рослый и крепкий на вид народ. Наметанный уже глаз Ливенцева давал им оценку не только как окопникам, – он представлял их впереди своих окопов, с винтовками «на руку» и с ярыми лицами, какие, он помнил, были у солдат его прежней роты при атаке высоты 370 в Галиции, и говорил Обидину:
– Ничего, народ в общем бравый… Главное, много молодых, а старых гораздо меньше.
Но Обидин смотрел на него растерянно.
– Бравый, вы говорите? Это просто орда какая-то, – никакой дисциплины, – бормотал он и махал безнадежно рукой.
– Какой же вы хотели бы дисциплины? Как в казарме? Такой нельзя и требовать, ведь это – позиции, – пробовал убеждать его Ливенцев. – Тут они не перед лицом устава гарнизонной службы, а перед лицом ее величества Смерти.
– Однако без дисциплины как же перед лицом Смерти чувствовать себя? Скосит – и все!
У Обидина было при этом такое обреченное, отчаявшееся во всем лицо, что ему не нужно было и делать того слабого жеста рукой, какой он сделал, чтобы представить косу смерти над его ротой. Это заставило Ливенцева мгновенно стать на его место и тут же попятиться назад. Он сказал ему наставительно, как старший младшему, как опытный новичку:
– Разумеется, вы сами, лично вы должны себя чувствовать так, как будто и сидеть в окопах, вшей кормить, для вас ничего не значит, и в атаку идти если, – пожалуйста, сколько угодно, – вот тогда и будет у вас дисциплина в роте, а иначе откуда же она возьмется? Солдат в роте все равно, что ученик в классе: вы наблюдаете его, а он вас. Ведь вы тут живете с ним рядом и терпите то же, что и он, ведь вы не начальник дивизии, а всего только командир роты – невеликая птица. Вот и покажите ему на своем примере, как надо терпеть все солдатские нужды, тогда он вас и слушать будет и за вами куда угодно пойдет.
– А вы? – вдруг, как будто раздраженный его тоном, спросил Обидин.
– Что я? – не понял Ливенцев, так как, говоря Обидину, он старался как бы убедить самого себя.
– Вас слушают?
– Ну еще бы!
– И за вами пойдут? – качнул Обидин головой в сторону австрийских окопов.
– Непременно! – постарался убедить самого себя Ливенцев.
– Непременно?.. А зачем? – вызывающе спросил Обидин и снова махнул рукой в знак безнадежности.
Это случалось иногда раньше с Ливенцевым, что другой человек для него становился мгновенно вдруг чужим, ненужным, даже ненавистным – иногда после одного какого-нибудь слова, если только это слово выражало его неприглядную сущность, с которой он не мог мириться. Так вышло и теперь с Обидиным, который как будто воплотил в себе все дряблое, что таилось и в самом Ливенцеве под его внешней бравадой, но совершенно было ни к чему тут, где все жестко, жестоко, стихийно-бессмысленно, трагично в огромнейших масштабах, а не в личных и не в семейных, и даже не в масштабах одного города, пусть столь же населенного, как Лондон или Нью-Йорк…
Ливенцев сам как будто вырос сразу, в один этот момент, когда появилась в нем острая неприязнь к человеку располагающей внешности, с которым он ехал сюда в одном вагоне и ночевал по приезде первую ночь в одном блиндаже.
– Вы помните, у Достоевского есть капитан в среде ему чуждой, в среде атеистов, а? – спросил он резко. – Помните, как он бросил на пол свою фуражку и сказал: «Если бога нет, то какой же я капитан?» Как же вы хотите остаться жить на свете и считаться вполне порядочным человеком, если не будет России, если вместо России будет откровеннейшая немецкая какая-нибудь Остланд или как-нибудь иначе, а?
– Ничего в этом страшного не вижу, – убежденно-спокойно отозвался на его горячую тираду Обидин.
– Ну, если так, то… то, признаться вам, я не хотел бы иметь вас своим соседом по роте, – столь же убежденно сказал Ливенцев и отошел от него поспешно.
Это произошло как раз на той самой дороге, которая теперь была безопасна для ходьбы и езды, так как на некрутой высотке перед нею, версты за полторы-две, сидели теперь в окопах не гонведы, а русские солдаты другого полка той же дивизии, которые и взяли штурмом эти окопы, и сидели они там упорно, несмотря на долговременный и сильнейший артиллерийский огонь австрийцев, которые наконец примирились с потерей и умолкли.
Иногда нужны бывают толчки извне, чтобы осмыслить то, что в себе самом еще недостаточно ясно. Таким толчком и был для Ливенцева этот короткий разговор с прапорщиком, хотя и побывавшим в военной школе, но не вынесшим оттуда ничего, корме равнодушия к судьбам своей родины.
Ливенцев не знал о себе самом и многого другого, что удалось узнать только во время войны. Он не думал, например, даже и представить не мог, что он способен так стоически переносить все неслыханные и невиданные им до того неудобства фронтовой жизни и даже привыкать к ним; он не думал, что может засыпать под залпы тяжелой артиллерии и в то же время вскакивать, как резиновый, когда его будили по неотложному делу; он не думал, что в нем найдется то же самое сопротивление разным воздействиям извне, какое он с изумлением наблюдал у солдат в первые недели своей службы, – однако сопротивление это нашлось у него под тяжелым ворохом математических формул и прочего, очень многого, совершенно ненужного теперь, но что он усваивал всю свою жизнь ревностно и жадно.
Если бы ему сказали раньше, что те два-три месяца, какие он провел вне фронта, не заставят его ни возненавидеть, ни проклясть, ни даже прочно забыть фронт, – он бы ни за что не поверил, и, однако, это было именно так: в госпитале он просто скучал по тому, что осталось на фронте, хотя остались там только снега, бураны, замерзающие солдаты, «самострелы», окопы, в которых нельзя было ни сесть, ни лечь от избытка в них почвенной воды, и случайные товарищи по несчастью, среди которых не было и не могло быть друзей.
Выздоровев от раны в грудь, он не искал себе места в тылу, как делали многие другие, – его тянуло снова на фронт, и он объяснял самому себе эту тягу несколько сложно.
Человек науки, он сравнивал это с тягой ученых в неведомые страны, обозначаемые на картах белыми пятнами. В этих странах что могло ожидать путешественников? Всевозможные виды лишений, опасностей и даже смерть от чего бы то ни было. Однако ученые шли, подчиняясь тому, что было в них сильнее любви к тихому удобному кабинету, и иногда погибали, но зато белых пятен на картах мира становилось все меньше и меньше. Или он сравнивал это с наводнением, которое угрожает залить город, и вот все от мала до велика начинают работать кирками и лопатами, строить дамбу, способную защитить город. Тут нельзя отговариваться тем, что никогда не копал земли, что это гораздо лучше могут сделать грабари, привычные к земляным работам: вода не ждет, она приближается, она вот-вот хлынет и разрушит город, поэтому всякая сила нужна, хотя бы и стариков и ребят. Наконец, он сравнивал это и с созидательным трудом, в котором участвуют миллионы. Ничто в природе не пропадает, на развалинах одного воздвигается другое и непременно более совершенное… «Что такое эта война? – спрашивал он себя самого и отвечал себе: – Гигантский процесс отмирания отживших форм, понятий и представлений и зарождение других», и вспоминал при этом известные стихи:









































