Читать книгу "Игра в ящик"
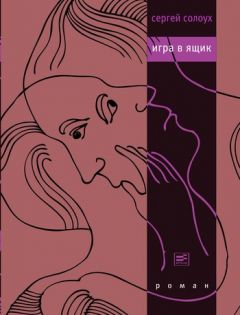
Автор книги: Сергей Солоух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
РЫБА СУКИНА I
И с этого дня он стал Сукиным. Через много лет, в неожиданный момент быстрой смены света и тьмы, когда Сукин стоял перед чернобородым доктором в светлой зале швейцарской клиники, ему вдруг с обморочным ужасом вспомнился тяжелый букет, который он нес в руке. Сладко-чернильный запах гладиолусов и клейстерная кислота, исходившая от новенького телячьего ранца. Два жирных, одуряющих аромата, между которыми качалась его белобрысая голова, маленький нос и веер ушей, неспособный развеять двухслойное, плотное облако. Его вторую руку держал в своей отец – настоящий, взрослый Сукин. Он улыбался и неприятно чмокал губами. Чужеродные запахи не угнетали Сукина-старшего, две его продолговатые ноздри, похожие на черные семечки дачного подсолнуха, самодовольно покачивались над головой маленького сына и неизвестно отчего блестели.
– А на уроке истории ты узнаешь, кто такие Трувор и Синеус, – сказал Сукин-старший с таким плотоядным наслаждением, словно речь шла о розовом с личинками цукатов пюре-манже от Картомина.
Отец был необыкновенно здоровым и физически крепким человеком, совсем непохожим на маленького сына, который из-за тяжелой болезни пропустил свой первый гимназический год и этой осенью был принят сразу во второй. Обеспокоенная жена Сукина-старшего все лето спрашивала мужа, как их сын, пухловатый, с мякишем нежных, словно нутро французской булки, ладошек, войдет в уже сложившейся круг гимназического класса, как поладит с совершенно чужими мальчиками, тертыми калачами, и воспитателями, сухарями по определению. Очень похожая на растолстевшую синичку, она приподнимала и опускала свои собственные белые руки, и от этого цветная монгольская шаль, с которой Сукина не расставалась прохладными августовскими вечерами, волновалась и желтые кисточки на широких концах восточной материи тревожно трепетали, придавая ощущению внезапно укоротившихся крыльев особую горькую остроту.
– Обойдется, обойдется, – отвечал ей муж, постукивая пальцем по стеклу барометра, за которым, словно приклеившись, черная стрелка пожизненно разделила на два равновеликих слога слово «буря».
Его радовала и даже веселила эта тревога в норном, нежно-сумеречном мире жены, и он с приятным возбуждением ждал того уже скорого момента, когда сам выведет своего сына на вольный ветер настоящей жизни. Взрослый Сукин искренне верил, что под сенью бородатого Трувора и Синеуса в рогатом островерхом шлеме, в среде шкодливых, но верных, один за всех и все за одного товарищей невозможно не заразиться той самой бойкостью и даже, может быть, молодечеством, от которых лимонный девичий оттенок щек сменяет наконец отчаянный румянец апельсина-королька. И став таким же точно, здоровым и плутоватым, как орды сверстников, его сын Сукин на школьных переменах уже не будет прятаться за дощатой дверью будочки для переодевания, как он это неизменно делал теперь каждую субботу во время игры в английский ножной мяч. Дачного варианта с матчами пять против пяти, которые этим летом стали не обыкновенно популярны среди московской камеральной публики, заседателей и адвокатов, оказавшихся неожиданно соседями по миляжковским дачам. Сразу после утреннего чая игроки, словно дамы для совместного плетения кружев, съезжались со всех окрестностей к товарищу градоначальника в Фонки, где их уже ждал, как будто заранее напыжившись, короткий боксерский бобрик лаун-теннисного газона, переделанного под ножной мяч.
И ни разу сын Сукина не попросился даже постоять на поле. Едва лишь отец выходил на поле, Сукин-младший тотчас же прятался в зеленой будочке. Тесная, с высокой крышей острым уголком, она казалась небесным яликом, и даже легкое морское головокружение начиналось, когда маленький Сукин, припадая глазом к узкой щелочке, долго, не отрываясь смотрел на бесконечно синий августовский зенит. И уходил он из убежища только тогда, когда, окончив состязание, являлся отец с партнерами переодеть ботинки. Шипованные, с акульими носами бутсы пугали Сукина-сына, словно еще одно неведомое кухонное приспособление, вроде дуршлага или толкушки, предназначенное для расчленения, измельчения и растирания в порошок.
«Может быть, ему просто холодно», – иногда думал отец, успевая среди быстрой, словно росчерк ножа, футбольной комбинации заметить, как узкая спина сына в сереньком плаще-лодене исчезает за зеленой дощатой дверью. И действительно, по утрам временами бывало свежо и зябко, особенно в дни, когда родниковая вода больших фонковских карьеров, начинавшихся сразу за узким клином березовой рощи, казалась серым сортом шведской дредноутной стали. Но если этот пушечный отлив и леденил сердце маленького Сукина, то гвардейская волна, обращенная парой острых солнечных лучей, пропущенных через себя рощей, в андреевское полотнище, как четкий сигнал мичмана, немедленно вызывала прекрасных болельщиц. К полудню они непременно съезжались посмотреть решающую баталию, помахать платками, похлопать в ладоши, а затем увезти таких необычных, потных и раскрасневшихся, братьев или мужей в чистоту и устоявшийся покой домашнего очага.
Коляски с дамами останавливались на небольшом косогоре у самой рощи, откуда был самый лучший обзор. И сразу же мокроносым бобиком начинал кружиться и виться ветер – беспардонный дачный апаш, он дергал за ленты, обрывал цветные банты и раскручивал локоны, но привычно спотыкался о серую птицу на шляпе вдовы оберполицмейстера, которая первой являлась за своим уже взрослым воспитанником, начинающим стряпчим.
Мать Сукина за полтора дачных месяца так ни разу и не отважилась посмотреть на игру мужа. Она говорила, что мельница голых мужских рук и ног, крики и мужицкие трели свистка навевают на нее безумную тоску, и это длинное-длинное «безумно» с таким ноющим средним слогом было почти единственной ее интонацией, которую сын запомнил. От этой долгой пуговичной кислоты тоже начиналось головокружение, но не синее морское, а какое-то гриппозное желтое, и хотелось немедленно сплюнуть или прополоскать рот, но ни платка, ни стакана никогда не оказывалось поблизости. Вместо матери длиннобородый кучер Антон привозил ее троюродную сестру, милую и нежную субботнюю гостью. От станции до футбольного пятачка было не больше двух верст полями вдоль реки Миляжки. И маленький Сукин, сидя в деревянной будочке, словно нежнокрылая бабочка в сверхчувствительном корпусе гигантского музыкального инструмента, ощущал, как вибрируют тонкие стенки его укрытия, откликаясь на гудок прибывающего в Фонки паровоза. И с этим звучным мажорным эхом захлопывался мрачный короб, в котором, пересыпанные мхом материнских охов, шевелились и неотвязно скрипели коровь ими жилами отцовские ботинки для ножного мяча. Тетя являлась посланцем другого мира, в котором не существовало ничего вечного, как черный гвоздь в стене над изголовьем дачной кровати, – ни материнской слабости, ни отцовской силы. Она являлась миниатюрным совершенством без запаха и цвета, округлой пасхальной куколкой, из которой, казалось Сукину, лишь стоит с ней похристоваться, тотчас же вылетит чудесный, легче воздуха мотылек. Но похристоваться Сукину не разрешали, лишь только чинно, шаркнув ножкой, принять очередной подарок, такой же прекрасный и загадочный, как сама тетя. Цветастый сборник новых двухмерных крестословиц Сильвестрова или голландские «пузеля», как было принято называть в тот год у Пето многофигурные заморские головоломки.
Почти всегда, приехав со станции, тетя выходила из коляски и, чтобы освежиться после долгого путешествия сидя, прохаживалась вдоль игрового поля под руку со взрослой дочерью податного инспектора, оказавшегося вдруг, несмотря на естественную в его возрасте грузность, изобретательным хавбеком. И каким-то странным, необъяснимым образом всякий раз, когда две женщины проходили мимо зеленой будочки для переодевания, дверь ее сама собой приоткрывалась, и бледное личико Сукина-младшего в полумраке невозможно было не заметить, как невозможно не заметить светлячка в ночи.
– Ах, вот ты где, малыш, – восклицала тетя, – в зеленом теремке!
И после этих слов так пристально и ласково смотрела на мальчика, что от наплыва странного и в то же время удивительно желанного смущения Сукин немедленно затворял дверь своей зеленой рубки, притянув ее за металлический крючок.
Никакой лодочки или теремка во дворе гимназии не оказалось. Одноногий швейцар с орденскими лентами на груди жил в маленькой комнатке подле ворот, и виолончельная будочка ему была не нужна. Позднее Сукин узнал, что спрятаться от учителей и одноклассников можно в одной из арок, правой или левой, где горкой сложены сухие и звонкие поленья. Там, на дровах он и просидел, прячась от все того же гулкого и неотвязного резинового мяча, около двухсот пятидесяти больших перемен, покуда жарким летом тринадцатого года не был увезен за границу. От круглых березовых чурбачков всегда шел ландышевый, речной аромат, и в полумраке арки они тихонько светились, как иллюминаторы «Наутилуса» капитана Немо. Но в первый свой день Сукин не видел ни арок, ни спасительных молочно-кисельных чурочек и ощущал себя абсолютно беспомощным и беззащитным в четырехугольном провале гимназического двора, над которым зло пузырилось синее холодное небо, распоротое белым, быстро расползавшимся шрамом перистого облака.
Сукину казалось, что все в этой каменной коробке с крышкой, сорванной ветром, знают о его присутствии. По запаху, как доктора и сестры самых дальних и невинных отделений уездной больницы по особому, тонкому как комариный писк, амбре говяжьего бульона догадываются о поступлении в инфекционный покой настоящего прокаженного. Тяжелая и жирная пыльца гладиолусов осталась на нем даже после того, как сам букет Сукин с угрюмым полупоклоном, щелкнув шейными позвонками на манер сломанной станционной марионетки, вручил своей тете. Почему-то о том, что она, зеленоглазая с мягкими и нежными губами, захотела сама благословить Сукина-младшего в его первый гимназический день, Сукин-старший вспомнил только тогда, когда попрощавшись с женой у парадного вместе с сыном вышел из дома и сел в пролетку. И, как всегда в такие моменты, когда вдруг исполнялось его самое сокровенное и совершенно невозможное желание, Сукину с особой остротой хотелось убежать и спрятаться, лишь оттого, что шумно дышащий, благоухающий вечным самодовольством отец станет неизбежным свидетелем грядущего чуда.
Сукин-старший расплатился с извозчиком на углу Гоголевского, завернул в огромный цветочный магазин Бабакидзе и долго выбирал букет, покуда маленький Сукин с желтым ранцем на плечах, словно с желтой обезьянкой, притихшей от разнообразия знакомых соблазнов, стоял посреди влажных искусственных тропиков и рассматривал мраморный пол у себя под ногами. Приказчик предложил ему сесть на маленькую скамеечку в углу возле кассы, но Сукин только махнул рукой, не подняв головы. Мучительно, до обморочной черноты в глазах, хотелось разбежаться по шашечным клеткам пола и толкнуть в спину отца, взрослого Сукина, чтобы тот, взмахнув руками, нырнул серой птицей в зеленое вязкое болото стеблей и исчез в нем навсегда вместе с блестящим каучуком своих бицепсов, трицепсов и гармонично развитой мухобойкой большой дельтовидной мышцы.
Что-то невероятно липкое и гадкое мешало дышать маленькому Сукину, но просто, как в детстве, упасть навзничь, завыть, застучать ногами и руками, изгоняя из комнаты синих чертиков во главе с матерью и отцом, он уже не мог. Он стал в одночасье другим, гимназистом, Сукиным, и должен был теперь молча терпеть, сносить безропотно и покорно целые армии синих, зеленых или калейдоскопически меняющих, как сейчас, запах и цвет чертиков. И только одно счастливо не изменилось, осталось с ним в этом новом царстве перемежающихся публичных извержений – одышки, отрыжки и флатуленции, – чудесная, легкая тетя, вокруг которой всегда, в любую погоду играют в пятнашки и прятки невесомые солнечные блики, бесплотные и безухие зайчики.
В тот памятный первый гимназический день тетя, словно фея из датской сказки, возникла изящной фигурной пирамидкой в очередном конусе сентябрьского света, на которые оказалась по осеннему щедра уже дырявая, но еще вполне зеленая листва Гоголевского бульвара. Маленький пудель Бимон путался в ногах у тети и нарушал волшебное равновесие разновеликих объемов устоявшейся череды света и тени. Он, словно сломанный скаутский компас, непрерывно тыкался стриженой мордой во все стороны света лишь для того, чтобы с обреченностью идиота убеждаться снова и снова в постоянстве длины и прочности своего поводка. Неспособный, тем не менее, угомониться, пес все вставал на задние лапы цирковым коньком и наконец, увидев прямо перед собой отца и сына Сукиных, нелепо дернулся и как-то совсем по-птичьи тявкнул.
– Фу. Какая чудовищная безвкусица, – сказал тетя, легко освобождая Сукина-младшего от душивших его гладиолусов всех оттенков запекшейся слюны и сукровицы. – Как вы додумались, Сукин, такое всучить ребенку? – продолжала она, как-то по особому глядя на неожиданно раскрасневшегося отца.
Тот странно, совершенно по-собачьи потупился, а сын неожиданно взял и поцеловал тетину руку.
– Ах ты, мой милый, – рассмеялась тетя и ласково прижала холодное ухо Сукина к певучему шелку своего платья. Потом она погладила его по голове и, протянув колечко кожаного поводка, сказала: – Своди, мой хороший, Бима под липы, а то он, смотри, бедняжка, едва тебя сегодня дождался.
Собачьи уши и пятна света на траве – вот что осталось в памяти от этого мига освобождения. И состоявшая в какой-то почти музыкальной гармонии с плюшевым, леопардо-тигровым миром, полосатая будочка городового, которую Сукин различал там, впереди, за деревьями, где Гоголевский бульвар круглым лбом гранитных ступеней тыкался в булыжную неоформившуюся мелюзгу Пречистенки. В черно-белую будочку, словно в узкий и длинный ящик международной авиабандероли, хотелось заползти, закрыться и запечататься почтовым сургучом и синею мастикой. Наверное, так бы Сукин и сделал, прекратился совсем, словно шелест листвы под ногами, если бы не странная стыдливая боязнь оставить зеленоглазую нежную тетю один на один с вечно гнусно причмокивающим и что-то насвистывающим отцом. Скованный этой удивительной, до холодных мурашек пробирающей ответственностью, Сукин стоял на траве, опустив плечи, и на мгновение было сгинувшая вместе со всеми прочими мерзостями дня кислятина нового ранца вновь объявилась и стала наползать ему тухлым жабьим брюхом на шею, уши и затылок.
Отец и тетя подошли к Сукину сами.
– Пойдем, а то опоздаем, – сухо сказал Сукин-старший и взял сына за мягкую бескровную руку.
– А это тебе, – ласково прошептала тетя с другой стороны и вложила ему в свободную руку небольшую продолговатую коробочку, обернутую блестящей серебряной бумагой, которой перед Пасхой и Рождеством, словно огромные нелетающие стрекозы крыльями, всегда шуршат проворные приказчики у Мер Детуш в Борисоглебском.
Вечером, когда отец вошел к нему пожелать спокойной ночи, как всегда посмеиваясь, шевеля губами и потирая руки, смазанные на ночь прозрачным бельгийским кремом, Сукин уже успел спрятать волшебную коробочку под подушку.
– Да, кстати, а что тебя подарила тетя? – спросил отец, по обыкновению оставляя жаркие и отвратительные капли своего дыхания на впалом виске сына.
– Конфеты, – быстро ответил Сукин и отвернулся к стене.
Он проснулся на следующее утро с чувством непонятного волнения. И снова быстро пересчитал легкие черные костяшки из тетиной коробочки. Ровно двадцать восемь. Отсутствие каких-либо понятных букв или рисунков, которое так поразило Сукина вчера при первом осмотре, теперь, после долгого, но странного, волнообразного, словно на длинной шелковой нитке, которую ощущаешь на всем протяжении подвешенного в пространстве и во времени сна, показалось ему совершенно естественным. Словно там, в глубине этой только что оборвавшейся череды полудремы-полуяви, была открыта ему какая-то поражающая своей простотой и гармонией тайна, от которой при пробуждении остались только вот эти двадцать восемь костяшек-ключей. И сладка была неслыханная уверенность, само по себе это чувство, впервые может быть в жизни посетившее Сукина, что однажды он, именно он, никто иной, обязательно сложит эти холодные и плоские божьи коровки в один, все объясняющий на этом свете узор черного и белого.
Следующую субботу, день еженедельного тетиного визита, Сукин ждал с особым настроением, в котором предчувствие далекого и таинственного пути мешалось с каким-то острым до холодных иголочек в кончиках пальцев стеснением.
«Я только спрошу ее о правилах. Я только узнаю, как начать», – думал маленький Сукин, перепрятывая коробочку с костяшками из-под подушки в верхний ящик большого письменного стола. Так было небезопасно, но удобнее непринужденно и будто бы случайно, во время отвлеченного разговора достать, cловно перепутав с упаковкой прошлогодних так и не давшихся ему «пузелей». Но день, который он ждал, то замирая в дальнем углу спальни у портьеры, то в необыкновенном возбуждении поминутно вставая на цыпочки у края шторы, не заладился с самого начала.
За завтраком отец был необыкновенно жовиален, кидался крошками и рассказывал о том, как в четверг мировой судья Борцевич прокатил его на своем собственном новеньком даймлере «Дитрихс». Отец говорил о том, как весело, должно быть, сидя за рулем своего авто, прямо после зав трака катить на Воробьевы горы, где все рябины в красных гроздьях поздних ягод, и, громко сообщая это с обычными своими прищуриваниями и причмокиваниями, он одной крошкой попал прямо в глубокий вырез на груди тети. Крошка мгновенно провалилась в нежную складку, а Сукин-старший смачно и гадко чмокнул пустоту перед своими губами. Мать молчала – и вдруг после второго блюда встала и, стараясь скрыть дрожащее лицо, повторяя скороговоркой, что «это ничего, ничего, сейчас пройдет», – поспешно вышла. Отец бросил салфетку на стол, хрустнул пальцами и с неожиданным удовлетворением сказал, обращаясь к тете, смертельно бледной, но со щеками, горящими, словно нежный, воздушный рисунок, аппликацией сошедший с немецкого фарфора:
– Тогда, может быть, поедем вдвоем?
– Как вы неизящны, Сукин. Банальны и пошлы, – бросила тетя, резко и неожиданно вставая. – Просто свинья. – Пурпурное пятно от опрокинувшегося на белоснежную скатерть бокала вина казалось уксусным концентратом ее румянца. – И просто недостойны мальчика, который вам достался. Ужасно.
С этими словами она вышла из столовой, так же стремительно и гордо, как полминуты тому назад поднялась из-за стола. После ее ухода отец некоторое время неподвижно сидел, хмуро глядя на своего маленького сына, но что-то одновременно с этим негромко и противно сквозь зубы насвистывая из «Травиаты». Потом он встал и, опрокинув теперь уже второй бокал на скатерть, в свою очередь вышел. Сукин никогда не узнал, что именно произошло сегодня, но, проходя к себе по коридору, слышал из спальни матери тихое всхлипывание и язвительный голос отца, который громко повторял слово «фантазия». И с этими назойливыми, словно толкавшими его в спину «тазиями, тазиями» он живо представил себе горячие пульки слюны, что вылетают сейчас у отца изо рта и черными точками прокалывают белое платье матери. И, как всегда в припадке брезгливости и отвращения, Сукин долго тер у себя в спальне лицо и руки влажной финской ароматической салфеткой. А потом со счастливым умилением думал о том, что и прекрасная, нежная тетя сейчас, наверное, делает то же самое, но только, в отличие от него, обреченного Сукина, самый последний раз в жизни. И от этих сладких мыслей теплые слезы бежали у него по щекам.
А в гимназии он не расплакался ни разу, не расплакался даже тогда, когда в уборной общими усилиями пытались вогнуть его голову в низкую раковину, где застыли желтые пузыри. Но настоящая пытка началась вовсе не после того, как вдруг стало ясно, что Сукин упорно и безнадежно пишет в диктантах «зделать» и «здача», а в элементарном предложении «это ложь, что в театре нет лож» оставляет пустые места на словах «ложь» и «лож». По-настоящему его возненавидели белобрысые одноклассники тогда, когда внезапно и со всей определенностью выяснилось, что он, Сукин, ни за что не хочет быть таким, как все. Он просто отказался в свой черед на большой перемене воткнуть специально загнутую булавку в стул гугнивого и вечно сморкающегося географа.
– Ты же инфузория, Сукин, туфелька, – словно все разом и в одночасье взбесившись, кричали вокруг него школьные товарищи.
И от этих одновременно непонятных и оглушительно громких слов Сукин весь сжался, словно беззащитный малиновый фрукт на дачном белом блюдечке, он высох, сморщился, приклеился обезвоженой плотью к собственному позвоночнику, как к длинной китайской косточке, и только желтый компотный свет сочился через его полуприкрытые веки.
– Сукин! Сукин! – визгливо продолжали орать потные и неопрятные дети, толкали в спину, дергали за рукава курточки, а Сукин все сжимался и сжимался, становился галечкой, песчинкой, невесомым атомом, но при этом совсем исчезнуть, как он уже не раз пытался в своей жизни, стать тишиной и пустотой все же не мог.
Ему мешало собственное горло, маленькая трубочка, которая не смела или не хотела закрыться, стать лакированной палочкой фокусника, сухим беззвучным эбонитом.
И даже кипяток звонка, обычно мгновенно смывающий и растворяющий все в школьном коридоре, не сотворил чуда исчезновения. Он просто подхватил ослепшего и оглохшего Сукина, развернул, бросил в класс, втиснул между столешницей и скамейкой парты, а сверху, словно для верности, придавил ватной духотой комнаты.
В апреле отец стал регулярно брать у Ваузен на Верхнекалитинском ипподроме уроки автомобильной езды. За обедом он восторженно делился своими впечатлениями, а в конце мая рассчитывал на поощрительные купоны императорского Автодора купить уже свой собственный «Рено-Маго». Мать, за первый гимназический год Сукина побелевшая и погрузневшая настолько, что теперь уже напоминала скорее миниатюрную индюшку, чем пухлую синичку, тихонько вздыхала и в сером воздушном облаке оренбургской шали казалась мухой, любые, еще возможные движения конечностей которой уже неразличимы в плотном, сковавшем ее коконе паутины. За эти месяцы к ее давнему и безнадежному отчуждению от мужа прибавилось странное, с оттенком горечи и неотвратимости, отчуждение от сына, как будто он уплыл куда-та, ушел, и любила она не этого замкнутого, холодного, молча приносящего в дом четвертные «неуды» мальчика, а того маленького, теплого, живого ребенка, который, чуть что, кидался плашмя на пол и кричал, суча ногами.
Мать, говорила, что тоскует по прозрачному воздуху Европы. Ей казалось, что жидкая, чужая сирень на станциях, неживые тюльпанообразные лампочки в номере курортной гостиницы, заголовки иностранных газет, которые скользят мимо сознания, не впиваясь в него, подобно русским, острой иглой ненужного смысла, освободят ее нарастающую и такую желанную летаргию от боли, печали и горечи. В первых числах мая, сразу после того, как дом запестрел проспектами автомобильных салонов, она уехала, увозя с собой остатки покоя и эти замирания в груди, чувство удушья, – быть может, грудная жаба или же просто мигрень, а то и нервы определенного и неизбежного периода, на что с глумливой бесцеремонностью неоднократно намекал ей муж. Она уехала, не писала, и Сукин-старший повеселел, завел себе привычку заниматься гимнастикой у открытого окна в большой гостиной, а в середине мая въехал во двор, самостоятельно управляя французским спортивным ландолетом. На следующий день Сукин-сын узнал тетин адрес.
В первое же утро после материнского отъезда, когда гробовая тишина столовой еще пугала возможностью рассыпаться от сомнамбулических, мельхиоровых камертонов, обозначающих процесс приготовления какао, едва проснувшись, Сукин неожиданно для самого себя принял неслыханное решение. В школу он обыкновенно ездил на извозчике, но в то утро, точно так же, как в прошлом году отец, остановил пролетку в начале Гоголевского, расплатился и сошел. Весенний бульвар казался легче осеннего, но удивительным образом при этом напоминал тот давний, уставленный кубами и конусами солнечного света. Несбыточное и от того особенно острое и сладкое желание увидеть тетю, которая перестала бывать в родительском доме с того давнего, словно непрожеванным куском хлеба застрявшего в памяти дня опрокинутых бокалов, так захватило Сукина, что он три раза прошелся вдоль солнечных арок, стел и обелисков туда и обратно, от гаража извозчиков на Арбатской площади до будочки городового с видом на Пречистенку. Но собачий мокроносый компас ни разу не возник впереди счастливым указателем, и тогда, словно подкошенный опустошением и усталостью, совершенно необъяснимой незначительностью и легкостью его усилий, Сукин присел на край широкой, словно палуба прогулочного ботика, бульварной скамейки. Майское молочное тепло, как будто терпеливо дожидавшееся полной остановки всех колебаний и движений в своей среде, теперь всецело обняло Сукина и показалось: вот сейчас-то и растворит его навеки, счастливо разложив в невидимые миру стыд и счастье. В какой-то момент Сукину даже почудилось, что его действительно не стало на белом свете, поэтому с таким изумлением он обнаружил, что, между тем, прекрасно слышит негромкие голоса, доносящиеся с другого края длинной скамьи.
Четыре благообразных старика в мундирах с александровским обшлагами склонились над широкой лакированной дощечкой, заправленной одним своим концом в щель между узкими плахами покатой спинки скамьи, таким ловким образом, что образовалось нечто вроде полочки или столика.
– Пять дуплей, – сказал один из стариков, тот, что стоял на травке за спинкой скамьи.
Он еще раз быстро посмотрел в свою лодочкой сложенную морщинистую ладонь, словно дачный грязнуля на только что пойманную сороконожку, а затем, опрокинув руку на походный столик, как будто бы выставляя свою грушево-яблочную добычу для всеобщего обозрения, весело добавил:
– Перезамес.
Стук согласно падающих на лакированную фанеру костяшек поразил Сукина в самое сердце. Именно эта великая, однажды во сне открывшаяся ему и ускользнувшая при свете дня тайна игры в черное и белое так влекла Сукина к исчезнувшей из его жизни тете. Он с мучительным беспокойством смотрел на четырех стариков, так близко от него искавших, быть может, главную и единственную загадку его собственной жизни, и от одной только мысли о том, что эта мистическая ключевая комбинация черного и белого может открыться случайно кому-то чужому, такой ужас и нестерпимый холод охватывал все его тело, как будто он зимой стоял под аркой школы без шапки и пальто. Последующая неделя ежеутренних променадов под кронами лип на Гоголевском избавила Сукина от страха перед стариками на скамейках, которых он обнаруживал теперь не только у ворот на Сивцев Вражек, но и возле Гагаринского фонтанчика, и даже на ступенях Нащокинской площадки. Порой Сукин даже близко подходил к ним, заглядывал в щели между склоненными спинами и головами и, слыша неизменные, как «Отче наш»: «Лепи горбатого… Отбил конца», совершенно уже успокаивался от мысли, что все это профаны, каким-то образом лишь заучившие набор банальных, ни к чему не приводящих, сугубо ритуальных действий. Настоящий ключ и правила ему могла открыть одна лишь нежная и легкая как воздух тетя. И хотя в один из дней он понял самостоятельно, что ставить кости надо плечо к плечу с одним и тем же узором, загадку черно-белой змейки это никак не упростило. Вначале Сукин просто испугался, словно нечаянно подхватил от стариков в усыпанных перхотью мундирах что-то вроде циничной болезни, потерял тот чистый свет невинности, с которым только и можно было начинать давно уже задуманный разговор с милой и солнечной тетей. Но затем другая, совершенно умиротворяющая мысль пришла ему в голову, вновь вернув в июльские тенета того давнего ускользнувшего из сознания счастливого сна. «Простое умение ходить вовсе не открывает тайну достижения цели, – думал Сукин. – Это ведь так. А простое умение бегать не делает никого футболистом, даже отца». Тем не менее, на всякий случай, в будущем он решил больше не приближаться к покатым спинам стариков, которые деловито и грубо стучали костями под липами Гоголевского бульвара. А в среду отец ему сам сказал адрес тети.
Когда в этот день около четырех Сукин вернулся домой, лицо у отца было похоже на горячую плошку сельской солянки, в которой двумя мокрыми маслинами плавали блестящие глаза.
– Звонил воспитатель из гимназии, – сказал отец, неестественно широко и, казалось, не без тайного удовольствия открывая свой прокурорский, заполненный белым и красным рот. – Говорят, ты уже вторую неделю не ходишь на занятия, сказавшись больным. Так вот, изволь объяснить, чем ты болен.
Сукин с тяжелым, до сих пор слегка подванивающим дубильными леденцами ранцем на узких плечах уставился в пол, пытаясь понять, мог ли кто-то из уличных слюнявых стариков в припудренных перхотью и табаком мундирах оказаться отставным секретарем или судьей, всегда готовым опознать и выдать сына своему бывшему коллеге, взрослому Сукину.
– Я здоров, – наконец тускло отозвался Сукин, ничего для себя не решив и лишь еще сильнее, как будто в ожидании резкой и неизбежной затрещины, склонив коротко, на английский спортивный манер, всегда остриженную голову.
– Это хорошо, что здоров, – в ответ прошуршал вместо затрещины веселый сквознячок слов. Словно любимый мотивчик отцовской «Травиаты» не зазвучал, а нарисовался в воздухе невидимыми музыкальными мушками на нотном стане майской живой прохлады.
– Я понимаю, – сказал отец под все тот же неслышимый, лишь осязаемый аккомпанемент ветерка, – роспуск уже так близко, и лень одолевает. К тому же прекрасная погода.
– Да, – хрипло уронил Сукин, все еще не веря своим ушам.
– Ты, наверное, и завтра хотел бы прогулять? – продолжал отец, по-настоящему счастливый от того, что его сын, маленький Сукин, наверное, впервые в жизни нашалил, совершил какой-то дерзкий, действительно лихой поступок, попался, и вот теперь стоит, готовый самым естественным образом войти в круг неразрывной мужской поруки, надежным, молчаливым и все понимающим звеном.
– На вот, возьми, – сказал отец, подавая сыну узкий запечатанный почтовый конверт. – Будешь завтра прогуливаться, занеси между делом. Это совсем рядом с твоей гимназией, в Большом Староконюшенном.









































