Читать книгу "Игра в ящик"
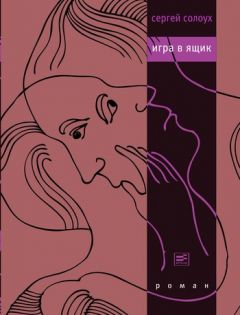
Автор книги: Сергей Солоух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Что-то, наверное, было в этом нехорошее, даже, быть может, обидное, но Катцу вдруг от этого ясного ощущения легкой, но очевидной издевки стало внезапно необыкновенно хорошо. Он вдруг понял, удостоверился и все, что его позвали вовсе не для того, чтобы немедленно прогнать. Он будет, останется со всеми, а значит, и с Олечкой.
И таким восклицательным, ослепительным знаком эта мысль обернулась в мозгу Борька, что он даже не к месту изумился, когда, сделав всем ручкой, Оля потопала с компанией девиц на второй этаж барского дома. В то время как мужская часть лаборатории перспективных источников энергии закончила свой путь тут же, на первом этаже, в узкой боковой комнате, плотно заставленной железными кроватями. Две сетки у первого и второго окна заняли Доронин с Росляковым, Зверев бросил свою сумку в чистом углу у белой в мелкий синий цветочек изразцовой печи, а Боре досталось скрипучая пружина у крашеной фанерной стены-самоделки, как-то неровно и даже косо рассекавшая и свеженький линолеум пола, и стародавнюю шахматку темных резных кессонов потолка. Не очень-то уютно, но для огневой точки лучшего расположения и не выбрать. Все вновь как на ладони – и Зверев, и Росляков, и Доронин.
Последний неожиданно оказался старшим заезда, так что, быстро организовав матрасы и белье, ушел в дирекцию получать общий наряд. А Зверев с Росляковым остались. Под самым носом Катца они валялись на свежезастеленных кроватях и обсуждали некоторые актуальные вопросы общей теории чисел.
– Вот смотри, – говорил Зверев, болтая в воздухе зеленым вязаным носком, – тут все находится в простейших скобках. Как дважды два. Классическая задача с конечными ограничениями. От двухсот до трехсот. Такой диапазон. Ниже – недобор. Выше – перебор.
– Схоластика, – не соглашался Росляков, – в реальном анализе надо идти от этой самой реальности. А что ее определяет? Подумай! Внутренние условия или внешние ограничения? Естественно, внешние ограничения. Предмет. А что нас возвращает к предмету? Размерность. Правильно? Правильно. Элементарная единица измерения. А она у нас в чем? В полбанках. Верно? Верно. Вот тебе и простая, самоочевидная логика расчета. На двоих – одна. На троих – две. На четверых – три…
– То есть поллитра на нос, если аргумент стремится к бесконечности? – вязаный носок на мгновение замер зеленым факелом, все пальцы в потолок. – Нет, – разрешил сомнения в общении с высоким, – без сблева тогда не обойтись. А я не любитель. На фиг, на фиг ваши красивые неопределенности, я за физическую константу…
Естественнонаучный спор двух молодых ученых продолжился.
Между тем, сугубому гуманитарию Борису Катцу безо всяких хитрых рядов Фурье и прочих фокусов с плюсами и минусами пошлейшим образом хотелось жрать. Ранеток в автобусе ему не досталось, от семечек он отказался, а конфетку «Белочка», которую Борьку, как и все прочим, прощаясь на лестнице, вручила Олечка, он не слопал, подобно своим товарищам, а положил в карман. Опыт прошлогодней поездки в эти же места предсказывал поход в совхозную столовую сразу после раздачи подушек с одеялами, и Боря решил не портить аппетит. Только, увы, похоже, барский дом, в отличие от школы у железнодорожных путей, не располагал ни к суете, ни к коллективным действиям. Никто в столовку не собирался, а в одиночку двинуть Боря опасался. Его однажды уже позвали и подождали, второй раз чудо могло и не повториться.
– Хорошо, – вновь вскинулись топориком морские водоросли носка, – я вижу, что теоретически спор неразрешим. Предлагаю в таком случае эксперимент. Строго научный подход. Все чисто. Сегодня берем по-моему, а завтра по-твоему… Семинар-обсуждение назначаем на утро среды…
– Предлагаю очередность решить жребием, – на соседней койке, как и следовало ожидать, немедленно родилось контрпредложение.
Жребием! Борек прикрыл глаза. Пора притвориться спящим. Дебаты близились к концу, причем к какому-то определенно игровому, к спичкам, бумажкам или, чего уже совсем не хотелось, могли и вовсе разрешиться обычными костями, белыми точками на черном. Сначала будут открывать на удачу, а потом прикажут вставать, садиться и играть. Боря прекрасно помнил, еще бы, как птица грач, злокозненный Вайс напутствовал боевую исследовательскую часть родного коллектива.
– Времени там будет навалом, так что давайте. Зря не теряйте. Подтяните аспиранта. Хоть дубли его считать научите.
Катц уже понял, осознал, что путь к Олечкиному сердцу будет отмечен немыслимыми унижениями, но раньше времени и главное без толка он принимать их не был намерен. Дудки. Одна беда: тупо и стойко, как дойной коровушке, хотелось есть. Не открывая прикрытых глаз, беззвучно и мелко шевеля пальцами руки, подложенной под щеку, Боря распатронил дареную «Белочку» и ловко втянул конфетку за щеку. Еда. От липкого и сладкого сначала все склеилось во рту, потом спаялись веки, и наконец, сварился мозг. Серенькая жидкая субстанция створожилась, как Б. А. Катц, ее стойкий носитель, и не сопротивлялась. Накануне глупо и бессмысленно ворочался всю ночь, и вот теперь, когда часы пробили и объект стал не воображаемым, а вполне реальным, материальным и требовал внимания, внимания и еще раз внимания, ушел с поста. Бдеть перестал. Не зря, похоже, Л. Н. Вайс так опасался ходить в разведку с Б. А. Катцем. Имел все основания не доверять голубчику.
Впрочем, спал в шоколадно-ореховом угаре Борис не долго и, к его чести, очнулся вовремя. Уже было списанный, в труху и отруби зачисленный мозг честно и точно в срок наслал отменно мерзкий, мгновенно отрезвляющий сон. Олечка явилась вдруг перед мысленным взором Б. А. Катца, прекрасная дочь профессора Прохорова и, сладко жмурясь, произнесла:
– Вот же бля! – прямо Боре в глаза, прямо в лицо ему дыхнула. – Бля на хуй, в жопу хуй.
Боря открыл глаза. Голова Олечки мгновенно отпрянула. Метнулась бубликом к середине узкой комнатки, заставленной больничными койками, соединилась с телом девушки, развернулась к Боре ухом, а носом к неизвестно откуда взявшемуся Доронину и громко, вот что ужасно, повторила то же самое с той же мерзкой, наигнуснейшей интонацией:
– Худо, бля! Худо, бля!
– Да. Худобля расклинился. Расклинился, и ни в какую, – кивнул в ответ Доронин, сурово подтвердил, косая сажень в сорочьем свитере, – ничего не получается.
Совхозный бригадир, местный казак Иван Михайлович Худобля, наотрез отказался ставить девушку на разгрузочно-погрузочные работы в картофелехранилище. В поле, только в поле. На свежий воздух. Отделил Олечку, отрезал от Зверева, Доронина, Рослякова и Б. А. Катца. И в самом деле, Худобля.
Всем стало смешно. И лишь одного Борю вдруг охватил ужас, необъяснимый страх перед этой местностью, в которой, что ни слово, ни название, то ругательство. Да не простое, а с намеком. И вновь ему захотелось, как несколько часов назад в автобусе, сойти, слезть, кинуться куда глаза глядят, но все ходы и выходы были перекрыты. В дверях плечистым молодцом замер Доронин, а окна стерегли два пересвета – Росляков и Зверев.
– Ты, Борис, водку-то пьешь? – спросил один из них, вставая зелеными, цвета поздних февральских соплей, носками на линолеум. – Или конфетки только жаришь втихаря?
Перспектива очередной научной дискуссии, аргументированное ниспровержение этой явно местным колоритом и настроением навеянной альтернативы совсем не вдохновляло аспиранта Катца, и он без промедления ответил.
– Я пью, конечно. На природе. В компании.
– Ну, давай тогда трояк, – слюда мокрой оттепели дружелюбно придвинулась к изголовью Бориной кровати. – Не задерживай маршрутное такси.
Боря полез за кошельком. Любовь к Олечке вновь требовала серьезных капвложений. Сражение за сердце дочери профессора оставалось и здесь, в деревне, на пленэре, высокозатратным предприятием. И что-то должен был сделать Борис, срочно, очень быстро, в какое-то романтическое, невесомое русло перевести суровый событийный ряд. В нечто нежное и дымчатое переложить и переплавить его животную и грубую словарную основу. И сделать это как можно скорее, прямо сегодня, может быть немедленно, потому что червонца, взятого из дома, не хватит на долгую, занудную осаду. Штурм! Немедленный отчаянный бросок. Он, Боря, должен, обязан совершить чудо и этим чудом решительно прервать бессмысленную череду расходов и бесконечных унижений.
Между тем коллеги, любители поспорить, отправились за водкой. Доронин с очередной книжкой завалился на кровать. А Олечка ушла наверх, к себе. Весь трепеща, как зайчик, от принятого мужественного и твердого решения, Боря быстро, про себя скороговоркой досчитал до двадцати пяти и, дольше маскировочную паузу держать не в силах, кинулся за девушкой. Но птички и след простыл. Помыкавшись немного в темном коридоре, Катц пару раз прошелся вверх и вниз по лестнице с точеными столбиками и резными перилами, но вступить на женскую половину – второй этаж – так и не решился. Вместо этого он вышел на крыльцо и сел на совсем простые, явно совхозным, а не барским плотником выструганные поручни. Деревья вокруг дома совещались, а между кудрявыми, размеренно и вдумчиво шевелящимися верхушками бессмысленно, как простейшее одноклеточное туфелька, меняло очертанье небо. Все еще ощущавший себя мужчиной Боря дал Оле Прохоровой на выбор два варианта выхода к нему: либо из теплого дома с очередной «Белочкой» в руке, либо из прохладного, еще по преимуществу зеленого леса с травинкой между губ. Но мир явно не хотел управляться волею или быть представлением смешного аспиранта-полиглота, и на тропике между стволов появилась не быстроглазая Олечка Прохорова, а рыжая Ленка Мелехина. Самая навязчивая и беспардонная из всех общажных первогодков.
– Борис, – сказал эта всегда чем-то взволнованная особа, раскрывая ладонь и демонстрируя три крупных, ядреных желудя, – это дубовый лес. Ты представляешь? Кругом дубы. Дубы.
Бамбуковый позвоночник Катца тоскливо хрустнул. Битва вновь предстояла неравная.
– А там, дальше, за излучиной реки – старинное городище. Эти самые Крутицы. Так здорово. Как город майя, только невидимый. Представляешь себе? – горячо продолжала рыжая дура. – Тысячу лет назад здесь был центр всех этих земель. Здорово, да? А теперь лишь холм. Лежит тут, прямо как, помнишь, удав у Экзюпери. В «Маленьком принце». Только не со слоном, а с городом внутри. Поразительно. Все переваривающее время. Прямо живой образ, вот ведь, да? Совсем гладкая гора. – Ленка вдруг загрустила. – Только ее лыжники изуродовали своим подъемником. – Но тут же снова воспряла духом: – Хочешь, можно пойти посмотреть. Тут километра три, не больше. Ну, может быть, пять. Совсем рядом.
Нет, извините. Удав, пардон, Экзюпери – это уже перебор. Совсем не Борина грузоподъемность. Справиться бы с волосатоногой гнидой из Толкина. Сорок кг без трубочки.
– Знаешь что? – сказал Катц, сползая с поручня и мягко каблуками стукаясь о крыльцо. – Меня же друзья ждут. Я так тут. На минутку вышел. Посмотреть, нет ли дождя. Нет ведь?
– Нет, – честно признала силу света Ленка.
– Ну вот, – обрадовался Боря и в тут же секунду исчез в темном дверном проеме. Тоска и безнадежность, плюс всеобщая начитанность научных кадров.
И все же на живой образ времени пришлось в этот день Борьку взглянуть, позырить с безопасного расстояния. Издалека.
– Ну и как тут? Ты говорила, что каталась здесь? – спросил Зверев Олечку, когда вся компания, нагруженная съестным и горячительным, спускалась по травяным лбам высоких откосов к ждущей пикника реке Оке.
– Ничего, – ответила Олечка, остановившись и сквозь огромную лесную прореху посмотрев на покатый одинокий холм, словно зеленый фурункул, вздувшийся на мокром месте там, вдали, возле речной излучины, – для новичков самое то. Подъемник – по десять копеек с ботинка. Только работает через раз. Можно и не угадать.
Катц тоже с приятной лесной высоты посмотрел на шляпу фокусника, накрывшую однажды древний город. Действительно, зеленая. От времени потерявшая и вид, и форму. Труба подъемника торчала на верхушке черным, криво насаженным гвоздем, и Боре даже показалось, что он видит круглые дыры отверстий в шляпке-колесе. No need to combine flywheel with vacuum containers…
Это была судьбоносная проверка остроты зрения, потому что все на берегу Оки, на сером одеяле, расстеленном у серой воды, все шло не так, начиная с особой пахучей местной водки и кончая мягкой, как собачий кал, сосиской из консервной банки. Роскошный провиант из профессорского спецпайка кишки не принимали, а водка из пустого желудка, наоборот, немедленно поступала в голову. Боря тяжелел и суровел на глазах. И разговор вокруг шел о каких-то тяжелых, неприятных и непонятных Боре предметах, пусть даже и без употребления кратких слов на буквы п, х или б, но только никакой возможности он не видел внезапно и к месту вставить что-нибудь воздушное в беседу, разговор, томительное, удивительное, понятное одной лишь только Олечке, ну например:
– А знаете, вообще-то, each shroud is out of touch with a flywheel, и потому, честное слово, Олечка, no need, давно хотел сказать вам, правда, почему вы не верите, no need, честное слово, to combine flywheel with vacuum containers… хотите, хотите, дойдем вдвоем до места и я… я вам покажу это… вы убедитесь…
Ничего. Ничего. Лишь тягостное бу-бу-бу между тостами и вслед за ним очередной свинцовый шарик водки по пищеводу в темноту. И вдруг в нечленораздельной каше общей шипящей и свистящей речи возникли ясные, человеческие и совершенно точно Олей Прохоровой произнесенные слова:
– Это цветы!
– Откуда? В сентябре? Сама подумай, – в очистившемся вдруг от звуковой парши пространстве возник гнусавый и непрошенный спорщик номер один, Сергей Зверев. – Чушь стопроцентная. Игра света.
– Купавка! – еще решительней сказала Оля.
– Купальщица? Троллеус юропеус? Ха-ха, – для священной битвы ради истины немедленно мир заключил со своим вечным оппонентом неисправимый спорщик номер два, Олег Росляков. – Купальщица, к твоему сведению, цветет с мая по июнь. У кого мать главный цветовод Новых Черемушек? У меня, конечно. Так что сдавайся. Это так живописно осколки от бутылки разметало.
– Она. Она самая, – упрямо повторяла Оля.
Борек поднял помойное ведро головы и посмотрел, как все, на тот, казавшийся близким берег реки. Странная россыпь желтого, даже рыжего, действительно, как будто бы пыталась укрыться в плотной траве невысокого обрывистого склона над водой.
«Огоньки, – вдруг с бесконечной коровьей нежностью подумал Боря. – Огоньки. Жарки кудрявые».
– Все вы врете, – сказала Олечка, с обычным уже веселым вызовом, куда более ей свойственным и характерным, нежели тупая и упрямая икота не вполне трезвого существа. Она быстро подхватила кружок огурчика с импровизированного стола и захрустела. – Все вы врете и, главное, никогда ничего мне не докажете. Сплавать-то за аргументами слабо?
Она подхватила еще один кружок.
– Слабо? Вот тебе, Олежка, и ха-ха.
И тут Боря встал. Вначале никто не понял зачем. Но когда он снял куртку, аккуратно свернул и положил на край одеяла, а потом начал стягивать через голову свитерок, коллеги забеспокоились.
– Командир, – помахал в воздухе вилкой Росляков, – тут так можно спать. В парадке. Так точно, и почки целее будут…
– Да подожди ты, – вмешался Зверев, – у чувака наколка там. Самурайский знак. Его в ВЦП ставят всем успешно закончившим курсы японского. Сунь хер в чай, вынь сухим. Я давно хотел посмотреть. Давай, Боб, рви тельняшку. Демонстрируй. Это будет тост.
В том, что тост обязательно будет, Катц ни секунды не сомневался. Но на это ему было честно и откровенно наплевать. Совершенно не волновало Борю церемониальное оформление того, что он задумал сделать, а вот трусы, ввиду и именно в связи с задуманным, его собственные серенькие сирийские, беспокоили.
«Можно ли их принять за плавки?» – думал Борис. Решил, что можно. Облегающие, узкие. И лейбочка на боковом шве. Можно. Конечно. Почему нет? Решил и снял штаны.
– Ты за цветами? – просто спросила Оля.
– Да, – ответил Катц и шагнул к воде.
Жирная осенняя трава зачесалась, зачавкала под ногами.
– Подожди, – кто-то быстрый положил теплую руку на Борино плечо.
Катц бросил взгляд за спину. Доронин.
– Слушай, я понимаю, вы там лоси-сибиряки, с рогатиной на медведя ходите, но только вода градусов восемь-десять, не больше, и до того берега метров семьдесят…
Катц до ответа не снизошел, гусарским выразительным движением правой лопатки сбросил с себя чужую длань, какой-то дамский розовый погончик, и вошел в реку.
Воду Боря не любил. Особенно пресную. Отец Бориса, кларнетист Аркадий Моисеевич Катц, оставил маленького сына сиротой, утонул, когда автобус с культбригадой областной музкомедии сельский механизатор ухнул с низенького деревянного моста в реку Писаную. Летом ничтожный, робко, словно в кармане, журчащий ручеек, весною, в паводок просто взрывался. Взбухал, крутился, кувыркался и бил черно-коричневым кулаком в бок серой, спокойно и надменно раздавшейся вширь Томи.
Отец не умел плавать. А Боря умел. И кролем, и брассом, и на спине. Держался на воде. Мать Дина Яковлевна позаботилась. Сама записала в группу оздоровительного плавания и года три подряд платила за месячный абонемент. Именно поэтому, стоя по колено в сентябрьской холодной мути реки Оки, Борис считал дорожки, словно в бассейне, на занятии.
«Семьдесят метров, – думал Катц, – ерунда. Полторы дорожки. Да это я разом, махом, не торопясь, потихонечку. Семьдесят метров…»
В южносибирском бассейне он мог проплыть и двести, четыре дорожки, ни разу не вставая на приступочку, не хватаясь за пенопласт поплавков. А тут семьдесят. Даже смешно.
Вода уже доходила до середины бедра. Боре показалось, что мышцы его ног вполне привыкли к холоду, готовы к правильным, ритмическим сокращениям, огорчали лишь кости, наоборот, окаменевшие, причем, казалось, все одновременно, спаявшиеся от тазовых широких до узких шейных. И еще смущало то, что с воды Боря уже не видел цветов. Стоя на бережку, скользя, спускаясь, вступая в синеву, он ясно различал там, в траве, на той стороне головки огоньков и вдруг, когда вода уже плескалась, терлась возле паха, прикрытого сирийским сереньким х/б, перестал. Хорошо хоть запомнил рядом с ними, вверху и слева странную высокую раму. Черную перекладину какого-то исчезнувшего полевого, капустного-силосного приспособления. Он будет править на нее, на раму. И не собьется, и рядом с ней найдет цветы.
Последней счастливой и ясной мелькнула мысль о том, что, немножечко отплыв, чуточку удалившись он обязательно избавится от свинцового грузила водки. Да. Быстро и незаметно сблевнет всю в реку. Навсегда. И все. Дальше была одна лишь только рама. Черный, похожий на базовый иероглиф, ориентир. Чикара, реку, рику. Боря плыл, плыл, плыл и все старался, силился, но только, к своему стыду и изумлению, ни за что не мог вспомнить, когда и как она читается, эта рама. Три палки сами по себе и в сочетаниях.
На самом же деле Катц почти сразу начал тонуть. Метрах в пяти от берега. Это Бориса и спасло, теченье потащило его вместе с пузырями к острому ивовому мыску, и тут Борю, вместо желудка начавшего грязной водицей промывать легкие, на берег выбросил Доронин. Впору пришлись его завидные метр восемьдесят шесть роста. Раздвинул плечом море, стрелой по шею влез и ухватил за волосы. Спас дурака, только сам весь с головы до ног вымок. Сто лишних килограмм набрал в подкладку куртки и в голенища резиновых сапог.
Примерно сутки Боря лежал в горячке, никого не узнавал и только покорно слизывал с ложечки в мелкую пыль раздавленные таблетки левомицетина. Во вторник вечерком, когда Олечка стала уже привычно сыпать растениевидному Катцу в пасть очередную горку лечебной извести, протухшие глаза Бориса вдруг осветились, лик нечеловечески искривился и прозвучало первое вполне осмысленное слово:
– Какая горечь! Боже мой, что это?
– Худо, бля, – в ответ быстро сказала Олечка, – Худо-бля тебя отпускает. Женя разбросал норму на троих. Ты можешь ехать домой.
Сказала и ласково погладила Катца по заросшей щетиной щеке. Отчего лицо Бориса стало тотчас же липким и мокрым, но от слез или от соплей, он в тот момент определить не мог. Горло его разрывалось, кусалось и кололось, а кашель, рождаясь за грудиной мелкой, несвязанной и шелудивой дробью, уже штыком, стальною чистой молнией вонзался в мозг и там тупо торчал до следующего приступа.
Тем не менее, ранним утром в среду Борис смог встать, самостоятельно одеться и в сопровождении Олечки отправиться на станцию Вишневка. Здесь девушка вручила юноше билет, недобитый блистер белой горечи, бутылку со сладким чаем, три полурасплавленные «Белочки» и книгу в серой газетной обертке. Сухой паек засунула в объемный карман верхнего клапана, а чай в узкий боковой карман рюкзака.
– Без дураков, Борис. В Фонках прямо с поезда дуешь в поликлинику. Знаешь где? Все понял?
– Знаю, все понял, – бодрясь и улыбаясь отвечал Катц, почему-то совершенно уверенный, что именно сейчас его наконец-то поцелуют, впервые в жизни, на дорожку, дочь профессора. Но вместо поцелуя Олечка легонько ткнула неудачливого пловца-гусара острым кулачком в грудь и коротко, но вполне, впрочем, по-дружески напутствовала:
– Ну все. Муму ебать не будем. Белая тряпка для соплей в кармане куртки.
От этого прощального потрясения всего его ослабленного организма Боря кашлял и сморкался не останавливаясь до самой станции Луховицы. После Коломны ему опять стало дурно. Чуть лучше за 47 километром. На платформу в Фонках Катц ступил ватными ногами около полудня. Голова его вращалась по часовой стрелке, а мир вокруг – против. Объект статичный – заякоренная пудами опыта врачиха в поликлинике тоже давила на сознание. Довольно долго и противно цокала языком, разглядывая рентгеновские снимки. Яркие ангина и бронхит наличествовали, а вот пневмонии не удавалось установить и следа. И тут дожать не смог. Недокомплект.
Лечили Борька в общаге. Колоть пенициллин к нему приходил владелец противогонорейного шприца Семен Руткин, спускался на второй с третьего этажа, а банки через день лепил и вовсе сосед по комнате, сын доктора Роман Подцепа. И с каждым уколом, с каждым новым конским синяком на узкой спине сны Катца делались длиннее и спокойнее. И Олечка в них становилась все мягче и добрее. И наконец однажды под утро, в сизых сумерках склонилась над Борисом и теплыми губами поцеловала в лоб. И он проснулся.
Все сопли пересохли, и горло не болело. За окном серебрилась труба котельной, а на кровати ушедшего в ночную смену на ВЦ Подцепы, белела свежая, как жизнь без боли и печали, прохладная подушка.
Записка! Там должна быть записка. Как же он сразу не догадался, зачем и для чего ему была подсунута в рюкзак доронинская книга.
Мысль была простой, ясной и здоровой. Босой и легкий Боря вскочил и кинулся к забившемуся в угол у шкафа рюкзаку. Книга в серой газетной обертке нашлась, но почему-то не сразу. Какое-то время пришлось рыться в пропахших дорогой и бедой шмотках. Но вот она в руках, а очевидного – записки в ней – как раз и нет. Боря листал и листал, потом перевернул мягкую корешком вверх и легонько потряс. Ничего не выпало. Все склеено и сброшюровано.
«Владимир Прикофф» – гласила надпись на титульном листе. «Рыба Сукина». И что-то уж совсем загадочное помельче внизу страницы. «Сидра. Анн Арбор. Иллинойс».









































