Текст книги "История России с древнейших времен. Том 26. Царствование императрицы Екатерины II Алексеевны. 1764–1765 гг."
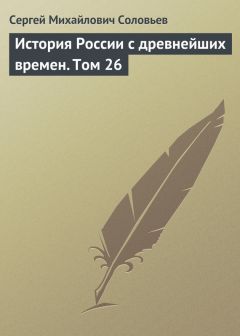
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
Легко себе представить восторг Жоффрэн, когда она узнала, что молодой, блестящий поляк, которому она покровительствовала в Париже, избран в короли. «Будущее проходит перед моими глазами, как в епических поэмах, – писала она ему. – Я вижу Польшу, возрождающуюся из своего праха, я вижу ее в лучезарном блеске, как новый Иерусалим! О мой дорогой сын, мой обожаемый король! С каким восторгом я буду видеть в вас предмет удивления для целой Европы!»
В Петербурге также сильно радовались; императрица писала Панину: «Поздравляю вас с королем, которого мы делали. Сей случай наивящше умножает к вам мою доверенность, понеже я вижу, сколь безошибочны были все вами взятые меры». Действительно, авторитет Панина с этих пор является во всей силе. Ведя также переписку с Жоффрэн, Екатерина писала ей по поводу избрания Понятовского: «Поздравляю вас с возвышением вашего сына; я не знаю, как он сделался королем, но, конечно, на то была воля провидения, и больше всего надобно поздравлять с этим его королевство; у поляков не было человека, который бы сделал их более счастливыми по-человечески; говорят, что сын ваш ведет себя отлично, и я этому очень рада; направлять его на путь истинный в случае нужды предоставляю вашей материнской нежности». Жоффрэн в переписке своей с дорогим сынком, разумеется, не могла не касаться отношений его к «далеким странам» и к их властительнице. Мы уже упоминали о сильно распространившихся за границею слухах насчет брака Понятовского с Екатериною. Жоффрэн писала новому польскому королю по этому поводу: «У нее (Екатерины) много дела, и надобно много времени, чтоб переделать все это дело. Я утверждала, что вы с нею не видались (во время поездки Екатерины в Лифляндию), я утверждаю, что вы на ней не женитесь, о чем многие говорили с неудовольствием. Вот как объясняли дело: она вовсе не крепко держится на престоле; она уступит его сыну, а сама выйдет замуж за короля польского».
Для Понятовского дело шло не о браке, а об определении отношений к государыне, которая возвела его на престол, С первой же минуты избрания он уже разрознивал свои интересы с ее интересами, заискивая дружбы двора, самого враждебного России. В том же письме, где он описывал Жоффрэн свое избрание, он говорил: «Я сильно нуждаюсь в вашем совете относительно дела, которого я желаю всего более и, конечно, более, чем вы думаете: это дружба французского короля. Если только во Франции захотят быть со мною в добрых отношениях, то я обещаю вам, что с удовольствием пойду навстречу и сделаю половину дороги». Это относительно внешней политики, относительно же внутренней разрозненность интересов была еще резче. Когда чад, произведенный счастием избрания, прошел и он очутился лицом к лицу с затруднительностию своего положения, с препятствиями, которые стояли на дороге осуществлению планов преобразования Польши, усилению королевской власти, то Станислав писал своей маменьке Жоффрэн: «Ах, я знаю хорошо, что я должен делать, но это ужасно! Терпение, осторожность, мужество! И еще: терпение и осторожность! Вот мой девиз». Об Екатерине он писал: «Там очень умны, там … Но уж очень гоняются за умом. Это металл самый дорогой, но для обработки его нужна искусная рука, руководимая добрым сердцем. Некогда были в этом согласны, а теперь судьба и, быть может, вкус переменили многое!»
Что же заставило Понятовского думать, что там ум не руководится более добрым сердцем?
Кейзерлинг недолго пережил избрание Понятовского: еще в начале августа Репнин уведомил Панина, что посол очень болен, а 19 сентября Кейзерлинг умер. В министерской сумме после покойного осталось 85566 червонных; их Репнин хотел употребить на уплату тем лицам, которым было обещано: 3000 червонных на месяц воеводе русскому, 300 червонных на содержание солдат Огинского, 1200 червонных на месяц королю для первого его обзаведения и содержания до конца коронационного сейма, ибо прежде он не мог получить никаких доходов. Кроме того, нужно было доплатить примасу 17000 червонных в число обещанных ему 80000 рублей да канцлеру его 4000 червонных.
Императрица кроме означенных выше денег по «особливому своему благоволению и дружбе» подарила Понятовскому на первый случай для учреждения дома 100000 червонных. Бедный король за все благодеяния и подарки мог отправить своей благодетельнице только ящик трюфлей; но мы знаем, чего от него желали в благодарность за корону. Репнин повел немедленно дело о новом договоре между Россиею и Польшею; но поляки, зная, что новый договор будет для них невыгоден, сильно противились его заключению. Россия хотела гарантировать настоящее состояние республики, поляки этого боялись, представляя, что по праву гарантии Россия будет вмешиваться во все их дела.
Но самым трудным делом было диссидентское. Екатерина не могла его откладывать. Еще в 1762 году Георгий Кониский объявил Синоду, чтомессионары сажают в тюрьму и грабят тех, которые не хотят отстать от благочестия; что, по словам одного плебана, папа писал к королю и канцлеру литовскому, чтоб впредь православным епископам привилегий не давать, а настоящего епископа плетьми выгоним; положили письма его, Кониского, перехватывать. Поэтому ему возвращаться в Могилев опасно и для тамошней церкви бесполезно; просил отрешить его от епархии и определить на безмолвное житие в монастырь с пропитанием, потому что он, повредя в бытность свою в Белоруссии слух и зрение, страдает частыми головными болями. В феврале 1763 года Синод поднес императрице доклад с прошением о защите в Польше благочестия, представляя, что Конискому ехать туда крайне опасно и вообще православному епископу править тамошнею епархиею нельзя, пока не будет употреблено особливого ее императорского величества защищения. Когда решение на доклад по известным обстоятельствам замедлилось, Синод вошел с новым докладом, что Кониский приехал из Москвы в Петербург и просит о решении его дела. Жалобы шли не от одного Кониского: киевский митрополит Арсений писал, что трембовльский староста Потоцкий отнял у православных четыре церкви и передал униатам, в Пинске отнято было у православных 14 церквей. Вследствие этого 5 апреля 1764 года Кейзерлинг и Репнин получили такой рескрипт императрицы: «Излишно описывать здесь известное вам самим дело утеснения в Польше наших единоверных и прочих диссидентов. Кто не ведает, что одни и другие равно подвержены гонению римского духовенства, которое не только без остатка почти похитило все им законами и многими привилегиями дозволенные епархии, монастыри и церкви, но и до того еще властию и пронырством своим довело, что знатная часть сограждан, так сказать, из сообщества отринуты за то одно, что исповедуют закон другой. Но пока еще сие зло вовсе не окоренится, то, дабы нынешний междуцарствия случай не упустить втуне, повелеваем мы вам на основании данного вам обоим общего нашего наставления как ныне при сейме конвокации, так и впредь при сейме коронации употребить всевозможное старание ваше, дабы как собственные наши единоверные, так и прочие диссиденты, обязанные между собою ко взаимной обороне формальным актом 1599 года, во все прежние свои права и преимущества точным и ясным законом восстановлены да и для переду как в персонах и имениях своих, так и в принадлежащих им епархиях, монастырях и церквах от всяких нападков римского духовенства охранены и прежде отнятые, сколько возможно, им возвращены были. В произведении сего намерения в действо полагаемся мы на искусство ваше и лучшее на месте усмотрение удобных обстоятельств, между которыми из лучших полагаем мы случай благонамеренной конфедерации, если такая воспоследует, ибо тогда гораздо легче будет преодолеть в одной части дворянства слепое духовенству порабощение и ненависть к людям, кои неодинакого с ними исповедания».
17 октября Екатерина писала Репнину: «Мне остается рекомендовать вам всего более два дела: дело о диссидентах и дело о границах; моя слава заинтересована в обоих, помните это, оба дела в ваших руках, действуйте согласно с указами и инструкциями». Слова «помните это» должны были приводить в отчаяние Репнина.
Диссидентское дело, по его отзывам, было трудно вследствие народного энтузиазма. «Привести их (диссидентов) в полное равенство с католиками считаю невозможным без насилия, – доносил посол, – надеюсь доставить им только свободное исповедание веры и право получать староства не судебные». «Само собою разумеется, – писал ему Панин, – что, говоря о диссидентах, надобно всегда предпочтительно упоминать о наших единоверцах. Кроме общих им с другими диссидентами претензий имеют они еще собственные жалобы, которые не меньше заслуживают справедливого рассмотрения. Не думаю я, да и думать почти нельзя, чтоб можно было в один раз возвратить диссидентам все то, чего они лишились; но довольно, когда они в некоторое равенство прав и преимуществ республики приведены и от нового гонения совершенно охранены будут, дабы в противном случае продолжением прежнего утеснения не могли они, и в том числе и наши единоверцы, к невозвратному ущербу государственных наших интересов вовсе искоренены быть. Нет нужды распространяться здесь, сколь много польза и честь отечества нашего, а особливо персональная ее императорского величества слава интересовала в доставлении диссидентам справедливого удовлетворения. Для приклонения к тому короля и всех способствовать могущих магнатов довольно уже и кроме формальных трактатами определенных обязательств представлять им в убеждение, что когда ее императорское в-ство для пользы республики не жалела ни трудов, ни денег, дабы ее в толь смущенное и критическое время, каковы для нее бывали обыкновенно прежние междуцарствия, сохранить от беспокойств, гражданского нестроения и других с оным неразлучно соединенных бедствий без всякой для себя из того корысти, то коль справедливо она может требовать и ожидать от благодарности королевской и всея республики, чтоб правосудное и столь к персональной ее в-ства славе, сколько к собственной чести нынешнего польского века служащее предстательство и заступление ее возымело действие свое в пользу некоторой части их сограждан, кои вопреки торжественным трактатам, собственным польским фундаментальным законам, общей вольности вольного народа и множеству королевских привилегий невинно страждут под игом порабощения за одно исповедание других, признанных христианских религий, в коих они рождены и воспитаны. К сим представлениям может ваше с-ство присовокупить все те, кои вы сами за приличные почесть изволите, отзываясь в случае крайности, т. е. когда все другие средства втуне истощены будут, что и то им предостерегать должно, дабы ее императорское в-ство, увидя к заступлению своему в справедливом деле столь малое со стороны республики уважение, не нашлась напоследок от их дальнего упорства приневоленною одержать некоторыми вынужденными способами то, чего она от признания знатного им своего благодеяния и дружбы инако достигнуть не могла, и чтоб для того ее в-ство не указала далее оставить в землях ее (т. е. республики) те самые войска, кои по сю пору столь охотно и с таким знатным иждивением употребляемы были для единой пользы и службы республики, которая долженствовала бы сама собою чувствовать, что утеснением одной части сограждан уничтожается общая ее вольность и равенство. При вынужденном иногда употреблении сей угрозы надобно будет вашему с-ству согласовать с словами и самое дело и сходно с тем учреждать и дальнейшее войск наших в Польше пребывание, дабы по крайней мере страхом вырвать у поляков то, чего от них ласкою добиться неможно было».
Для России главным делом было диссидентское; для короля и фамилии – преобразования. Хотели немедленно же, на коронационном сейме, провести два важных преобразования: ввести на сеймиках большинство голосов, а на сейме каждое отдельное дело должно было пока решаться единогласием, но как скоро несколько дел решено таким образом, то протест одного депутата относительно одного какого-нибудь дела, действительный относительно последнего, не срывает сейма, т. е. не уничтожает всех других его решений, что начали означать выражением: liberum rumpo.
Но для проведения этих преобразований нужно было согласие соседних дворов, преимущественно русского, и Станислав-Август вздумал уверять Екатерину, что преобразования необходимы для успеха диссидентского дела. «Я не распространяюсь в изъявлениях благодарности, – писал король императрице (4 ноября), – вы не этого желаете. Вы слишком велики для этого, и притом было бы трудно уравновесить слова с чувством. Но я обращаюсь к хорошо известному вам характеру моему. Вы знаете, какую власть имеет надо мною благодарность, а благодарность моя к вам чрезмерна, она равняется моей преданности. Вы можете смело сказать самой себе: „Мой лучший, мой самый верный друг теперь король, он привязан ко мне честностию и личною склонностию столько же, сколько интересом“. К счастию, ваши добродетели и ваше благородное бескорыстие позволяют мне воздать должное вам и моему государству. Вы желаете, чтоб Польша была свободна; я желаю того же, и с этою целию я хочу спасти ее из бездны беспорядка, который в ней царствует. Большему числу ревностных патриотов до того наскучила анархия, что они начинают довольно громко говорить, что предпочтут абсолютную монархию постыдным злоупотреблениям своеволия, если невозможно достигнуть более правильной свободы. Я хочу предохранить их от этого отчаяния. Но единственное средство для этого – сеймовые преобразования. Диссиденты составляют часть граждан, над которыми по вашему желанию я царствую. Так как ваше величество сильно занимает их судьба, то это заставляет меня действовать в их пользу пред католическою нациею, слишком ревнивою, быть может, относительно известных преимуществ. Но для успеха в этом деле, как везде, нужно более порядка на сейме, а этого нельзя достигнуть без исправления наших сеймиков. Здесь замешан собственный интерес вашего величества».
Но «там были очень умны, там», хотя еще и руководились добрым сердцем, королю было внушено, что преобразования преждевременны. Станислав-Август повиновался и писал (13 декабря): «Смею думать, что ваше императорское величество видите самое сильное доказательство моего беспредельного к вам уважения в жертве, какую я принес вам на сейме: я пожертвовал тем, что всего более лежало у меня на сердце. Большинство голосов на сеймиках и уничтожение liberum rumpo суть предметы самых пламенных моих желаний. Вы пожелали, чтоб этого еще не было, – и это не было даже предложено. Считаю себя вправе думать, что мое поведение расположит ваше величество благоприятно отнестись к делу в будущем. Желание сделать вам угодное и мое собственное расположение заставляли меня сделать для диссидентов то, чего вы для них требовали. Ваш посол уведомит вас, какой результат произведен был фанатическим криком. Ожесточение в Сенате дошло до того, что хотели принести в жертву самого примаса, как он смел сделать легкое упоминовение об этом деле. От высокой справедливости вашего величества я ожидаю признания, что я не мог и не должен был рисковать более после этого опыта».
Посол уведомил о печальном для него исходе сейма, особенно по диссидентскому делу.
6 декабря Репнин писал: «Диссиденты одни более меня в оскорбление приводят; ласку и угрозы в пользу их употреблял, только по сих пор признаюсь, что мало надежды имею и антузиазм так велик, что ни резоны, ни страх никакого действия не делают». После этого грустного предисловия 13 декабря Репнин доносил: «Хотя не актом, но конституцией сего сейма подтверждение трактата 1686 года сделано, пограничная комиссия и негоциация об новой алианции определены, положа основанием новым обязательствам взаимную гарантию владений обеих держав и прав, привилегий и вольности республики. Знаю я, что сия гарантия совершенно теперь не исполнена (т. е. постановление о ней не приведено к совершенному окончанию), однако ж при будущем новом трактате отказать уже и поляки не могут как вещь повеленную и требованную от них же целым сеймом. Сия конституция столь же тверда, как бы и акт, который мне был предписан (императрицею), и, касаясь до чужестранной державы, нарушена быть отнюдь не может. Главные же причины в несоглашении их на акт я вижу те, чтобы гарантия совсем уже совершилась, а им, может быть, хочется чрез нее выиграть те в сеймиках и в сеймах учреждения, об которых они уже просили; а другое, не хотя ту гарантию от прусского короля принять, ни решительно сказать, что с ним в алианции войдут, которое я в акт внести хотел: они же все без изъятия к нему доверенности никакой не имеют, и я, сколько могу, то испровергаю, но по сих пор вижу, что напрасно. Если я не совсем в точности исполнил высочайшие повеления, то истинно от самой невозможности; и сие сделано от страху, чтоб войска здесь не остались: конституция ж сия до тех же желанных предметов довести может, как и акт. При сем должен я справедливость отдать королю, что он совершенно предан всемилостивейшей государыне и дела ее нелицемерно за свои считает. Я принужден был для успеху во всех делах сказать партикулярно королю и некоторым магнатам также в конфиденцию, что мне не велено войск выводить, пока дело нашего двора не кончут, не выключая и диссидентов; как же я видел, что сие последнее ни страхом, ни увещанием не делалось, то хотел в нации возбудить благодарность, дабы хоть тем к желаемому концу дойтить, и вследствие чего согласился на королевское желание, чтобы он объявил в публику, что войска наши назад идут, но и тем для диссидентов ничего сделать не мог; головой их дело, представленное в тот же день, и выслушать не хотели, и сделался такой шум, что, позабыв почтение к королю, с мест своих все повскакали и хотели, чтоб им выставили того, кто осмелился в пользу диссидентов прожект сделать и отдать маршалу сейма. Король, примас и малая часть рассудительных людей, которые тут были, не смели, видя ту неумеренность, ни один слова промолвить; и хотя прожект бы отдан маршалу от короля и примаса, но, боясь в том признаться, для прекращения того приступу сказали, что от чужестранных министров тот прожект прислан, чем подлинно то шумное взыскание прекратили, никто не смея более против сего говорить: но, однако же, прочесть не дозволили, крича все, как бешеные, что уже диссидентов состояние решено прошедшими сеймами и перемены никакой не сделают; и тот безобразный крик прежде не кончился, поколь совсем материи не принудили переменить. В тот же день поутру, прежде сего представления, видя нерешимость и почти робость королевскую, подал я еще мемориал об диссидентах, что также сделали прусской, дацкой и английской резиденты, дабы тем побудить оное дело трактовать; но король в полдень мне дал знать, чтоб лучше сократить оный в генеральных терминах; я ж, не видя в том пользы, к нему бильетом в той силе и отозвался, настоя, чтоб, конечно, вышепомянутый прожект предъявлен был и для выигрывания еще времени чтоб сейм хотя на два дни продолжили; на что он мне отвечал также бильетом, прося, однако же, чтоб никому то известно не было, кроме ее величества; а я и на оный бильет тоже ему донес, что не могу отступить от своих требований, почему и было представлено дело, как уж выше описал. Я ж был в то время нарочно неподалеку Сената, имел там своих шпионов, которые тотчас меня о всем том уведомили, почему в тот же момент цыдулку написал к князю Адаму Чарторыйскому, что хотя король и объявил нации, что войска наши выдут, но он знал, что мне того сделать нельзя, если диссидентское дело не прослушают и не решат. Сие, дошедши до короля, привело его в тревогу и в новое движение в пользу диссидентов, но сам, не смея говорить, велел маршалу сейма, чтоб он то дело продолжал представлять, что действительно неоднократно и делано, но, как выше доносил, ничто не помогло. К генералам Штофелю и Ренненкампфу я пишу, чтоб они в силу повелений ее императорского величества возвращались в свои квартиры в Россию; а король, беспокоясь весьма, чтоб они, как я сказал, не остались здесь, очень меня об том возвращении просил, на которое я ему донес, что хотя повеления, мне данные, того не гласят, особливо дело диссидентское, не имея никакого успеха, однако, видя подлинное его попечение о делах нашего двора, я то на себя беру, льстясь, что всемилостивейшая государыня оное опробует, уверен быв о подлинной его искренности и дружбе… Я то сделал из усердия к успеху дел нашего высочайшего двора, и, действительно, подтверждению трактата оное очень помогло; несчастлив только тем и истинно утешиться не могу, что диссидентское дело так дурно обратилось. Вижу теперь, что антузиазм закона (религии) опаснее всего на свете и труднее також всего оной превзойти. Однако как исполнение старого трактата, так заключение нового оставляют право и повод к поправлению состояния диссидентов и для защищения их от ябед, сколь то есть во власти короля, и к побуждению его к тому сию мысль весьма нужно оставить, что войска не велено было в пользу их выводить, подтверждая оное тем, что генерала князя Долгорукова корпус действительно для того ж совсем из земли не выводится, я ж намерен его к виленским магазейнам послать за черезвычайной здесь дороговизной, и более теперь войска здесь, конечно, не нужно».
«Вижу теперь, – писал Репнин, – что антузиазм закона опаснее всего на свете». В том же смысле писал Станислав-Август к своей maman Жоффрэн: «Ах, дорогая maman, народные предрассудки – вещь ужасная! Я преодолел некоторые из них на этом сейме, но был принужден оставить еще многие, и вмените мне это в заслужу, потому что это мне много испортило крови, но благоразумие превозмогло. При малейшей попытке в пользу некатоликов раздавался фанатический крик, против которого я мог бы бороться, но предпочел оказать пред ним уважение, чтоб поскорее утушить, и я проложил себе другую дорогу, более длинную и потаенную, но которая проведет меня под конец к возможности поступать человеколюбиво с диссидентами. Больше всего им и мне повредило то в этом случае, что они рассеяли слух, будто я хочу сравнять их совершенно с последователями господствующего исповедания, чего никогда не было и не будет в моей голове».
Туча надвинулась очень быстро. Ни король, ни Репнин, смущенные, не хотели еще признавать страшной опасности, не видали начала конца.
Связь России с Пруссиею, условленная возведением на престол Понятовского, должна была скрепляться еще более. Генерал Гадомский, присланный от Польской республики к прусскому королю с объявлением о смерти Августа III, был несколько раз у князя Долгорукого и передавал свои разговоры с Фридрихом II по поводу избрания нового короля. Фридрих прямо объявил ему, что, по его мнению, гораздо полезнее для поляков выбрать Пяста и что он, король, будет во всем поступать согласно с сделанными в Варшаве декларациями от имени русской императрицы, и так как граф Понятовский уже рекомендован ею, то он думает, что поляки для собственного спокойствия должны на то согласиться. К этому король прибавил, что ходящие в Польше слухи о намерении его послать туда корпус своих войск совершенно неосновательны и выдуманы его злодеями, хотящими смутить умы и накинуть на него подозрение; что он ничем не хочет нарушать польской вольности, только один случай принудит его послать войско в Польшу – это когда венский двор первый пошлет туда свои войска: на это он спокойно смотреть не будет и сделает то же самое. Вот почему он советует полякам предупредить поступки венского двора, противные их спокойствию. «Господин Гадомский, – доносил Долгорукий, – кажется, того же мнения, что полякам лучше следовать представлениям вашего величества и короля прусского; он мне сказал, что хотя принц Ксаверий саксонский и старается скрытно о своем избрании в короли и имеет значительную партию, но поляки предпочтут собственное спокойствие интересам этого принца».
В начале апреля Долгорукий имел конференцию с Финкенштейном. Прусский министр сказал ему, что некоторые польские магнаты скрытным образом старались уговорить графа Мерси, чтоб он объявил кандидатом на польскую корону одного из австрийских принцев, объявляя, что этим прекратятся все партии в Польше, которых избежать нельзя, если выбрать Пяста. Мерси до сих пор еще не дал им никакого ответа; король уже писал об этом в Петербург к графу Сольмсу для уведомления императрицы; но, прибавил Финкенштейн, его величество находит нужным отписать об этом русскому резиденту в Константинополе: венский и версальский дворы стараются привести Порту в сомнение относительно поступков петербургского и берлинского дворов в Польше, внушают ей, будто польская вольность находится в великой опасности; так русский резидент мог бы внушить Порте, что, напротив, венский двор старается поколебать польскую вольность, выставляя своего принца кандидатом, чего, как известно, Порта терпеть не будет и, получа такое известие, меньше станет верить внушениям австрийского и французского послов. Долгорукий в тот же день дал об этом знать Обрезкову в Константинополь.
В своих письмах к императрице Фридрих II продолжал обнадеживать ее в успехе польского дела. «Я хорошо знаю эту нацию (польскую), – писал король 16 февраля, – и потому уверен, что, разбрасывая деньги кстати и употребляя прямо угрозы против злонамеренных, вы их приведете к желанной вами цели. Но мне кажется, что угрозы и общие объявления должно употреблять только по истощении всех средств великодушия, всех внушений и советов частных, чтоб отнять у соседей всякий предлог вмешиваться в дело, которое вы считаете своим». Фридрих писал (7 апреля), что Франция и Австрия будут мешать Екатерине при избрании польского короля только тайком, интригами, а не силою; что надобно бояться одного, чтоб они своими интригами не подняли Порту. «Что же касается поляков, то вступление русских войск с сильными объявлениями против гетмана Браницкого и князей Радзивилла и Любомирского укротят их пыл». «Большая часть поляков, – писал Фридрих, – пусты и подлы (vains et laches), горды, когда считают себя вне опасности, и ползают, когда беда над головою, и я думаю, что не будет пролито крови, разве отрежут нос или ухо у какого-нибудь шляхтича на сейме». 12 мая король писал: «Поляки получили некоторую сумму денег от саксонского двора; кто захочет получить их, произведет некоторый шум, но все и ограничится шумом. Ваше величество приведете в исполнение свой проект: этот оракул вернее Калхасова».
А между тем, узнавши, что Бенуа в Варшаве сделал заявление, одинакое с русским послом, Фридрих II был этим недоволен и велел дать знать своему министру: «Нужно было ограничиться только заявлением, что король не хочет увеличения своих владений на счет Польши, а не требовать прямо избрания Пяста: хотя король и согласен в этом отношении с императрицею, но все же желал бы избежать подозрения, что хочет вмешиваться в свободные выборы».
Король был согласен с императрицею и относительно диссидентов, но велел отписать Бенуа: «Делайте для диссидентов все возможное по обстоятельствам, ибо не надобно рисковать спутать дело из любви к ним».
В Берлине ожидали с нетерпением заключения союзного договора с Россиею. Сольмс в донесениях к королю приписывал медленность в заключении договора множеству дел и обычной медлительности русского двора. Наконец 31 марта желанный договор был подписан: оба государства обеспечивали взаимно европейские владения друг друга. В случае нападения на одну из договаривающихся сторон употреблялись сначала добрые услуги для прекращения войны, в случае неуспешности через три месяца по востребовании союзник выставляет 10000 пехоты и 2000 кавалерии, в случае же нужды оба государства соглашаются об увеличении этого числа и о защите всеми силами, 1-я секретная статья: если нападение последует в отдаленных местах, на Россию со стороны Турции и Крыма, а на Пруссию за Везером, то вместо войска помощь может быть доставлена деньгами, именно уплатою по 400000 рублей. 2-я секретная статья: союзники обязываются действовать заодно в Швеции для поддержания равновесия между борющимися там партиями; в случае опасности для существующей формы шведского правления союзники соглашаются насчет средств отвратить опасное событие, 3-я секретная статья: король гарантирует голштинские владения великого князя, 4-я секретная статья: союзники обязываются не позволять перемены в польской конституции, предупреждать и уничтожать все намерения, которые могли бы к этому клониться, прибегая даже к оружию. Статья отдельная: союзники обязываются покровительствовать диссидентам и уговаривать польского короля и республику восстановить их в прежних правах; если же нельзя, то, выжидая удобного времени, стараться по крайней мере, чтоб диссиденты не подвергались притеснениям. Союз был заключен на 8 лет, но можно было возобновить его и прежде.
Долгорукий донес, что граф Финкенштейн словесно объявил всем иностранным министрам о заключении союзного договора, причем не утаил и секретной статьи о Польше; такое же устное объявление иностранным министрам сделано и им, Долгоруким; только одному английскому посланнику Митчелю, с которым он искреннее обходится, чем с другими, он прочел весь договор и рассказал содержание секретной статьи. На этом донесении Панин написал: «За сие Долгорукий достоин реприманда, по какому повелению он смел сказать о секретной конвенции; да и вся реляция неисправна, ибо невозможно статься, чтоб берлинский двор всем чужестранным министрам сообщил секретный артикул о польских делах, потому что здесь согласились оный сообщить только венскому и лондонскому дворам». Сильный реприманд был отправлен; но Долгорукий отвечал, что он не счел нужным утаивать секретную статью от английского посланника, когда в Петербурге постановлено сообщить и лондонскому двору и ему, Долгорукому, велено обходиться с Митчелем откровенно.
Когда австрийский посланник Рид представил Фридриху II, что для успокоения Польской республики Мария-Терезия желала бы публичного объявления со стороны Пруссии, что войска прусские не будут введены в Польшу прежде вступления туда войска другой державы, король выслушал Рида с неудовольствием и отвечал: «Я уже сообщил венскому двору договор, заключенный мною с русскою императрицею, я теперь обязан поступать во всем согласно с нею; императрица до сих пор ничего не сделала в противность обещанию сохранять вольность и права Польской республики, а что русские войска теперь в Польше находятся, то это не причина к жалобе; союз между Пруссиею и Россиею натуральный: как ближние соседи Польской республики для собственного интереса мы должны соединиться и охранять заодно вольность и фундаментальные законы Польши». Король приказал Финкенштейну немедленно сообщить Долгорукому об этом разговоре с Ридом для донесения императрице и прибавить от его имени, что все польские беспокойства происходят от внушений венского двора; известно, когда коронный гетман граф Браницкий выехал из Варшавы и остановился в трех милях от этой столицы, то австрийский посол граф Мерси поехал к нему и уговаривал его, чтоб твердо держаться.









































