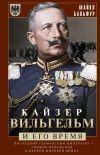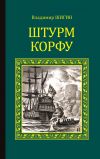Текст книги "Император из стали: Сталь императора"

Автор книги: Сергей Васильев
Жанр: Историческая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Госсовет и комплот
Днем ранее
Граф, общественный и государственный деятель, почетный член Императорской Академии, ближайший советник императора Александра I Михаил Михайлович Сперанский (по отцу – Васильев) получил свою фамилию при поступлении во Владимирскую семинарию не случайно. «Sperare» по-латински – надеяться. Государственный совет – главное детище Михаила Михайловича – создавался в полном соответствии с приобретенной фамилией графа и тоже был надеждой – на создание справедливого демократического общества как основы всеобщего процветания и согласия.
Безусловная демократичность Госсовета Российской империи заключалась в том, что его членами могли стать любые лица, вне зависимости от сословной принадлежности, чина, возраста и образования. Предполагалось, что учреждение объединит самых бойких, прогрессивных и профессиональных, без оглядки на происхождение. Прекрасная задумка! Беда была в том, что членов Государственного совета назначал и увольнял император, и только его личное представление о вышеперечисленных качествах имело значение. Добивало хорошую идею то, что за результаты своей работы члены Госсовета не несли вообще ни малейшей ответственности. Не удивительно, что в результате неразборчивой кадровой политики Госсовет очень быстро превратился в синекуру для приближенных к престолу, в этакий элитарный клуб, где можно было ненапряжно порассуждать о политике, экономике и заодно учесть свои собственные, насквозь шкурные интересы.
Однако в морозный зимний день 1901 года Госсовет собирался совсем в другом настроении. События последнего месяца напрочь выбили высших чиновников империи из привычной благодушно-созерцательной колеи. Атмосферу заседания можно было смело использовать для генерации электричества. Последние, пока еще полуофициальные известия из Германии о наличии польской сделки прорвали плотину привычной сдержанности, породили водовороты и цунами, их энергия вот-вот готова была выплеснуться из стен высокого собрания на бескрайние просторы России.
Вот уже сто лет Польша была любимой мозолью империи. Принципиальным отличием от всех других приобретений было достаточно высокое развитие завоеванных территорий, превышающее уровень подавляющего большинства провинций метрополии. Кроме того, своими западными границами польские владения упирались в еще более развитые, а следовательно, более привлекательные, чем в России, немецкие земли.
Естественно, что в таких условиях поляки категорически не хотели становиться русскими, искренне считая их дикарями и варварами, гуннами, разорившими «сверкающий град на холме». И через сто лет после раздела Польши они продолжали относиться к западнорусским землям как к своему достоянию. Территория, которую русские, в свою очередь, воспринимали как колыбель собственной государственности и культуры, была для поляков важнейшим геополитическим трофеем, обеспечившим золотой век Речи Посполитой. Идея восстановления Польши «в границах 1772 года» до всех ее разделов – с восточной границей по линии Смоленск—Киев – прочно владела умами практически всей польской элиты.
Весьма чувствительны были также внешние факторы. Судьба привислинских подданных моментально стала предметом международной политики, определяющим взаимоотношения России с западными соседями. Со времен второго польского восстания и знаменитой речи императора Александра II, призвавшего поляков «оставить мечтания» о возрождении собственной независимости, польская тема не переставала интересовать правительства других великих держав, ориентирующихся на мировоззрение польской элиты. «Приходится признать, – отмечал секретарь русской миссии в Ватикане Сазонов, – что наша польская политика обусловливалась не одними воспоминаниями о былом соперничестве между Россией и Польшей, оставившем глубокий след на их взаимных отношениях, ни даже горьким опытом польских мятежей, а в значительной мере берлинскими влияниями, которые проявлялись под видом бескорыстных родственных советов и предостережений каждый раз, как германское правительство обнаруживало в Петербурге малейший уклон в сторону примирения с Польшей».
Русская аристократия начала XX века в массе своей находилась под французским или английским влиянием, а в этой среде хорошим тоном было сочувствие к несчастной, страдающей Польше. Герцен «колоколил» о необходимости ликвидации самодержавной власти в России и предоставлении полной независимости территориям бывшей Речи Посполитой не от своего имени, а выражая консолидированное мнение всей западноевропейской элиты, мгновенно забывающей собственные распри, когда дело касалось возможности нагадить России.
Но печальнее было другое – внутри русской элиты не было не только какого-либо плана действий, но даже понимания, а что вообще можно сделать с этим польским чемоданом без ручки? Русская интеллигенция как нельзя лучше отражала элитный разброд и шатания. В работах «придворного историографа» Николая Герасимовича Устрялова, посвященных в том числе и периоду правления Николая I, отстаивалась позиция о необходимости «жесткого обращения» с поляками. Он писал, что сама история доказывает России – от Польши нельзя ожидать ничего, кроме «неблагодарности и предательства». Устрялов и Карамзин очень много говорили о культурной русификации, в частности, о необходимости широкого распространения православия вместо католичества и униатства. Единственное, чего избегал декан историко-филологического факультета Петербургского университета и автор гимназических учебников истории, – конкретных указаний, в чем должно заключаться «жесткое обращение» и каким же таким образом было возможно обеспечить «культурную русификацию».
Такое же «па-де-де» исполняли и оппозиционные славянофилы. В данном случае можно упомянуть Ивана Аксакова. После 1863 года он резко отказался от идей, связанных с польской независимостью. Весь свой авторитет известный славянофил-консерватор направил на открытую поддержку имперского репрессивного курса. Поляки, по его мнению, должны проявить «покорность и верность», «признать необходимость единства верховенства русского государственного начала». Один из главных интеллектуалов своей эпохи требовал растворить поляков в русской массе, иначе они поступят аналогичным образом со славянским населением Украины и Белоруссии. Единственное, чего не указал неистовый Иван Сергеевич, где взять тот самый «растворитель», приводящий поляков в состояние преданности.
А в это время шляхтичи занимались своим привычным делом – барагозили, саботировали, и как только выдавалась возможность – переходили от холодной войны с «русским игом» к горячей. Несколько поляков, в том числе братья Бронислав и Юзеф Пилсудские, вместе с братом Ленина Александром Ульяновым принимали участие в подготовке неудавшегося покушения на Александра III.
Всего на территории привислинских губерний для приведения в покорность местного населения самодержавие было вынуждено постоянно держать трехсоттысячную армейскую группировку – больше, чем будет задействовано в Русско-японской войне.
Естественно, что такая ситуация отражалась на бытовом уровне. Историк-славист Александр Львович Погодин характеризовал отношения русских и поляков в Варшаве как «взаимно раздраженные, полные недоверия и неприязни». Ему вторил Александр Александрович Корнилов, утверждая, что «в русском обществе александровской поры антипольские настроения были отнюдь не редкостью, а в войсках к полякам относились вообще враждебно». Другое дело, что в высшем обществе от этой проблемы предпочитали отгораживаться, делать вид, как будто ее вообще нет.
Только один человек в империи знал, каким образом можно интегрировать в состав государства территории с более высоким уровнем развития, чем собственные земли метрополии. После победы во Второй мировой войне он провел филигранную операцию по инкорпорации в состав СССР Пруссии во главе с Кенигсбергом, переименованным в Калининград. Опыт «умиротворения» местного населения был настолько впечатляющим, что никаких вопросов о лояльности населения присоединенных территорий впоследствии больше никогда не возникало.
В 1901 году действовать аналогичным образом в привислинских губерниях было абсолютно невозможно. Поэтому император сделал ход конем с предложением сделки для кайзера и Манифеста для собственных подданных. Сочиняя оба текста, он вспоминал слова Айтона, мысленно обращаясь к польскому социуму и германскому императору: «Все будет, как вы хотите, но совсем не так, как вы себе это представляете».
Никаких подробностей соглашения двух монархов и царского Манифеста члены Госсовета не знали, а потому страсти с самого начала закипели нешуточные. На каждый аргумент «за» сохранение привислинских губерний в составе империи во что бы то ни стало следовал немедленный аргумент «против».
– Польша – это великолепный домбровский уголь, – говорили одни.
– Который не годится для корабельных топок, поэтому приходится закупать кардифф, – парировали другие.
– Польша – это почти миллион платежеспособных налогоплательщиков!
– Да, но согласно Органическому статуту царства Польского от 1832 года, собранные налоги остаются в самой Польше…
– Польша – это почти семьсот тысяч потенциальных солдат!
– Хороши потенциальные солдаты, которых в мирное время удерживают от бунта триста тысяч регулярных войск!
– Поляки – верные офицеры империи. Вспомните шесть генералов, казненных мятежниками за отказ изменить присяге и царю!
– А вы вспомните, что казненных мятежниками было только шесть, а изменивших присяге – на порядок больше!..
Спустя час сварливых замечаний и нелицеприятных эпитетов выяснились основные противостоящие силы. В лагере, требующем удержать Польшу любыми силами, нарисовалась причудливая эклектика из сторонников жесткой русификации окраин, где первую скрипку играл генерал-губернатор Финляндии, командующий войсками Финляндского военного округа Николай Иванович Бобриков, за его спиной маячил великокняжеский комплот. К ним примыкали панслависты и чиновники, обязанные Царству Польскому своим благополучием и карьерой.
В противоположном лагере, считающем Польшу весьма сомнительным активом и почитающем за счастье сбагрить ее кайзеру, собралась не менее фантастическая коалиция из остзейских немцев и русских чиновников, требующих национального размежевания на западных окраинах Российский империи и восстановления утраченных русским народом позиций в рамках концепции «Великой России». Самым ярким выразителем этой идеи через несколько лет станет Петр Аркадьевич Столыпин[5]5
Намерение П. А. Столыпина «отделить» Царство Польское не нашло отражения в официальных документах, но было зафиксировано в воспоминаниях близких к нему людей. По словам сына П. А. Столыпина, согласно замыслу его отца, «к Польше должны были быть прирезаны, взамен отторгнутых от нее частей Холмщины, некоторые части Гродненской губернии, населенные поляками. Речь шла о части Вельского и Белостокского уездов. Таким образом, была бы достигнута основная цель размежевания». На 1920 год, свидетельствовал А. П. Столыпин, намечалось даже полное отделение Польши от России.
[Закрыть].
– Господа! – пробовал примирить враждующих министр иностранных дел граф Ламсдорф, – вопрос польской государственности – это перезревшее яблоко, которое все равно рано или поздно упадет. Это понимают и в Вене, и в Берлине. Кто первый и при каких условиях выступит с инициативой ее восстановления, тот и окажется в глазах польской общественности «рыцарем на белом коне»[6]6
В реальной истории 5 ноября 1916 года в Варшаве и Люблине германский и австро-венгерский генерал-губернаторы Ганс фон Базелер и Карл фон Кук одновременно опубликовали два манифеста. От имени своих монархов они провозглашали создание Польского королевства. И только после этого 12 декабря 1916 года Николаем II был подписан приказ № 870 по армии и флоту. В нем провозглашалось «создание свободной Польши из всех трех ее ныне разрозненных областей».
[Закрыть]. Вот о чем идет речь!
Но все было тщетно. Дело уже было не в Польше, а в огромном количестве нежных струн души высшей знати, за которые последний месяц бессовестно дергал император. Польша была очень удобным поводом расплатиться за это преизрядное беспокойство. Зафиксировав разногласия, стороны разошлись каждая при своем мнении, чтобы продолжить борьбу в другом месте и другими методами.
Сразу после заседания Госсовета, Владимирский дворец
– То, что вы предлагаете, абсолютно неприемлемо, – бросил на стол бумаги великий князь Владимир Александрович. – Россия может существовать только как самодержавие. Европейский способ правления моментально приведет к разрушению государства. Это дикость – парламентаризм в стране, которая одной ногой осталась в общинном строе. И только воспитание не позволяет мне прибавить к нему термин «первобытный».
– Дикость начнется, ваше высочество, – с поклоном собрал кинутые бумаги Витте, – когда господа Мамонтов, Шарапов и Нечволодов закончат ревизию, весь дивный самодержавный мир схлопнется для нас всех до размеров каземата Петропавловской крепости. Полторы тысячи ревизоров по высочайшему повелению денно и нощно изучают казенные траты за последние десять лет, и нет ни единой возможности хоть как-то предотвратить утечку конфиденциальной информации. Дворцовый переворот в этих условиях вряд ли будет поддержан даже союзной Францией: сосредоточение власти в руках одного лица – это опять непредсказуемые династические риски, от которых они уже устали. Дворцовых переворотов может быть много. А вот смена строя на более демократический, с опорой на политические партии, уравновешивающие друг друга, связанные деловыми отношениями с Европой, – это то, что может быть одобрено не только в Париже, но и в Лондоне… Особенно, если в результате будет предотвращено усиление Германии в виде прирастания Польшей. Правда, Британия требует еще публичного отказа от движения на юго-восток – к ее колониальным владениям.
– Вашими устами да мед пить, – усмехнулся великий князь Сергей Александрович. – Но мы помним историю Французской революции, где все началось с великосветской оппозиции маркиза Лафайета, аббата Сийеса, епископа Талейрана и графа Мирабо, а закончилось якобинской гильотиной, которая укоротила на голову первых революционеров.
– Насколько я понял, – вздохнул великий князь Алексей Александрович, – господин Витте предлагает нам выбор между судьбой жирондистов и Уильяма Твида[7]7
Уильям Твид – самый известный политик-коррупционер Америки XIX века, украл сумму, равную внешнему долгу США на тот период.
[Закрыть]. Если вопрос стоит только так и не иначе, я бы, конечно, выбрал Жиронду…
– Наши друзья из Лондона предлагают сформировать двухпалатный парламент по типу английского, в одну из них будут входить те фамилии, список которых вы сами сформируете, ваше высочество… Вы и ваши потомки будут иметь наследуемые места в сенате, формируемом по аналогии с палатой лордов… Никто принципиально не возражает и против наличия монарха, как символа государства, весь вопрос только в объеме полномочий, которые должны быть перераспределены. Абсолютизм – это все-таки пережиток.
– А вы не боитесь, господа родственники, что я, как и полагается честному офицеру, доложу императору о вашем комплоте? – подал голос великий князь Александр Михайлович.
– Меньше всего мы опасаемся именно этого, ваше высочество, – усмехнулся Витте, – во-первых, потому, что придется доложить его императорскому величеству, на какие средства было построено ваше собственное имение «Ай-Тодор», эту информацию ревизоры найдут обязательно – я уж позабочусь…
– Ну а во-вторых, – перебил финансиста великий князь Владимир Александрович, – для доклада, Сандро, тебе придется ждать возвращения Никки, а мы сами ждать не собираемся.
– Но именно это и есть безумие!
– Нет, это как раз благоразумие, а безумие – ждать, когда все эти ревизии доберутся до военного ведомства и нас поднимет на штыки наша собственная армия.
– Хватит выспренных речей. Сколько у нас есть времени?
– Пограничная стража подчиняется министерству финансов, и она уже перекрыла границу с нашей стороны. На какое-то время это задержит царя, но только в том случае, если их поддержат немецкие коллеги.
– Наши друзья в Германии понимают, что они своими руками разваливают такую выгодную для них сделку?
– Они отдают себе отчет в этом, но сознательно разменивают приобретение территорий на сближение с Великобританией и считают, что сейчас для них это важнее… Однако просят подтвердить обязательства России по польской сделке на будущее… Естественно, без лишней огласки – секретным протоколом…
– Волкодавы! Хотят выбить уступки и с Англии, и с нас одновременно. Собственные обязательства, как я понял, они подтверждать не намерены? И что будем делать?
– Простите, но я уже подтвердил…
– Сергей Юльевич, а не рано ли вы примерили мундир руководителя правительства?
– Простите, ваше высочество, но царский поезд двигался уже к границе, и времени на согласование просто не было.
– На ходу подметки режете, господин министр!
– Просто это единственный шанс. Если император вернется раньше, чем мы объявим о новом правительстве, конституции и получим признание основных держав, то все зря.
– А у вас есть гарантии, что получим?
– Нас поддерживает деловое сообщество, и в первую очередь банки, озабоченные планами царя о реформах финансов, особенно слухами об отмене золотого рубля. Кроме того, он оговорился о возможном запрете ростовщичества и крайне неодобрительно высказался об игре на бирже. То есть успел потревожить самые могущественные финансовые центры, а они такого не прощают. И если не бурный восторг, то молчаливое одобрение своих правительств они обеспечить в состоянии. Конечно, все это не бесплатно, и нам придется раскошелиться, но в свете явных угроз это уже несущественно… Условие одно: все должно быть юридически корректно, быстро и одновременно – медицинское заключение о недееспособности государя, полученное от немецких врачей, ваш Манифест регента об учреждении Временного правительства, конституционной комиссии и переходе на республиканский тип правления… Меня больше беспокоит вопрос, на какие силы можем рассчитывать в Петербурге?
– Первый гвардейский корпус выполнит любой приказ, – кивнул головой великий князь Павел Александрович, – но, думаю, достаточно будет одной демонстрации. Не только в Петербурге, но и вообще в России не существует силы, поддерживающей царя. Не считать же серьезной боевой единицей этот потешный африканский полк генерала Максимова…
Кровавое воскресенье
– А не рано ли начали, сударь? – строго спросила Мария Павловна, застав супруга, великого князя Владимира Александровича, с одиноким бокалом в руках и с мешками под глазами. – Начинается такой важный день для нашей семьи, а вы, смотрю, уже решили его завершить?
– Ты не понимаешь, дорогая, что, подписывая этот Манифест, я отрезаю себе все пути отступления? – не поднимая глаз от вишневой жидкости на дне сосуда, выдохнул великий князь.
– Я не просто понимаю это, дорогой, – произнесла княгиня с улыбкой Медузы-Горгоны, – я безмерно счастлива, что ты это сделаешь, прекратив изображать верность тому, кто этого чувства не достоин, и назовешь юродивого юродивым.
– Мне брат доверил быть регентом для сохранения самодержавия, а не для его разрушения.
– А кто заставляет тебя его разрушать?
– Но Витте требует, чтобы я объявил о Конституционной реформе и парламентской республике.
– Мало ли что требует Витте? – фыркнула Мария Павловна. – Этот плебей спасает свою шкуру, понимая, что только никем не ограниченная премьерская власть может быть гарантией его неприкосновенности. Это подлец… – княгиня решительно отобрала у мужа бокал и поставила его на столик. – Но полезный подлец. Он сделает за нас всю работу, а ты сможешь наконец передать престол тому, кто его больше всего достоин.
Великий князь посмотрел на жену долгим мутным взглядом. Бессонная ночь и добротный коньяк явно не способствовали быстрому осознанию шахматных комбинаций супруги.
– Ну вот смотри, – Мария Павловна зашла за спину Владимира Александровича, сжала его виски своими холодными сухими ладошками и горячо зашептала на ухо, – ты получил сообщение от немецких медиков о душевной болезни Никки. Сам он находится за границей и не-до-сту-пен для подтверждения или опровержения этого факта. Пользуясь дарованным тебе правом, с целью сохранения управляемости империи и только на время болезни императора ты передаешь полномочия Временному правительству во главе с этим кухаркиным сыном и просто ждешь. Больше ничего делать не придется. Временное правительство – это власть, которая работает вре-мен-но, то есть до следующего твоего распоряжения. И пусть он сам, если хочет, объявляет о парламенте, конституции, прочих модных новшествах. Пусть играет в свои игрушки, сколько ему влезет, лишь бы он уладил проблему Никки и Аликс. Хотя, думаю, что этот вопрос за него решили уже его друзья-банкиры. А когда Витте сделает всю грязную работу, ты сможешь объявить о прекращении полномочий его правительства и передать корону нашему мальчику.
– И он отдаст с таким трудом полученную власть? – криво улыбнулся великий князь.
– Его грязные интриги – против твоей гвардии, – улыбка Медузы-Горгоны стала неотразимой. – Дорогой мой, винтовка рождает власть[8]8
Мария Павловна опередила Мао Цзедуна.
[Закрыть], и пока она у тебя, а не у него, он будет играть по нашим правилам!
– Кстати, насчет винтовок и гвардии… Витте просит сразу после объявления Манифеста поднять императорский штандарт над Зимним дворцом и окружить его двойным кольцом оцепления…
– Ну… эту маленькую шалость, думаю, мы можем себе позволить, независимо от того, что задумал этот смерд…
– Если вдруг он, увидев, что я в Манифесте ничего не сказал про Конституцию и республиканское правление, откажется от своих планов, и мы так и не узнаем, что он задумал?
– Можешь подарить ему комиссию по разработке Конституции и законодательства о парламенте… Но даже без этого… Нет, не откажется. Ему просто некуда деваться. Коготок увяз – всей птичке пропасть…
– Где увяз коготок птички?
– В казне, мой дражайший супруг. Она почти всегда является главной причиной нелепых политических авантюр…
* * *
Первые организации эсеров появились в середине 1890-х годов. Одной из них был Союз русских социалистов-революционеров, родившийся в 1893 году в Берне, где самыми активными повитухами этого детища стали Швейцарская банковская корпорация, французский «Cretdit Lyonnais» и их «сердечные партнеры» из Лондонского Сити.
Весьма любопытным эсеровским подразделением была ее боевая ячейка, по размерам, подготовке и финансовым возможностям превосходящая саму партию. Задолго до официального оформления единого эсеровского центра, с активной помощью тайной полиции и разведок Франции и Англии, ее начал формировать не менее интересный человек – Григорий Андреевич Гершуни. Если еще точнее, партия социалистов-революционеров создавалась вокруг боевой организации товарища Гершуни и была идеологическим прикрытием ее насквозь коммерческой работы по ликвидации неугодных политических фигур и рыночных конкурентов. Эта структура не подчинялась партийным органам и не отчитывалась перед остальными эсерами о своих действиях, была своеобразным государством в государстве, орденом избранных, «творящим добро» самим фактом своего существования, без оглядки на кого бы то ни было, никому не подконтрольная и не подсудная.
В последнюю неделю января 1901 года «фирма» Григория Андреевича планировала выход в свет. Дебют должен был получиться оглушительным, при большом скоплении народа и привести к тектоническим политическим сдвигам в самой большой стране мира.
Манифест регента империи, великого князя Владимира Александровича о недееспособности царя и передаче власти Временному правительству во главе с Витте, пришедшийся на последнюю пятницу января, всколыхнул столицу, уже и так немало растревоженную последними инициативами императора. Известие о душевном недуге государя, несмотря на содержащиеся в Манифесте надежды на скорое выздоровление, взъерошило обывателей более, чем известия о покушении. Всем было интересно узнать, что теперь будет с царскими указами за последний месяц? Они будут отменены, так как приняты и провозглашены сумасшедшим? А как же освобождение от налогов и податей малоимущих, к коим относили себя четыре пятых населения империи? Что теперь будет со снятием запретов на обучение и других сословных ограничений? А как же отмена телесных наказаний? А восьмичасовой рабочий день и запрет на труд детей? Это все теперь недействительно? Поэтому, когда в субботу над Зимним взвился императорский штандарт, сигнализирующий о присутствии государя на своем рабочем месте, народ решил идти за правдой. Очень способствовали организации шествия «народные энтузиасты», материализовавшиеся накануне в самых разных районах города, бойко призывавшие не оставаться безучастными зрителями и не дать «злым боярам» порушить добрые начинания царя. Слухи о том, что придворные гады хотят перекрыть свежий воздух свободы, а император на самом деле жив-здоров, но силой удерживается знатью, недовольной его последними реформами, настойчиво гуляли по питерским улицам и закоулкам. Штаб «народных энтузиастов» в доме 59 на набережной реки Мойки, аккурат в том же здании, где находился филиал «Лионского кредита», перешел на круглосуточную работу, вдохновенно дирижируя потоком слухов, определяя точки и время сбора, формируя колонны для организованного движения на Дворцовую площадь.
* * *
– Ваше высокопревосходительство, – образцово вытянулся, войдя в кабинет, адъютант командира 1-й гвардейской пехотной дивизии генерал-лейтенанта Бобрикова, – к вам начальник Главного политического управления полковник Юденич.
Повинуясь короткому кивку головы, адъютант неслышно исчез за дверью, а перед глазами начальника появился невзрачный офицер в мешковатой полевой форме, смотрящейся в гвардейском храме военной роскоши вызывающе чужеродно. Генерал с усмешкой осмотрел вытащенного из туркестанской тьмутаракани армейца, похожего на него полным отсутствием растительности на голове. Зато генеральские усы по пышности и ухоженности давали сто очков вперед аналогичному украшению полковника.
– Слушаю вас, – не переставая перебирать бумаги, отрывисто произнес генерал, – только прошу кратко, у меня дел невпроворот.
– Я как раз по поводу ваших дел, Георгий Иванович, – учтиво кивнул Юденич, – прошу ознакомиться с письмом, адресованным лично вам. Надеюсь, вы знакомы с этими печатями на пакете? Мне поручено дождаться ответа.
Генерал кивнул, взял в руки конверт, вслух прочитал:
– Командиру первой гвардейской пехотной дивизии генерал-лейтенанту Бобрикову, лично в руки. Вскрыть в случае покушения на мою персону, неожиданной болезни, а равно моего безвестного отсутствия или другой причины, из-за которой я буду объявлен недееспособным…
Генерал вскинул глаза на полковника.
– И когда сия бумага была составлена?
– Не могу знать. Имею поручение только доставить лично в руки и всемерно содействовать вам в выполнении полученного приказа.
– Ну что ж, тогда почитаем приказ, – генерал вскрыл сургучные печати. – Та-а-ак, тут говорится про запрет на участие гвардии в подавлении возможных беспорядков… Не поддаваться на провокации… В случае угрозы жизни и здоровью солдат и офицеров – вывести дивизию из города… Та-а-а-к, вы понимаете, что это, полковник?
– Вас что-то смущает?
– Меня смущает подпись под приказом – это не почерк его величества.
– Вам прекрасно известно, что после двух покушений, а особо после контузии, моторика рук государя еще не восстановилась!
– А может быть, дело не в этом? Может, эта подпись, как и письмо – подделка? Или еще хуже – человек, писавший его, не в себе? После решения отказаться от Царства Польского именно это и приходит в голову! Вывести гвардию – значит оставить город без защиты! Это и есть провокация, господин Юденич!
– Что вы намерены делать, Георгий Иванович?
– Я намерен выполнять свой долг. Кстати, кто еще получил такие же письма?
– Командиры всех полков, шефом коих является государь, генерал Скарятин, командир расквартированной в столице 37-й пехотной дивизии и флотские экипажи Кронштадта…
– Ну ничего, это мы поправим, – криво усмехнулся Бобриков. – Дежурный! Арестовать полковника как провокатора! Передать нарочными в полки: переловить его подельников, доставивших аналогичные письма, привезти в штаб – я сам с ними побеседую.
– Зря вы так, Георгий Иванович, – вздохнул Юденич, – стреляться ведь потом придется…
– Что? Молчать! Да я вас в Сибирь! На каторгу!.. Ишь, распустились, вояки потешные! Конвой!..
* * *
Императорский поезд был остановлен «в связи с непредвиденной аварией железнодорожного полотна» почти на самой границе, и теперь местные путевые рабочие споро цепляли к нему маневровый паровозик, явно намереваясь перетащить его в какой-нибудь тупичок.
«Ну, Вилли! Ну, волкодав! – улыбался про себя император, наблюдая, как по перрону прусского городка Бромберг прохаживаются преисполненные важности полицейские Второго рейха. – Интересно, это твой собственный план, или его написали за тебя в Туманном Альбионе? И ты подумал, что старый подпольщик будет ждать, когда ты решишь его судьбу? Какая наивность!»
– Иван Дмитриевич, – произнес монарх, – пришла пора задействовать ваш волшебный театральный саквояж и переходить к особому плану, о котором я вас предупреждал. Соберите, пожалуйста, доверенных лиц в салоне. Приступаем.
Когда маневровая «кукушка» замерла на стрелке, отъехав от перрона с охраной на положенную версту, а помощник машиниста, отчаянно зевая и лениво переругиваясь со стрелочником, занялся семафором, из крайнего вагона неторопливо вышли и степенно направились к городским строениям два монаха-бенедиктинца, кутаясь в длинные рясы и прикрывая лица от зимнего ветра своими черными капюшонами. «Проклятые миссионеры-католики! Шляются тут, будто им медом намазано, – неприязненно подумал правоверный лютеранин машинист, выглядывая из своего паровозного окошка, – нашли кого в веру обращать – законченных схизматиков…» – и, сплюнув вслед ненавистным папистам, занялся своими фырчащими и дышащими паром механизмами.
* * *
Коменданта Кронштадта адмирала Макарова разбудил настойчивый стук в дверь, гулко раздававшийся в спящем доме в это раннее зимнее утро.
– От генерала Максимова, – коротко отрекомендовался посыльный и, козырнув, вручил именной конверт с лежавшим в нем пакетом, с солидной сургучной печатью и монограммой, право на которую имел всего один человек в империи.
– Вот что, голубчик, – коротко проинструктировал адъютанта Макаров, ознакомившись с посланием, – сообщи кому следует, что с сегодняшнего дня охрану внешнего периметра Кронштадта несет и пропускной режим в город обеспечивает бригада Евгения Яковлевича, ему надлежит передать все пулеметы кораблей, стоящих на зимней стоянке и на ремонте. Командирам экипажей – вскрыть пакет с литерой «Р» и действовать по вложенной инструкции. На «Ермаке» – грузить уголь, разводить пары. По готовности – выходим… Интересно, как там у Иессена?
* * *
Капитан первого ранга Карл Петрович Иессен чувствовал себя неуютно и тревожно. 28 ноября 1900 года после прощания с рабочими-балтийцами его «Громобой» снялся с бочки аванпорта Кронштадта. Показав позывные крепости и отсалютовав ей семью выстрелами, крейсер отправился в порт своей постоянной приписки – Владивосток. Но на стоянке в Киле боевой корабль нагнало высочайшее повеление – вместо перехода во Владивосток совершить плавание вокруг Британии и вернуться на Балтику, зайдя в Данциг, обосновав это необходимостью ремонта машин, где и ждать дальнейших распоряжений. Само испытательное плавание с последующей ревизией машин капитан считал вполне разумным. «Громобой» наплавал всего 500 миль и к тому же успел посидеть на мели, поэтому проверка механизмов перед дальним переходом во Владивосток была более чем оправдана. Но зачем надо переться именно в Данциг, где не было никаких условий, и сидеть там столько времени, изображая бурную деятельность на борту, Иессен понимать отказывался. Однако Карл Петро́вич, как настоящий служака, приказы начальства привык исполнять, поэтому только пожимал плечами, получая по радио один и тот же сигнал: «Ждать». И вот, наконец, когда у экипажа, зажатого в тесноте железных отсеков, терпелка начала заканчиваться, с берега подали условный сигнал, и к высоченному борту крейсера пришвартовался абсолютно невзрачный паровой катер. С него на палубу поднялись, судя по внешнему виду, два заштатных коммивояжера, в одном из которых изумленный капитан узнал…