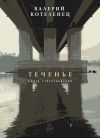Текст книги "Бересклет"

Автор книги: Сергей Волков
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Сергей Волков
Бересклет. Книга стихов

Волков Сергей Вадимович (1972, Ленинград) – поэт, автор книг стихов «На улице Бурцева» и «Дорога к февралю», публикаций в журналах и альманахах «Звезда» (СПб), «Нева» (СПб), «Паровозъ» (Москва), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Веси» (Екатеринбург), «Город» (Тольятти), «Девятый Сфинкс» (Николаев) и др., член Союза российских писателей.

© Волков С.В., текст, 2022
© «Знакъ», макет, 2022
«На углу Таврической и детства…»
На углу Таврической и детства,
На стене, закрашенной давно,
Если хорошенько приглядеться,
Надписи проступят всё равно.
Поcтою, и вспомню, как дружили,
И крутили первую любовь,
Как, однажды, сам Егор Дружинин
Мне рассёк мячом бейсбольным бровь,
Бочку с квасом желтую, поэта
Юрку, отошедшего от дел,
Помню, помню, и не только это,
Я и сам стихи писать хотел.
И писал – с нажимом, и с напором,
Жаль, что выходила ерунда,
Но любовь к рефренам и повторам
Приобрёл я раз и навсегда.
«Обрезали тополю ветви…»
Обрезали тополю ветви,
И спиленный ствол оголён,
И, живший с ним в тесном соседстве,
Покинутым выглядит клён.
А всё ж непонятно, откуда,
Как буйного тополя дух,
Как белая пена, как чудо,
Доносится в комнату пух.
На волосы, на одеяло —
Волшебный, воздушный налёт,
Как если бы небо упало,
А снег всё идёт, и идёт.
Как если б кто был здесь и вышел
Не весь, кто любил горячо,
Хорошую весточку свыше
Тебе положил на плечо.
И плещет как будто над ухом
Всё тот же зелёный прибой,
И не было праха, и пухом
Летят тополя над тобой.
«А первою книгой был «Остров сокровищ»…»
А первою книгой был «Остров сокровищ»,
А первый товарищ – Кирилл Альперович,
Впоследствии ставший врачом.
А первой любви не взбираемся выше,
За некую M. низвергался я с крыши,
И землю таранил плечом.
Всё лучшее было, ушли корабли все.
Осталось учиться у доктора Ливси
Пить ром да растить самосад.
Набить бы им трубки, заныкаться в шлюпке,
Но ласковый голос из кухни, из рубки
Командует полный назад.
Пиастры, пиастры, в таверне, в шалмане,
Да, кстати, и не было женщин в романе,
Поскольку сбивают с пути, —
Поклажа, пропажа, беда экипажа, —
И вовсе не М., а конечно же, Маша,
Пропажа, заноза в груди!
«Просто мальчик, юнга с бригантины…»
Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!
Павел Коган
Просто мальчик, юнга с бригантины,
Молодое терпкое вино,
Вас ни с кем не спутаешь, – один вы,
Все за борт попрыгали давно.
Это мы вокруг – всё те же рожи.
Лица, лица, милые черты.
На кого та девушка похожа?
На кого похож сегодня ты?
Мальчик Павел, вечная разведка,
Песня в клочья, китель в решето:
Почему так мало, и так редко,
Рано, редко, чисто, как никто?
С той высотки, сопки, с той вершины
Из угла расходятся лучи.
Никогда не вырастут большими,
Взрослыми не станут трубачи.
А углы всегда каким-то боком
Задевают наши косяки,
Светлый лучик, мальчик, Павел Коган,
Острый угол, чистые стихи.
Шахматы по переписке
Сыграл незадолго до смерти
Ладья g4 – и вот
С блистательным ходом в конверте
Почтовый плывёт пароход.
Котлы наполняются паром,
Волна за кормою бежит,
А в спальне, разбитый ударом,
Любитель Корнеев лежит.
Лежит и не знает, что скоро
Навеки в учебник войдёт —
В развитье идей Филидора —
Его неожиданный ход.
Он умер, но там, в Ливерпуле,
В свирепом табачном дыму,
Три дня просидевший на стуле,
Гроссмейстер сдаётся ему,
И, дату в тетрадке пометив,
На доску кладёт короля,
На белые клеточки эти,
На чёрные эти поля.
Назад пароходик помчался,
И в дверь постучал почтальон.
Любитель Корнеев скончался,
Но партию выиграл он.
«Сейчас и не зайдёшь-то с улицы…»
Сейчас и не зайдёшь-то с улицы
Во двор, где по ночам гремел
Кассетник наш, и Кира Суровцев
В брэйк-дансе равных не имел.
Он в тренировочных пространных,
И в рваных кедах, как у нас,
Зато ветровка – иностранная,
Вся на липучках, первый класс!
И с равнодушьем слишком деланным
На Киру девочки глядят,
А он волну пускает телом,
А он садится на шпагат,
Он крутит мельницы и ножницы,
Земли не чуя под собой,
Молчат девчонки, как заложницы,
Его ветровки голубой,
И я сквозь шум в глазища Танины,
Пока совсем в них не упал,
Кричу, что сам на рынке в Таллине
Для Киры куртку покупал.
«Бывало, что стоишь, забыт и брошен…»
Бывало, что стоишь, забыт и брошен,
Всё крутишь диск, и не отнять руки,
И снегом перекрёсток запорошен,
И в трубке только длинные гудки.
В обледеневшей будке автомата
В ладони мокрой тает горсть монет,
Когда пропало всё, когда так надо,
Но никого на свете дома нет.
Я и теперь, как бедный тот подросток,
С надеждой двухкопеечной в горсти,
Метелью запорошен перекрёсток,
И видит Бог, мне некуда идти.
Merry Christmas
Пусть волхвы колдуют, и царят
Пусть цари, и тьма стоит в пещере, —
Нынче все о Мери говорят,
Только что и слышно, – Мери, Мери.
И блестит снежок на волосах,
И скрипит снежок под башмаками,
В Ипсвиче двенадцать на часах,
В Норвиче двенадцать, в Ноттингаме.
Мери Кристмос – так назвал бы я
Свой рассказ и подарил другому.
Мери Кристмос – прачка и швея,
Помогает Диккенсу по дому.
А сегодня вымоталась вся —
Целый день по городу кружила,
И на стол поставила гуся,
И колечко в пудинг положила.
Уж она давно легла в постель,
А вокруг всю ночь стучались в двери.
Кто-нибудь, окликни нас в метель,
Кто-нибудь, скажи нам, – Мери, Мери!
«Ты открой два письма, не одевшись ещё…»
Ты открой два письма, не одевшись ещё, —
Я хочу до теней и до пудры
Губ твоих незнакомых коснуться и щёк,
Улыбнись, моё горькое утро.
Ты ведь в среду в мои прилетаешь края,
Не ко мне, ну и пусть, – только в среду,
Чтоб не знать, как ты близко, из города я
На два дня бесконечных уеду.
Слишком долго робел и сходил я с ума,
И сойдя, на судьбу положился,
И читаешь ты строки второго письма,
А на первое я не решился.
«Значит, и впрямь, никуда без поэзии…»
Значит, и впрямь, никуда без поэзии,
Если на сцене, на самом краю,
Старенький Зяма покойного Дезика
Так и читает, как душу свою.
Долго читает, набухло под веками, —
Зямина дорого стоит слеза.
Так и стоит, и смахнуть её некому,
И описать невозможно глаза.
Ноет осколок, доставшийся смолоду
Дезику в руку, у Зямы в ноге.
Это читает Давида Самойлова
Зяма, Зиновий Ефимович Гердт.
Это, не чуя земли под ногами,
Так оживает старик в старике,
Это читает по памяти «Гамлета»
Гамлет, и воздух сжимает в руке.
«В окно открытое, с гулянья…»
В окно открытое, с гулянья,
Ворвался ветер впопыхах,
Грозою бредил, тополями,
Сырою свежестью пропах,
Вилась, кружилась занавеска,
Как плащ, металась за спиной,
Но прозвучал в квартире резко
Звонок отчаянный ночной,
И ты почуял дуновенье
Привычной в общем-то беды,
И понял, как ещё мгновенье
Тому назад был счастлив ты.
«Храни меня, прекрасная пора…»
Храни меня, прекрасная пора,
Осенние колхозы институтские,
В райцентре дискотеки до утра,
Грузовики, дороги наши русские.
Как выяснилось позже, за морковь
Мы бились на развалинах империи,
Но выходили в поле, и любовь
Ещё была таинственной материей.
И потому, храни меня туман,
Пусть позже прояснится слишком многое,
Ты утром тем на счастье был мне дан,
Туман над пашней чёрной, над дорогою.
«Останься на Сущевской станции…»
Останься на Сущевской станции
Под самый августовский путч,
Как был никем, так и останься,
Зря только разум наш кипуч.
У стрелки часовой на кончике
Гудит вокзал, – хватай мешки;
Ордынцы грузятся в вагончики,
Шансон врубают ямщики.
Кто с жиру бесится, кто с голоду,
А мы стоим тут стороной,
И жаль не родину, а молодость,
Она-то и была страной.
А мы в буфете семки лузгаем,
Последний режем ананас,
И поезда Великолукские
Летят в грядущее без нас.
«Что нельзя состоять при народе…»
Что нельзя состоять при народе
И противно в парадный расчёт,
Напиши генералу Чарноте —
Он тебя с полуслова прочтёт.
Нас как будто бы ветром надуло,
Нам родные сулят берега
То чахоточный воздух Стамбула,
То его тараканьи бега.
Никого ни о чём не просили,
Увлекались спортивной борьбой…
Что Россия? Ты тоже Россия,
И, похоже, что Бог не с тобой.
«На самой кромке, у воды…»
На самой кромке, у воды,
Где галька и песок,
Хочу, чтоб опустила ты
Мне руку на висок.
Пусть на песке лежит баркас,
И ветер пусть ночной,
Но луч закатный не погас
На соснах за спиной,
На мокрой гальке, на ветру,
На кромке, до конца…
И ты, покуда не умру,
Не отведёшь лица.
«Снег в лучах фонарей и вечернее улиц теченье…»
Снег в лучах фонарей и вечернее улиц теченье,
Гулкой лестницы марш, и за дверью один человек.
Не забыть бы дорогой купить развесного печенья,
А варенья в том доме, наверное, хватит на век.
С остановки троллейбуса шёл я по скользкому снегу,
Нёс бумажный кулёк, и в квартиру раз десять звоня,
«Открывайте уже!» – всё стучал я тому человеку,
А теперь не стучу – ведь его больше нет у меня.
«Пусть чёрные и белые березы…»
Пусть чёрные и белые березы
Навстречу мне вдоль насыпи летят,
Пусть в утреннем тумане тепловозы
Тревожно и пронзительно гудят;
Ещё я на стекле держу ладони,
О, сколько раз я спрячу в них лицо!
Отец и мать остались на перроне,
И, вздрогнув, повернулось колесо.
Я вырос, и один на море еду
Вослед за телеграммой обо мне,
И в тамбуре достану сигарету
Со взрослыми другими наравне.
О, сколько раз печаль взлетит с причала,
Раскинув чёрно-белые крыла,
И закричит в тумане, но сначала
Убрать ладони надо со стекла.
В Летнем саду
Вновь белой ночью за оградой
Царит какой-то неуют:
Едят и курят возле статуй,
И у фонтанов пиво пьют.
От громкой музыки и сора,
От ярких вспышек, толкотни
Листвой укрыться хочет Флора,
Эвтерпа прячется в тени.
Толпа с Невы, толпа с Фонтанки
Под тёплым ласковым дождём;
Терпенье, милые гречанки!
Мы ночью чёрною уйдём.
Мы вновь исчезнем за оградой,
Наш бог стоит невдалеке —
С железным сердцем бог крылатый,
С погасшим факелом в руке.
«Я стану ждать – я в аэропорту…»
Я стану ждать – я в аэропорту.
Нет, не в толпе, не в зале, а на воле —
Я на ветру стою один и жду
На гулком и холодном лётном поле.
Я буду ждать – я буду ждать тебя,
Я буду ждать из Томска самолёта,
Букет гвоздик перчаткой теребя,
И зная, что нелётная погода.
Меня хоть всей метелью запорошь —
Я буду ждать, букет оберегая.
И с трапа самолёта ты сойдёшь,
И это будешь ты, а не другая.
«Кардиналы столкуются с фрондой…»
Кардиналы столкуются с фрондой,
В долгий ящик отправят солдат,
И широкая линия фронта
Будет свёрнута в мирный трактат.
Снова лилий французских бутоны
Лотарингским дроздам по душе,
Затихают предсмертные стоны,
И зима наступает уже.
Те, кто жив, посчитают пистоли
И шуметь по харчевням пойдут,
И снегами покроется в поле
Трижды взятый зачем-то редут.
И на паперти сядет увечный
В окруженьи старух и ворон,
И – по кличке Филипп Безупречный —
Недоумок залезет на трон.
«Ты говорила, и была права…»
Ты говорила, и была права,
Слова ложились ровно, без запинки,
И снег на воротник, на рукава
Летел всю ночь, и таяли снежинки.
Ты говорила долго, не спеша,
И было пять минут до расставанья,
Но видел по глазам я, как душа
Рвалась ко мне сквозь ткань повествованья.
Сирано
Понапрасну писал, и листки целовал,
Не листки, а слова, – не слова,
А лица проступавший за ними овал,
Эти сонные веки сперва.
И проходит тоска коридорами лет,
Чтоб тобой овладеть, например.
И любовь уведёт молодой Невильет,
А великую славу – Мольер.
И проломят оглоблей височную кость
За углом, в переулке глухом.
Так скажи мне, – куда, вдруг, девается злость
С первой ласточкой, с первым стихом?
«Нужны домовому тепло от плиты…»
Нужны домовому тепло от плиты,
И утвари горы, и залежи снеди,
И чтобы хватало в углах темноты,
И шум за окном не мешал на рассвете.
Он прятал перчатки, зонты и ключи,
Скрипел половицей на кухне и дверцей,
И всё подступал к изголовью в ночи,
И тенью порою ложился на сердце.
Смотрел он на двери с тоской вековой,
На землю и снег, занесённые с улиц,
И места себе не нашёл домовой,
Когда мы, уехав, назад не вернулись.
Он бросить свой дом не хотел и не мог,
И, дух испустивший средь хлама и пыли,
Рабочими вынесен был за порог,
И стены родные о нас позабыли.
«Что улыбка? – Обычное дело…»
Алёне
Что улыбка? – Обычное дело.
Улыбнулась и дальше пошла.
Ничего ты сказать не хотела,
Может, просто сказать не смогла.
Даже имени я не узнаю,
Лишь улыбка, а следом за ней
Снег, летящий к ночному трамваю,
Дальний отсвет маршрутных огней,
Крики поздних, пустых электричек,
Ветер, ветер в разбитом окне…
Что улыбка твоя, Беатриче,
Только раз просиявшая мне?
«Горн трубил задорно и лучисто…»
Генка никогда не чихает.
Анатолий Рыбаков «Кортик»
Горн трубил задорно и лучисто.
А потом, уже без дураков,
Чисто за базар, ответил чисто
Славный парень – Миша Поляков.
Над кострами вьётся только справка,
Песня пропадает навсегда,
В плиточники выбившийся Славка,
Славкина могильная плита.
Иволга в малиннике не плачет,
Иволга на иве хороша.
За баранкой всё ещё ишачит
Генка, Генка, чистая душа.
Горн затих отрывисто и резко,
Более надежд не подаёт.
Только я один брожу по Ревску,
И меня никто не узнаёт.
Иволга тоскует, затихает,
У костра расселась гопота,
И который день уже чихает
Генка, не чихавший никогда.
«Пока я жив, и зрение при мне…»
Пока я жив, и зрение при мне,
Пока не остывает кровь в сосудах,
Пока она кипит, как на огне,
И голоса лишается рассудок,
Пока ты до порога не дошла,
Пока стоишь, туманна и морозна,
Пока ещё бумаги со стола
Могу смахнуть, пока ещё не поздно,
Я, вдруг, рвану, схвачу тебя в дверях
Случайной, мимолётной нашей встречи,
Навек, быть может, разум потеряв,
Чтоб ты на миг лишилась дара речи.
«Что возьмём мы с собою на лодку?..»
…припасли, дружок, немного водочки,
вот теперь её и разопьём.
Георгий Иванов
Что возьмём мы с собою на лодку?
Первым долгом – собаку и водку,
Как предписано нам, – на потом.
Чашки, удочки, плед, сковородку,
Двух друзей и поэзии том.
Да пошлют небеса нам не чаек,
Резких криков и выпуклых глаз,
А одной вдохновенной печали,
Чтобы волны тихонько качали,
И туманы окутали нас.
Обойдёмся уже без парада.
Пусть за славою – счастьем своим —
Одиссея гребёт, Илиада.
Всё прихватим, а вёсел не надо —
Мы не гордые, так посидим.
«Оставь за мною в своём смартфоне…»
Оставь за мною в своём смартфоне
Несколько мегабайт,
А на экране, на чёрном фоне
Пусть висит снегопад.
И если больше тебе не отправлю
Ни одного письма,
Значит, за горло меня и вправду
Крепко взяла зима.
Но там, за белым, как саван, снегом
В небо взметнулся дым,
И тот, кто был твоим человеком,
Ангелом стал твоим.
«Со двора мы съезжали в преддверии осени…»
Со двора мы съезжали в преддверии осени,
Папа был, словно ослик, навьючен вещами,
Забираясь в автобус, что вёз к Феодосии,
И хозяйке рукою махал на прощание.
Алычи вспоминаются ягоды сочные,
На веранде родители, Таня и Дима,
Давних южных времён перепевы песочные,
Не Очакова, но покорения Крыма.
Как поймёшь, что не надо цепляться за прошлое,
Если ветром с холмов будто спину продуло,
Если столько монет было с берега брошено,
Но обратно тебя ни одна не вернула,
Если скоро отъедешь в автобусе стареньком,
Если с морем прощаешься утром дождливым,
И на склоне песчаном, за ветви кустарника
Ухватившись рукою, стоишь над обрывом.
«Мы долго бились над вопросом…»
Мы долго бились над вопросом,
Кому навеки быть с тобой,
И он стоял с разбитым носом,
А я с расквашенной губой.
Но после всё решилось в споре
За стойкой барною, в дыму,
Тебе, наверное, на горе,
И уж не знаю, как ему.
Монетка в воздухе зависла,
Монетка выпала на стол,
И третий лишний в баре «Висла»
Допил стакан и в дождь ушёл.
«Раньше трава зеленее была, а за шторами…»
Время ночное бежит…
Публий Овидий
Раньше трава зеленее была, а за шторами
Прятался свет, и маячили тени подруг,
Даром что ветреных, больше мученья с которыми —
Слишком уж часто они отбивались от рук.
Плыл по Расстанной трамвай – только медленно, медленно, —
Где ж ему, старому, было угнаться за мной,
Ветхими шёл я дворами, кварталами бедными,
Шёл налегке, с мокрой розой и строчкой одной.
Лестницей чёрной взлетал, чтоб соседи не видели,
И не носил я тогда на запястье часов.
Время ночное, Оксана, – открой же Овидию,
Время ночное бежит – отпирай же засов!
«Сидели долго и молчали…»
Сидели долго и молчали,
Лишь ложки чайные стучали, —
Дай Бог ей мужества и сил.
Блажен, кто из другого теста,
Кто на земле находит место
Поверх любви, поверх могил.
Сидели долго и молчали,
Но ты, – стоящий за плечами,
Ты, со свечою и с ключами
Входящий в сердце, как домой,
Творец любви, творец печали, —
Скажи хоть слово, Боже мой.
«Дома имеются «Планы на осень»…»
Оттого, что ты дома, что грустен твой смех,
что невесел твой ветреный Кальман…
И. Дуда
Дома имеются «Планы на осень» —
Тонкая книжка Ивана Дуды.
Он, говорят, сочинительство бросил,
Счёл, говорят, за пустые труды.
Помню, читает Иван заикаясь,
В вязаном шарфе длиннее пальто,
Голосом тихим, как будто бы каясь,
Словно читает и пишет не то.
За рукомойником жерди намокли,
Рядом подсолнух растёт и лопух,
Ветреный Кальман, открытые окна,
Летом из окон доносится пух.
Может, и бросил, – да кто ж его знает,
Книжка на полке пылится, и пусть.
В руки давненько не брал её, значит.
Выучить, значит, успел наизусть.
«Ещё ты Чистыми прудами…»
Ещё ты Чистыми прудами
Идёшь как будто налегке,
Цветёт сирень, мальчишка к маме
Бежит с мороженым в руке,
На травке, одуванчик Божий,
Старушка кормит голубей,
Звенит трамвай, спешит прохожий,
И горя нету, хоть убей.
И радио не забывает,
Что любят песню города,
И небо светом заливает
Пределы Чистого пруда,
Струится песня, вьётся строчка,
А на скамейке, позади,
Засела намертво заточка
У Васи Векшина в груди.
«Нeсгораемый сейф в кабинете…»
Нeсгораемый сейф в кабинете.
Дело личное жизни былой.
Поджидают тебя на том свете
Дознаватели – добрый и злой.
Добрый в белом, и злой тоже белый,
Но пошире в крылах, и брюнет.
Что угодно тверди, но не делай
Между ними различий: их нет.
Так и так выйдут вечные муки
Для души, уходящей вразнос…
Ничего, доиграетесь, суки,
Скоро будет и с ангелов спрос.
«Куражиться нам и гулять по Парижу…»
Куражиться нам и гулять по Парижу
Уже никогда не придётся, как вижу,
Но можно чему-нибудь наперекор
В Бежаницы двинуться или в Адорье, —
Нам только бы поле, забор и подворье,
Мы там и сойдём, где заглохнет мотор.
Холмы, перелески, и вольная Сороть,
И с другом ничто нас не может рассорить
На старых ступенях резного крыльца
В Рахнихино то ли, а то ли в Стехново, —
Осталось обнять и не свидеться снова,
Осталось слова довести до конца.
«Днём холодным осенним…»
Днём холодным осенним
Тень твоя на стене.
Что же ты, невезенье,
Так пристало ко мне?
Чаще частого пишешь,
И, сжимая кольцо,
То в затылок подышишь,
То посмотришь в лицо.
Под твоею звездою
Я родился на свет,
И чего-нибудь стою,
Да желающих нет.
Шлёшь отказ за отказом,
За провалом провал,
Но не вычеркнешь разом
Всё, чем жил-поживал.
И с ножом перочинным
Вновь тянусь к сургучу,
И дрожу за лучину,
И молюсь на свечу.
«Вы взять хотели «Илиаду», и «Одиссею» заодно…»
А.А.
Вы взять хотели «Илиаду», и «Одиссею» заодно,
чтобы в ночи, включив лампаду, когда вам скучно и темно,
там на страницу со страницы могли слетать свободно вы
пока ковидом все границы закрыты наглухо, увы,
пока под снегом конь педальный и сап под коркой ледяной. —
Таков рассказ ваш был печальный, когда столкнулись вы
со мной
здесь, у дверей библиотеки, где надпись краткая «РЕМОНТ»
передо мною в кой-то веки открыла новый горизонт.
Я вам ответил, что рассею сегодня ночью вашу грусть,
что «Илиаду», «Одиссею» я с детства помню наизусть,
и песен ровно сорок восемь для вас одной солью в одну,
и говорить могу всю осень, а также зиму и весну,
и чтоб пожить на тех страницах вы, тем не менее, смогли,
готов разыгрывать я в лицах богов, людей и корабли,
и вы, поэтому, не плачьте: я сам герой чужих стихов,
и привяжусь ещё я к мачте, и перебью вам женихов…
Мы шли неспешно. Моросило. Нас обгоняли облака.
Всё ранней осенью красиво, – Ульянка, музыка, тоска.
И я читал. Читал стихи вам, пока ещё их не забыл,
и настигающим Ахиллом, и павшим Гектором я был.
Как Телемах, я шёл из дома на поиск блудного отца,
Гермесом был и Посейдоном, и песне не было конца.
Когда кругом одни химеры, лишь голос может быть высок —
в нём красногрудые триеры волна бросает на песок,
циклопы вырывают камни, Калипсо ждущие уста…
(давно прошли Симоняка мы, Героев, Доблести)… Звезда
горит одна на горизонте, равно сочувствуя всему —
библиотеке на ремонте, и Трое, гибнущей в дыму.
Но всю обратную дорогу уже я думал о другом:
что поцелую вашу щёку у двери с кодовым замком,
а всё, что кроме, – грёзы, грёзы, что нет прекраснее
звезды;
шумели чёрные берёзы, дрожали мокрые кусты,
навек застрявший в промежутке, я лез за мелочью
в карман.
Шёл дождь. И первые маршрутки
вскрывали утренний туман.
«С остановки трамвая ночного…»
С остановки трамвая ночного,
Если только не сбиться с пути,
До огней теплохода речного
Можно с камнем на шее дойти;
Или долго, классически просто,
Просто так простоять над рекой,
Если есть под рукой папироса,
И гранит под другою рукой.
И душе было некуда деться,
И она по течению дней
Всё плыла по-собачьи, по-детски,
И мосты разводились над ней.