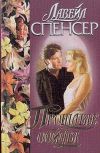Текст книги "Комиссия"

Автор книги: Сергей Залыгин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
О том же, как эти девки соблазняли да женили на себе кержацких парней, существовало шесть сказок, и сказывались они разно: только для мужицкого слуха и почти что молитвенно, весело и скорбно. Кто как умел, кому как бог на душу положит. И должно быть, поэтому сказкам не было конца, и в Лебяжке не уставали их говорить и слушать.
Нынче за столом затеяна была сказка о девке Лиза-вете. Крику и шуму было много, спорили, кому рассказывать? Если женщине, то сказка излагалась на всякий слух, на всем доступный лад, а если мужчине – то за это уже никак нельзя было ручаться.
Верх взяли женщины, а это значило, что сказка будет говориться «на глазок», то есть вот каким способом…
Девка Лизавета уже не первой должна была пойти за кержака, уже трое ее подружек выскочили на ту, на кержацкую сторону либо в дом своих родителей доставили молодых мужей. Дорожка туда-сюда была протоптана, но вот беда: достался Лизавете парень кержацкий по имени Илюха, из себя статный, но об одном-единственном глазе.
Девка Лизавета на дыбки: «Не пойду! Не пойду за один-то глаз, хотя режьте меня, хотя убивайте! Да чем я хуже-то других девок?»
И верно – она хуже не была нисколько. Когда разобраться неторопливо – даже и наоборот.
А кержацкой стороне этакое упрямство сильно оказалось на руку, они своих-то парней все еще прятали, от полувятских девок спасали, а тут вроде бы и гордость у них взыграла:
– Ах, вот как! Когда семеро ваших желают за наших, так вам, полувятичам, вынь да положь, а когда наш один пожелал взять вашу – так она и глядеть на его не желает?! Как так? Не будет между нами уговора, не будет никогда!
– Кривой он, ваш-то жених, – отвечают полувятские. – Наша-то девка, куды ни кинь, вся кругом справная, все у нее на месте, а ваш парень об одном глазе! Это непорядок. Нет, не скажите, не сильный он у вас жених в таком виде!
– Ну и што? Да у нас лучший наш человек и старец, за коим и возвернулись мы на свое давнее и собственное йесто, – он тоже кривой! Так и называется: Самсоний Кривой! В болезни нонче он!
– За старца за кривого девке можно бы пойти, а за молодца-одноглаза не стоит: молодец-то долго еще проживет!
– Ах вы охальники, ах богохульники, истинно антихристово племя! Чур-чур нас от вас!
– Да вы этак-то здря: старцам-то святым и вовсе незрячими вполне можно быть, для их это даже краса. Так ведь они, старцы-то, и не женихаются и девок за себя не зовут!
А та девка Лизавета, слыша это обсуждение, свое твердит:
– Когда отдадите за одногляда, я ему и последний-то шарик скалкой вышибу, а далее пущай режуть и убивають меня – я не боюсь нисколь!
Такая она была девка.
А парень Илюха-кержак тоже свое заладил:
– Мне вот эта девка мила, а боле никто! Я на другую не погляжу сроду, хотя о трех глазах сделаюсь!
Тут кто-то с полувятской, видать, стороны и надоумил его: «Сбегай, Илья, в горы-Алтай, не поленись, там живет мастеровой великой, Ерохой зовут, он в красной шапке, в зеленом кушаке и в будни ходит, самой царисе-императрисе брошки из камешков ладит, на шейку, на ручки ее. И царисы самых разных царств как соберутся на именины, то и форсят друг перед дружкой:
«Ты погляди, сестриса, – говорит одна другой, – какая на шее у меня вешается радужная брошка, какой камешек на моей на правой ручке?!» – «Нет уж, – говорит другая той, первой, – нет уж, сперва ты погляди, какая пряжка на моем на пупке находится, а тогда и я буду все твои красивости разглядывать!» Так оне, царисы, форсят да фуфыркаются до тех пор, что и вражду могут объявить между собою по гроб своей жизни, но тебе, Илюха, дела до их нету нисколь, ты сам по себе беги в Алтай, проси мастерового Ероху изладить тебе каменный глазок!»
Ладно, коли так. Илюха не поленился, побежал в Алтай.
Бежит неделю, бежит еще сколь-то дён и достигает двух больших таких гор, а меж горами видит он глазом своим глубокий пруд, а с пруда вода шумно мчится и с пеною падает на колесо о трех саженях, а колесо крутит разные в заводе точила, а у точилов сидят мастера, точут камешки великой цены.
Ну в завод Илюхе дали только через окошко глянуть, самого взойти не пустили. Да ему и не больно нужно, он в заводское селение пошел спрашивать Ерохи-мастера дом.
А пошто его спрашивать, когда вот он, стоит посреди селения, об шести окнах и под железной крышей.
Но его и тут обратно не пускают: у ворот Ерохина дома две будки, в их – два солдата с ружьями и при штыках, и еще две будки поменее, и в их – две собаки с вострыми зубами.
Солдаты караулят Ероху, чтобы не сбежал куда ненароком, собаки охраняют солдат, чтобы не сбежали с караула.
Ладно, коли так. Стал Илюха мастера ждать, когда он пойдет из дому в завод, стал у солдатов интересоваться:
– Он, видать, не вольный, мастер-то, когда вы караулите его?
– Ну, пошто, – отвечают солдаты, – он вольный, а мы при ем на всякий лишь на случай. Для порядку. И для службы.
Илюха ждет-пождет, обратно у солдатов интересуется:
– Когда же мастер в завод нонче отправится?
– Нонче, – отвечают оне ему, – не скоро. Нонче – понедельник!
– Ну и что такого, когда понедельник!
– А то такое, что вчерась было воскресенье!
Илюхе-кержаку, некурящему-непьющему, это, конешно, неведомо. Он и ждет снова. И вот дождался: идут две собаки справа-слева, идут двое солдатов справа-слева, а посередке идет мастер Ероха. Невысоконький, в красной шапке, в зеленом кушаке.
Илюха не шибко долго думал, бух ему в ноги:
– Примите к душе горькую мою участь, господин мастер! Нужон мне до зарезу один глазок, хотя бы и каменный, но только искусный!
Мастер Илюхе в ответ приказывает:
– Вставай, парень, в рост и не прячь в землю тот глаз, который у тебя имеется. Гляди им в небо!
Илюха стал на ноги и глазом рядом с солнышком глядит, не моргает.
– А-теперь, – указывает ему мастер, – стой смирно и головой не крути, гляди на свое же правое плечо.
Илюха глядит.
– Теперь испытай счастья – глянь на левое! (А у Илюхи-то левого глаза не было, и он своего тоже левого плеча сроду не видывал.)
Илюха все ж таки попытал.
– Ну, а теперь глянь прямо на меня!
Илюха вылупил глаз на мастера, сам не дышит, чует – миг его настал.
И верно – мастер вздохнул, губами пожевал, усики погладил. После из двух своих рук трубку сделал и сквозь нее в остатный раз еще на Илюху поглядел.
– Ну, – говорит, – исделаю я тебе твой глазок, когда ты жениться надумал. Имеется у меня в прозапасе эдакий карий камешек, он и пойдет в работу!
Илюха оторопел:
– Откудова же вам известно об моей женитьбе, господин мастер?
– Мне это известно, – отвечает тот. – Забыл спросить, зовут-то тебя как?
– Илюха я, Илья Прокопьевич, божий раб и ваш покорный слуга! Дак и как же мне вам служить, с какою благодарностью?
– А вот как: через три дни, попозже как об эту же пору, придешь ко мне в дом примерить обновку. Принесешь бубликов с маком добрую вязанку, чаю китайского печатку, а в обои свои карманы покладешь чего-нибудь покрепчее и в стеклянной посудине. Так мы исделаем твою примерку-обновку. Понятно ли тебе?
– Я бы рад, – говорит Илюха мастеру, – я бы шибко рад, господин мастер, но беда: крещусь двумя перстами. Старой веры я и зелья не принимаю. Даже чаю китайского – то же самое!
– А у меня тоже беда, – пригорюнился Ероха-мастер, – я тоже не могу. Я годовую свою меру, от щедрот матушки-царисы мне назначенную, на осемь с половиной годов вперед выбрал, вот и не могу. Не с чего! А когда принесешь побрызгать на обновку, тогда – смогу! Я даже и один смогу, и с твоей долей тоже, бог даст, управлюсь!
Но тут уж солдаты вступились в разговор:
– Нельзя энтого, мастер! А когда нельзя – мы к тебе в дом гостя не допустим. Не положено!
– Тогда, – говорит Илюхе Ероха-мастер, – доставь того же провианту моим караульщикам. Теперь можно, солдатики мои?
– Теперь можно! – дают согласие те. – Разве только вот собачонки наши в ту пору слишком загавкают!
– Ну, собачкам принесешь, Илюха, мяса фунта по три! – догадался мастер. – После того загавкают они либо нет?
– После того не загавкают! – уверили солдаты.
И наладил мастер свою красную шапку на голове и зеленый кушак на брюхе и пошел в завод исполнять Илюхин заказ, а про царскую брошку начальству сказывать, что она не сильно ладится у него: из неправильного камешка начата.
Ладно, коли так. Ну, а спустя время входит Илюха в свое поселение, в нынешнюю, сказать, деревню Лебяжку, в дом свой, а отец-то его, как сидел на печи кое-как складенной, так и свалился оттудова плашмя:
– Спаси и помилуй мя, боже, – мнится-то мне каково?!
И стал кликать старуху свою, и в два перста они начали креститься изо всех-то сил. После спрашивают:
– Может, он зрячий? Второй-то глаз твой, сын ты наш?
– Может, и зрячий! – отвечает Илюха родителям. – Мне нонче уже непонятно, который мой глаз темный, который – всевидящий! Так что, отец-мать, нам времечко терять не досуг – пошлите мы все трое в дом к невестушке моей, к Лизаветушке!
– Ты бы погодил, Илья! – говорят родители. – Ты, может, ослеп от двоих от глаз с непривычки, вот и торопишься брать за себя жену новой веры, девку подорожную! Не радуйся, не веселись, не сотвори более того, что истинным богом дано тебе! Побойся лишнего, лишнее все есть блуд и противу бога нашего!
– Нет уже, – отвечает Илюха родителям своим, – не для того великой мастер делал мне глазок, чтобы я после обратно закрывал бы его, и не видел им и не ведал вокруг ничего! Где моя невестушка? Где она?
А она – и вот она, сама прибежала в Илюхину избу, слезами заливается:
– Испугалася я, Илюшенька, до смерти, как побежал ты в Алтай за глазком своим! Я боялася – погибнешь ты на далекой, на чуждой стороне. Я себя корила-укоряла: ладно бы и так нам было – и двое в три глаза прожили бы не хуже людей!
Вскорости свадьба наладилась. На той свадьбе Илюха-кержак муж-молодец уже пил чай китайский. И не один только чай золотой пригубливал он, еще и другим не побрезговал тоже. Видать стало всем свадебным гостям, что хорошо оне с Ерохой-мастером тот раз обновку примерили.
От свадьбы пошли детки – один, другой, третий, и далее так. И сделался в Лебяжке нашей род человечий Глазковых. Известная стала фамилия.
Ладно, коли так.
Вот какая была сказка, и она к нынешнему застолью хорошо приладилась: про мастера же речь шла, а мастеровых – плотников, столяров, печников – была за столом добрая половина, они сидели и, довольные, похохатывали.
И ладно еще, что сказка говорилась за столом «на глазок». А то была она хорошо известна и на другой манер – «на пупок», и тогда в ней повествовалось, будто бы мастер еще и пупок сделал Илюхе из камешка, будто бы это изделие пригодилось ему в дальнейшей жизни – и дома, в Лебяжке, и в дальних извозах.
Но то уже чисто мужской был разговор. Может, это и правдой было, поскольку фамилия Пупковых в Лебяжке тоже водилась.
Как говорится – ладно, коли так.
Сказка понравилась многим, больше всех Ивану Ивановичу.
Нынче она говорилась Домной, женой Николая Устинова. Когда женщины дружно перекричали мужиков, взяли над ними верх и отстояли сказку за собой – на этом их единение тотчас и кончилось, они тут же раскололись между собой: одни шумели, чтобы о девке Лизавете рассказывала Зинаида Панкратова, другие – чтобы Домна Устинова.
И если в песнях, которые нынче без конца пелись и только сейчас примолкли, заводилой была Зинаида, то в сказочницы женщины ее уже не пустили. «Чо это – Зинка да Зинка? Да свет, чо ли, на ей сошелся – и петь она, и говорить она! Пущай Домна сказку говорит!»
Домна поотказывалась: «Да где ужо мне!», «Да нет же – у Зинаиды лучше, как у меня, получается!» Ну а потом и взялась за сказку.
У нее был чуть глуховатый голос, и, когда ей приходилось говорить за мужчину – за Илюху-кержака или за Ероху-мастера, у нее получалось даже интереснее, чем за девку Лизавету.
Лицо у Домны было скуластое, немного даже киргизское, а в то же время белое; ни у одной лебяжинской женщины не было такой же белизны лица. Рассказывая, она все время смотрела внимательно на одного, на другого, на третьего слушателя, так что каждый невольно ждал ее взгляда на себя.
Устинов со своего торца слушал жену тихо, уважительно, что было не совсем слышно ему издалека, о том он догадывался, слегка кивая.
Приумолкшая впервые за нынешний день Зинаида Панкратова, сидя как раз напротив Домны, не спускала с нее глаз, как будто все время чему-то необыкновенно удивляясь. Сказка кончилась, а она еще удивленно смотрела на Домну.
Иван Иванович после сказочки воспрял духом, выпрямился, разгладил пепельный волос на голове, стукнул по тесинам стола рукой и громко объявил:
– Хватит! Посидели, мужики и женщины, погуторили, хватит! Пора за дело, ежели мы за его взялись!
И народ зашумел, затолкался, выходя из-за стола, и прошла минута-другая, и те, кто обедал, уже снова взялись за топоры и пилы, а те, кто рубил и пилил, вторая смена, – уселись за этот стол, горланя, что давно пора было Ивану Ивановичу так сделать – прогнать первейших лодырей из-за стола, навести истинный порядок.
А Иван Иванович, которому подходило к девяноста годам, – одни считали за ним восемьдесят шесть, а другие так и восемьдесят восемь – совсем замолодился, взял топор да и вырубил на шестивершковом бревне «ласточкин хвост» – любо посмотреть!
Правда, после этой работы он посинел, руки у него затряслись, но все равно он осчастливился, и глазки у него заблестели, и голос вернулся, не то чтобы громкий, а уверенный, и над людьми распоряжались после обеда уже двое: Устинов Николай и Саморуков Иван Иванович.
И снова пошло дело, не то чтобы быстрее, а как-то заметнее, потому что опорные столбы уже были подставлены под школу, а на столбы плотники начали класть венец за венцом. И рос на глазах добрый сруб.
Сутолока поднялась, теснота около сруба. Иван Иванович всех остерегал, гнал прочь, кому делать нечего, чтобы, не дай бог, не ударило кого-нибудь бревном:
– Кто лишний – ну-ко прочь отседова! Покалечит кого – пропадет наш нонешний общественный день, и школа тоже сделается уже несчастливая!
Слава богу, вот уже и сруб готов, и последние стропила на него подымают плотники и плотницкие помощники, громко ухая.
Но тут сумерки. Осенние, ранние, и застали работу в разгаре. У мужиков еще руки чешутся, вот как хочется что-то куда-то тащить, подымать, подгонять, ставить и смотреть: как же получилось-то, какой вид имеет новая постройка?
И все жалели, что пали сумерки, как снег на голову. Надо было им повременить, не сходить с небес так быстро и неожиданно!
Вернулся из Крушихи от ветеринара гармонист Лебедев Терентий. С пустыми руками, без австрийского своего инструмента, подошел к Ивану Ивановичу, стал что-то тихонечко ему наговаривать. Иван Иванович, пожевав губами, велел говорить Терентию громко, для всех.
А вести, которые привез Терентий из почтового села, были нехорошими, тревожными… Колонна белых войск, которая не так давно проходила через Лебяжку, преследовала, оказывается, рабочий красноармейский отряд, отступавший на юг после падения Советской власти. Белые нагнали его, разбили, а потом еще жестоко и дико расправились с теми мужиками, которые пускали красноармейцев ночевать, давали им продовольствие. Тамошние кулаки и выдали своих односельчан… Еще издан был Сибирским Правительством указ о взыскании налогов царского времени. За Лебяжкой недоимок не числилось, так, пустяки какие-то, но все равно – зачем же тогда революция-то делалась? И уж была ли она в Сибири?.. Еще известие – власти привлекают на свою сторону, на карательную службу, отряды казачишек, которые разбойничали по степи. Так что же это за власть, которая в разбойниках нуждается?
Лебяжинский мир затих, слушая Терентия Лебедева, гармониста, а Устинов Николай вздохнул и сказал:
– Живем, как ровно в берлоге, и ничего-то не знаем. Своим-то умом долго ли обойдемся? В России есть Ленин, а у нас кто?!
– В твоих-то в книжечках что напечатано? На такой вот затруднительный случай жизни? – спросили его. Он подобный вопрос часто теперь слышал, он ведь действительно книжником был – целая горка книг стояла у него в избе, в спальной каморке. Отвечать же приходилось всегда одинаково: в книгах о нынешнем положении жизни нет ничего.
Притихли лебяжинские мужики и бабы. Впервые притихли за нынешний горячий денек, будто что-то ожидая.
Между тем вокруг все происходило по строгому природному порядку, исчез дальний берег озера с Кру-шихинской колокольней, потом стали распадаться краски здешнего озерного края: синее становилось сизым, сизое – бесцветным, бесцветное – серым, серое исчезало в неизвестность, во тьму.
Приозерная лужайка, давний-давний телячий выгон, испускала сильный запах перестоявшей травки, деревянной стружки и мясных щей, которые в обед варили здесь бабы в закоптелых казанах.
Ближние деревья бора отступили в глубину, и весь бор начал наливаться чернотой, от него тоже заметно повеяло теплом, смолой, груздяным запахом.
И вот уже запахи воды, леса, всей ближней и дальней местности, человечьей пищи и жизни, которые при свете дня хоронились где-то в стороне, загустели и стали бродить, как тени, пересекая друг друга.
Работа оборвалась, а расходиться прочь, каждому в свой дом после этой работы, после вестей, доставленных Терентием Лебедевым, никто не хотел. И вот все гулко дышали сыроватым осенним и пахучим воздухом, переговаривались кто о чем, кто где стоя, кто где сидя – на бревнах, на только что сколоченном школьном крылечке, и наверху – на последнем венце нового сруба. Там, повыше, лица плотников освещались последним светом нынешнего дня, ожиданием чего-то завтрашнего. Свет поигрывал и на плотницких топорах, одним углом воткнутых в бревна верхнего венца, железные подковки плотницких сапог тоже игрались блесткими пятнышками.
Вот тут-то, в эту минуту ожидания, и угадал громко откашляться Иван Иванович Саморуков и повел речь о том, как раньше было, когда лебяжинские жители еще помнили наказ старца Самсония Кривого жить между собою дружно, семейно, не делать больших грехов один против другого.
– Ну и как же это достигалось-то? – спросил кто-то, чей-то женский голос. Вернее всего – голос Зинаиды Панкратовой. – Как это может быть?
– Да ведь просто, – стал разъяснять Иван Иванович, – так же вот, как и нонче у нас делается, так же артельно. Только не на один день собирались жители в общее дело, а на многие дни. Поскотину сколь раз переносили подальше от деревни – так городили ее по неделе. Зимой рыбалку делали на озере – тоже по три-четыре дни долбили лед, тягали сети, после мирским же обозом везли рыбу крушихинскому купечеству. Дешево продавали, зато помногу и быстро управлялись, и сами рыбный запас имели до весны. А вот нынче Калашников Петро поминал здесь о смолокуренном промысле – так ведь было же это в ранешние годы, было! Артель – трое-четверо – гнала на всю Лебяжку деготь и скипидар, а их за это хорошо отдаривали хлебом. Или вот говорилось нынче: вдовам-сиротам оказать бы посильную помочь. А ведь и это было! В кажный срок – зимой, весной, летом и осенью – был вдовий день, а то и два и три, и всем селением шла на вдов работа: дрова им рубили, и холстины им же ткали, и подворья чинили-ремонтировали, а в другой раз так и ставили новые, вот как нынче школу! Ежели бы всего такого не было – откуда бы она взялась, нынешняя Лебяжка, более чем на двести сорок дворов селение? Да сгинула бы она и на веки веков! Это уже не помнится, сколь разных деревень и деревушек по Сибири не прижилось, перемерло, погорело, разорилось-разбежалось на разные стороны. А когда Лебяжка выстояла – надо же понимать, как это с нею было, как случилось?
Тут Дерябин перебил воспоминания Ивана Ивановича:
– Какая была жизнь, той уже не будет. Уже до основания устарела она. А вот как будет? Вот что есть основное и главное! Вот об чем тебе бы на старости годов надо бы знать, гражданин Саморуков.
– А я скажу! – ответил Иван Иванович. – Мы вот сейчас как бы всем жительством собрались, и уже темно кругом, а расходиться врозь нам все одно неохота. А тогда и не разойдемся. Повременим сколько-то и приговорим нынешним сходом сделать так: школу миром закончить до последнего в ей гвоздочка, артель дегтярную тоже сделать, вдовам-сиротам устроить ихний день не позже, как через неделю, послать подвод пять-шесть от общества с самогонкой и с непьющими мужиками на станцию, чтобы приторговали какой-никакой одежонки для ребятишек, иголок бабьих и прочего. Ну, и далее так же! Так же и так же! Кроме артельной жизни, не вижу от беды другого исходу. Не вижу, нет!
– Да кто же за все такое возьмется? Война гражданская – уже вот она! Рядом! И ею пора заняться, а не дровишками вдовьими! – не унимался Дерябин.
– Лесная ваша Комиссия возьмется, – сказал Иван Иванович. – Пущай она оправдывает народную доверенность! Наперед всего пущай она воюет против войны, делает ей все наперекор, гражданин Дерябин!
Калашников Петр, сидя наверху, на стропильной связке, сказал оттуда:
– Это нам, граждане, и вовсе не по силам. Мы много ли ден, как выбраны, но уже сделали ряд неправильностей. Их кажный знает. Особенно сказать, так Севка Куприянов должон помнить их. Нет, нам, Комиссии, это не по силам. Не управимся.
– Ну, как не управитесь? Надо! Вот и Устинов Никола имеется в Комиссии. И, кроме того, Петро Калашников – кооперативный мужик. И Половинкин вот… Управишься, Половинкин?
– Да я што… Я ведь, Иван Иванович, на последней очереди в Комиссии. У меня от комиссионных разных слов голова сильно кружится.
– А ты старайся! Будешь?
– Как, поди, не буду…
Лебяжинский мир Ивана Ивановича поддержал:
– Что не в ваших силах, Комиссия, то с вас и не спросится. А что можете – то все делайте и делайте в поте лица и по совести! Надежда на вас у мира!
Так было сказано в тот вечер Лесной Комиссии. Расходились в полной уже тьме лебяжинцы. Каждый со своим недоумением: кто верил в Комиссию, а кто – нисколько.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?