Текст книги "Ёжка"
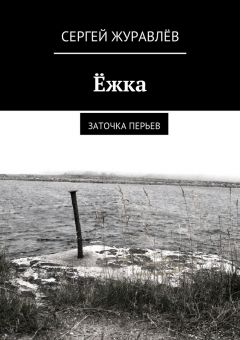
Автор книги: Сергей Журавлев
Жанр: Мифы. Легенды. Эпос, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
***
В 15-ть Ёжка решился пойти в офицеры. А в космонавты постеснялся.
Признание
Ёжка, лет с 14-ти, поделил свою предстоящую жизнь на три этапа. На до нового века и до и после смерти отца.
Во-первых, смена веков представилась ему серединой собственной жизни. Из 14-ти лет тот Ёж казался ему почти стариком.
Во-вторых, ему трафило стать не просто свидетелем перехода в новый век, а первооткрывателем нового тысячелетия, что довелось не так уж и большому числу людей из общей массы, несмотря даже на то, что придумывать начало новых эпох, т.е. отсчёта лет с самого начала, как оказалось, было немало охотников. И он был бы не против приложить руку к новому летоисчислению, совершить или стать участником свершения, достойного старта новой цивилизации. Более того, Ёжка был неколебимо убеждён, что начало 21-го века само по себе станет причиной эпохального сдвига, меняющего саму человеческую сущность. И мнились ему разные сценарии наступления новой эпохи.
Легче всего было с коммунизмом. Для этого требовалось совсем чуть. Убрать бы из привычной жизни деньги и влияние порочного Запада. Идеальным коммунизмом ему представлялись кинокартины 30-х – 50-х годов и рассказы родителей о том, как прошло их детство в чистоте помыслов и подавляющей честности окружавших. Почему-то к его коммунизму путь вёл скорее назад, чем вперёд. В прогрессе и эволюции ощущались угрозы. К тому же, коммунизм ассоциировался вовсе не с раем, а с бесконечной героической борьбой. Причём не за светлое будущее, а за Справедливость, сформулировать целостное определение которой ему никак не удавалось.
Для окончательного перехода к коммунизму требовался глобальный кризис Запада, в котором их деньги полностью обесценятся, а значит и в СССР от денег можно будет отказаться. А каковой станет жизнь после, ему не думалось. Случилось бы, а там Борьба за Справедливость всем воздаст по заслугам их.
Другие сценарии были сложнее и туманней.
Например, триумф Технического прогресса. Казалось, что должно произойти какое-то открытие, которое сделает человека другим. Причём либо путём собственно мутации, либо в результате подчинения Машине. Оба варианта его не прельщали, однако третьего не виделось. Куда мутировать? Отрастить крылья и летать? Заманчиво, но мало что меняет. Меняться внешне как нибудь ещё? Он даже рисовал «идеальных мутантов», меняя им форму, прибавляя членов, но никак не получался гибрид, чтобы был и «полноприводный» и гармоничный. Он придумывал им свойства. Телепортация, чтение мыслей… Всё не то. Фантасты этим уже пугали. Что же тогда должно изменить в человеке открытие, достойное начала новой эры? Доброта!!! Вот смысл и повод для глобальных перемен. Если бы люди перестали быть злыми…
Машина портила всё. И во всём могла помочь. Это противоречие проявляло тщедушного человечишку, оплывшего жиром и способного лишь на команды, и те без утруждений языка. Человек этот мнил себя богом, а на деле Машина притворялась, а может и нет, обожествляя этот водянистый мешок в угоду собственным прихотям. Бр-р-р… Однажды, словно в подтверждение, он прочитал фантастический рассказ о том, как гений изобрёл и совершенствовал механизм, преумножавший его силы и способности, обрастая искусственными мышцами, крыльями и чем-то там ещё, пока надетый на него «костюм» не выбросил хозяина… Человек – атавизм. Вот это повод для начала начал.
Большая война! Что-то будет, если все достижения цивилизации будут уничтожены ей самой? Каким тогда путём пойдут остатки человечества? Неужели снова за прогрессом ради повального уничтожения? Представлялось, как выжившим вновь придётся изобретать «колёса и велосипеды». Скучно повторять, а как и куда стремиться не вторя предкам? В природу! Вглубь себя! Так говорят, что Тибет только тем и занимается. А кому от того хорошо? В веру!? Так ВЕРА ХЛЕБА НЕ НЕСЁТ! Скорее требует постоянных жертв и самоистязаний. Вопрос остался без ответа… тогда.
Инопланетяне! Вот повод для переворота всех начал. Вот тогда то всё бы и узнали. Узнали что? Будущее собственного прогресса? Тайны, не раскрытые ещё наукой? Тайну БОГА!!! А вот на пользу ли? Эх… Как хочется всего и всякого. Как боязно от хотения. Как в этом знании не забыть себя и не разменять собственное будущее на чужую мякину?
Пугал и манил переход.
В-третьих. У него никогда не было сомнений, что отец доживёт до следующего тысячелетия. Но дальше… Если себя он видел стариком, то старость отца казалась невероятной. Отец большой и умный. Добрый молчун, крайне редко взрывавшийся эмоциями. Отец.
В 2000г. Че фатально заболел. Отсчёт начался. Ёжке удалось отодвинуть финал. Операция была успешной, но доктор предупредил – у отца есть ещё лет пять. Если будет беречься. Отец не берёг себя, но прожил дольше. Он старался жить как и раньше, хитрил, укрывая от Му, всё равно всё знавшей, курево и чекушки, а под конец, в открытую – искал допинга в крутом дешёвом кофе… И кто знает, что более коротило его дни. Привычка не отказывать себе, или внутренние борения, не видимые другим и так и не раскрытые родным.
Последние недели, когда отец мог только сидеть и управлять одной рукой, они чуть ли не каждый день пытались говорить по телефону. Ни о чём. Сын твердил «Держись. Впереди так много. Борись за себя прежде всего с собой.»
Отец словно из тумана, через долгие паузы отвечал «Понял. Когда приедешь? Жду.» Сын нажимал «Готовься. Я хочу увидеть тебя сильным. Читай, смотри телевизор. Делай через боль и слабость. Я скоро.» Отец бодрился и даже шутил «Хорошо. Буду песни петь. А приедешь, спляшем.». И ведь спел однажды «На безымянной высоте». Словно и правда, оттуда:
Дымилась роща под горою,
а вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только двое…
Потом Ёжка, вспоминая эти дни отца, нещадно корил себя. Даже не столько за то, что не успел приехать. Хотя очень сильно об этом жалел. Его неизбывной болью осталось несказанное отцу «ПИШИ!!!». Он не сомневался, что успей он, они бы так и не поговорили о главном. О том, что отец копил в себе. О том, что думал. Сыну казалось, что если бы он попросил отца писать, то это могло стать толчком к выплеску сокровенного и соломиной, за которую отец мог вцепиться, чтобы жить. И даже если бы и это не спасло, отцом оставлено было бы СЛОВО, совсем не важно как высказанное в бумагу. Было бы ПИСЬМО из вечности. Которое можно было бы читать и читать. Так же точно, как они читали друг друга всегда, молча, часами рядом копошась незначимым или уставясь в книги, чувствовали высокую близость, не нуждавшуюся в словах. И даже когда были вдалеке, вспоминая друг друга, чувствовали теплоту, и как Ня рассказывала позже, отец иногда преображался, светлея вздымал глаза небу и улыбался. Тогда она звонила сыну и пыталась выяснить, думал ли он перед тем о них. Ёжка конечно утверждал, что да. Не придавая этому значения. Однако потом ему вспомнилось, что почти всегда перед такими звонками он сталкивался с проблемой, пытаясь решить которую, спрашивал себя «а что бы посоветовал Че?» И решение находилось. А иной раз на него находило. Он не понимал причину этих странных состояний, когда вдруг бросал всё и переставал, как казалось потом, о чём бы то ни было думать. Прострация была мягкой и комфортной. Краткой и яркой. После он поймал себя на мысли, что именно такая же прострация настигала его в детстве, когда он валялся то на отце, то прижавшись к нему. А отец в это время читал очередную книгу, забыв обо всём вокруг. Возможно, это совпадало с моментами ярчайших впечатлений отца от читаемого. После ухода отца приступы прекратились.
* * *
Ранний звонок матери он воспринял почти спокойно, только собираясь в дорогу всё забывал что-нибудь, чувствуя это, и по несколько минут силясь сосредоточиться.
Тысячекилометровый гон, разбавленный стычками с партизанящими ментами, не внимавшими причине сноровистости до тех пор, пока сторублевки не растапливали их сердца, завершился картиной просветлённого и мечтательного выражения лица отца в гробу. Первые сутки он сидел рядом и не мог поверить, что Че не спит. Только к концу второго дня отец осунулся и не оставил места сомнениям. На лбу проступил памятный шрам.
Ёжка был спокоен и дивился тому. Столь значимый факт его жизни свершился. Дальнейшее не имело значимых вех…
Его сорвало на поминках. Надо было сказать об отце. Но высказать не удалось. Закорёжило. Слёзы предательски пытались пробиться из глаз. Стон рвал дыхание. Сцепленные руки неудержимо тянуло употребить об стол со скудными яствами. Трясло. Зубы скрипели. Было стыдно. Зал столовой, арендованный под дань скорби, молчал и ждал. Эта пауза его и спасла. Если б кто-нибудь рискнул ему пособить в этой борьбе, удержаться бы не далось. А этого он себе позволить не мог, да и Че, казалось, не простил бы. Он после говорил. Речь была стройна и пространна. И не было в ней смысла, слов.
На 10-й день Ёжка уезжал. Мать обречённо суетилась, сознавая, что удержать сына не в силах. Он прозрел только в момент расставания. Мать стала вдруг в два раза меньше, и перестала быть и Му и Ня. Только сейчас превратилась в его глазах в сухую старушку. Его пробили тоска и первая, к той, Му, нежность. Ретировался как то рвано и быстро. Знобило.
По заведённой с похорон брата за три года до, традиции, делая крюк с пути, Ёжка заехал в Туровец.
* * *
Это место вызвало его восторг ещё в 9-м классе, когда позднемайским днём, умкнув отцовскую моторную лодку он в компании с Юкой, Окой и их подругами, впервые забрался в высоченную гору от реки, в плавках. Впрочем и подельники не догадались приодеться иначе.
Поляна о двух церквах в окружении поросших ёлками обрывов поразила его.
Деревянная и каменная церквушки столь органично заполняли пейзаж, что казалось добавить к ним нечего, а убавить нельзя. Пропадёт гармония.
Стоя на краю, они завертелись, оглядываясь. Девчонки завизжали то ли от восторга, то ли балуясь. Неоглядная тайга уходила за горизонт, отделённая от туровецкой горы широченной в разливе Северной Двиной.
Несмотря на отсутствие на главках церквей золочения, они сияли в лучах майского солнца. По северному маленькие оконца словно подмигивали зайчиками, отчего Ёка жмурил глаза. Парни молча двинулись в обход церковной оградки, не сговариваясь о цели. Девчонки припозднились, щебеча звонко о чем то, как вдруг грозный бас, сквозь лаячий рык, словно с неба прогромыхал: «Кыш безбожные!!! Ко храму во трусах! Окоянные грешники. Вон, а то собаку пушшу!!!» Лай не оставил сомнений в намерениях попа, который в закатанных портах и грязной майке стоял среди огорода примкнувшей к краю обрыва избушки. Сомнений, что это поп не могло быть. А кто ж ещё с бородой лопатой и эдаким голосищем?
Компанию сдуло с горы. Ёка всё оглядывался из удалявшейся лодки, пока макушка каменной церкви, которая чуть выше деревянной, не слилась с кромкой леса береговой черты. Компания подавленно молчала, пока не высадилась на бон лодочной станции. Потом они обсуждали, что бы было, если б они таки не сбежали. Ока твердил «Не мог поп собаку пустить. Грех по евонному». Юка не соглашался «А чё ему. Пустил бы. Тогда кому-то могло повезти и без трусов перед девками остаться!» Девчонки прыснули. Ёка представил себя бегущим от собаки без трусов на обомлевших девах и заалел. Юка громко, чтоб его дроля Нашка услышала, заорал «Конечно, Ёжку бы собака выбрала! Во бы он бесштанным то, да по крапиве?!» Действительно, весь склон горы был словно усеян молодой и потому особо злой крапивой, и поднимались они гуськом по узкой тропке. А вот как катились вниз, никто особо не разбирал, и обожжённые ноги нещадно зудели.
Слова Юки были обидны, но Ёжка признался себе, что вряд ли собака пропустила бы его, так как дружки были как всегда не в пример шустрее, и в лодке оказались быстрее девчонок, которые весь путь через Северную Двину, Вычегду и по затону до Лименды подхихикивали над их трусостью. Так, что Юка, дразня Ёку, пытался перевести стрелки на вечно неуклюжего и крайне застенчивого друга. Реакция Юкиной подруги была мгновенной.
– Ёжка то нас прикрывал, а вы так неслись, что нас чуть не задавили. Кавалеры хреновы!
Теперь пришла очередь рдеть и Юке и Оке. Ёжка облегчённо вздохнул и ушёл в себя, вспоминая и вновь переживая виденное. Крапивные ожоги тут же забылись. Друзья же, подхватив девчонок под ручки, двинули заглаживать вину.
Гора
На поминках Маушки в августе 1991-го, аккурат в путч, он узнал туровецкую легенду. Мол приплыли веке в XIV на стык Двины и Вычегды татарове и давай у местных мзду вымогать, угрожая расправой. Что тогда было на Туровецкой горе, молва не сохранила. Может деревня, а может и молельня. Однако явилась тогда Богоматерь поганым и ослепила их, отчего те, к утру только прозрев, тут же сгинули.
С тех пор не было войн и больших бед в тех местах. А на явленной горе благодарное население воздвигло часовенку.
Гора та – клин высокого с северо-востока левого берега Двины, выпиленный с севера речкой Туровец, впадающей в главную как раз перед острием. Клин тот отсечён от основного массива берега перешейком, некогда видимо промытым невиданно большим паводком, и поныне всё равно столь высоким, что спущенная к старице Двины лестница так длинна, что всяк всходящий по ней успевает задышаться.

Перешеек поднимается в основание клина, поляну, охваченную облеснёнными склонами. Всё вместе столь необычно, что не стать местом преклонения древних не могло. Может и басурманы ослепли там от красоты и святости, кто знает теперь. Да и не доказано, были ли это те самые ордынцы, ведь официально считается, что до Русского Севера монголо-татары не дошли. Вероятнее всего то была ватага разбойников, отнюдь не чуждых православия.
Ёжка был на тот момент ещё атеистом, а чуть ранее и коммунистом.
Однако его сильно покоробил факт, что в 1987 году, некто развалил и сбросил с горы ветхую часовню, возведённую сотни две лет тому, после пожара первой, и пережившую идеологию и похеризм советов. Это случилось ночью, что ещё более возмутило. Те нелюди в безвременье перестройки были не только лишены уважения к святости, но были чрезвычайно трусливы и способны на пакости лишь под покровом ночи. «Ну да им уже икнулось», подумал тогда Ёжка. Подлость не может быть не наказана.
Пустая поляна-сирота немо приняла неофита.
А за перешейком от клин-горы начало основного берега-горы стало местом сначала деревянной, в XVIII веке, церкви, а затем и рядом каменной, в конце ХIX-го, из под которой чуть под горой незнамо когда забил ручеёк-источник толщиной в мизинец с чистейшей, истинно святой водой. И ручеек тот собой являл чудо, т.к. проистекал считай с вершины высоченного берегового обрыва. Много для ручья было мест и получше, чтобы стечь в Двину, ан нет, выбрал этакое. Не зря чай, да и не по своей видно воле.
Очередной повод посетить Гору представился лишь года через два после крещения.
Приезд на Гору был вновь вызван горем. Горем смерти Ёньки, сжигавшим Ёжку в дни похоронных и поминальных обрядов. Не находя места от боли, Ёжка скорее интуитивно, нежели осознанно приехал раненько, поднялся в Гору и был, несмотря на своё состояние, обрадован новенькой часовней. Забыв на время о причине появления здесь, обходил, осмотрел. Неохотно расстался, и отстояв службу в деревянной церкви, глазея жадно на расписанные наивно и очень давно стены могучего сруба, плахи свода, не выдержал и пошёл исповедаться.

Батюшка был уже другой, определил по голосу Ёжка. После исповеди попросил подождать и освободившись, присел ко чаду, притулившемуся на краю скамейки при входе в храм.
– Хорошо, что печалишься. Только помни, что не нам решать, когда уйти от этого света к свету вышнему. Брат твой шёл своим путём, и что бы ты не сделал, сыне, повернуть ту дорогу тебе, да и никому другому не дано. Он упокоился, и видит и чувствует печали твои. Но ему вовсе не нужно, чтобы ты нёс на себе вину, поверь. Не нужно. Живи и иди.
Ёжка в исповеди батюшке излился, что не успел вывести брата из запоя, за что и корит себя.
– Не трать себя на печали. Возрадуйся за душу его, освобождённую от недуга. Ты был старше его. Теперь он выше тебя. И душа его с вами, кто помнит о нём. И душа его с теми, о ком помните вы. А вместе они молят за вас. Так что живи живыми, им нужны твои силы, твоя душа, твоё сердце. И помыслы и дела твои Господом промышлены, а ушедшими к нему поддержаны.
Пока батюшка говорил, Ёжка трясся и плакал рекой. Так не рыдал он с раннего детства. Только в этот раз молча. Он чувствовал, что слёзы вымывают из него тяжесть и словно возносился, становясь легче и легче.
Удаляясь от церкви, он ощущал затылком взгляд попа, однако, в отличие от обычной неприязни к таким ощущениям, это расправляло его плечи и придавало сил.
* * *
С тех пор Ёжка всякий раз, бывая в Котласе, перед отъездом посещал Туровец. И неважно, поспевал ли он на службу или оказывался один на один с Горой. Скорее одиночество на Горе ему нравилось больше. Паломничество превратилось в ритуал, – неторопливый обход Горы, от церквей к источнику, от источника низом оберег Двины к часовне, вкруг неё по кромке обрывов и возврат к церквам.
Церквушки, словно сёстры на завалинке, встречали паломника, в любую погоду хорошась скромным одеянием то снежных платков, то солнечных бликов и отражённого тепла от стен, то расплывчатостью в дождевой завесе. Лишь однажды северной белой ночью Ёжке довелось застать на Горе туман. И это было со-бытием, т.к. церкви, расплывчатые в туманной вате, стали откровением Тишины, сном Яви. Ёжка, медленно медленно, обхаживая храмы, ждал и млел, пока туман не уплыл с Горы. Но чудо этим не кончилось, так как туман, осевши с обрывов, ещё долгое время досыпал под Ёжкиными ногами, и быстро желтеющее солнце резало его медленно на части, раскрывая горизонт.

Стоявший близ истока ручья колодец дозволял умыться из поднятого железного ведра с фырканьем ледяной водой независимо от погоды. А затем, Ёжка, забравшись в шестигранный срубок, накрываюший источник, сидел долго на скамеечке, стремясь ни о чём не думать, лишь отстранённо читая мольбы к богоматери, густо испещрявшие брёвна. Почему то, среди этих письмён, несмотря на их схожесть, Ёжка остро ощущал искренние, вызванные болью или отчаянием, или радостью избавления от мук. И наоборот, его удручали нудно обязательные записки. И не было ни разу желания нацарапать свою. Он привозил с собой бутыли и всегда после налива пил воду ручья из сложенных в чашу дланей. А когда зимой ручеёк прятался где-то в снег, не показываясь в срубке, вода бралась из колодца. В дальней дороге стоило лишь ополоснуть лицо и шею, вода та, туровецкая, помогала бороться со сном лучше, чем чашка крепкого кофе. В заполошные будни глотками возвращала радость, отвлекая ненадолго от суеты.

Весточка
Закрайки обрывов вкруг часовни были вытоптаны тропой, с которой видимо никто никогда не ступал в стороны, т.к. снег или заросли были всегда нетронутыми. Могучие ели сторожили покой и часовенку, скудно отделанную, но тем и умильную. На ступеньках крыльца было уютно. Постоять, присесть, уединиться.
Ёжка вне себя от пережитого сидел, закрыв глаза. Уверялся.
Только что явленное не укладывалось в голове. Противоречило опыту житого, вторило мифу реченного.
Этим, ранним постдевятинным майским утром Ёжка, распрощавшись с матерью, добрался до Туровца в смятенных чувствах. Посидел в срубке, умылся многажды, пил ручья трижды. Не отпустило. Выбрался, когда чистое небо просияло светом взошедшего за горой солнца. Понуро поплёлся было по тропе к лестнице на клин, да упёрся в паводковый край рапластавшейся на ширину десятка вёрст Двины. И нет чтобы вернуться и позацерквами пойти на клин, так нет же, чтоб не нарушить принятое некогда правило, решился продраться сквозь густо заросший ельником склон. Через мокрый снег, склизкие проталины и гнилушки, хрусткие сухие и пружинные иглистые ветви. Исцарапался, исчертыхался, поначерпал ботинками снеговоды. Кое как вскарабкался сбоку на середину добротно сбитой на высоких столбах лестницы, и пока добрался по ней и взъёмом до предчасовной поляны, запыхался так, что часто сглатывал выпрыгивавшее из горла сердце. В таком состоянии прислонился спиной к стволу первой о входе на поляну толстенной ели. Глянул на ещё прячущееся в вершинах зачасовенных елей солнце, и обомлел. Глаза застило малиновым светом, сердце мигом успокоилось и чувство приотцовской неги залило всё его существо. Ошарашенно закрывал и открывал глаза. Малиновое марево не отступало, и в нём неспешно стало проступать нечто. В одном месте неба, то ли близко, то ли далеко, независимо от поворота глаз или недоуменного мотания головой, проявилось ярко белое облачко. Мгновения или минуты спустя, Ёжка не мог потом определить, облачко обрело форму двух чётких геометрических фигур, и ещё не успевшая дооформиться экспозиция прошибла Ёжку догадкой.

Ему явилась икона Богоматери с младенцем! Так очевидно и явственно, что всякие сомнения в происходящем перестали его терзать. Он уже различил лики и нимбы, и пытался всматриваться в детали, как явленное в обратном порядке неспешно растворилось в малиновом свете, а тот в голубизне неба. Всё ещё не веря в ушедшее, и уверовав в явление, Ёжка испытал возгорание чувств. Эйфория, радость, очарование, избыток энергии сорвали его с места. Не в силах дальше стоять, он пошёл тропой в обход часовни, обнаруживая способность видеть иначе. Истоптанные корни деревьев, пересекающие тропу, стебли молодой травки, раскрывшиеся и липкие ещё листья светились белыми ореолами. Отчего окружающее стало столь ярким, что Ёжка прикрывал рукой глаза, всё ещё в тайне надеясь, что малиновый свет вернётся.
Солнце заглянуло под крышу крыльца часовни. И только почувствовав его отеческое тепло, Ёжка сумел нехотя и отстранённо оценивать обстоятельство. Пробовал представить себя со стороны. Всматривался в точку события, не находя там и намёка на причину. Встал и вдруг почувствовал отца. Снова рядом, как в детстве.
Послышались шаги. Кто-то поднимался по склону. Ёжка тряхнул головой и пошёл навстречу очередному паломнику.
Оглянувшись на часовню снизу, с перешейка, он увидел, как встреченная им пожилая опрятная женщина внимательно смотрит на него, наверное чувствуя и сопереживая его состояние.
Возвращение в Москву было праздничным. За Тотьмой Ёжка ворвался в разливанное море расцветшей черёмухи. С той и другой сторон шоссе стенами в километры цвели деревья. Не сдержавшись остановился, нарвал огромную охапку благоуханных ветвей, и остаток пути вдыхал, пел отрывочно памятные песни, сочинял сюжеты не для письма. Вдвоём с отцом.
И не раз произнёс, как мог громко: – Спасибо, Че! За весть и за веру!
Успокоился только к завершению пути, совсем не уставший, умиротворённый. Молился: «Матушка, спасибо! Матушка, прости!» в полудрёме оставшихся часов до возвращения в рутину бытия.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































