Читать книгу "Странница"
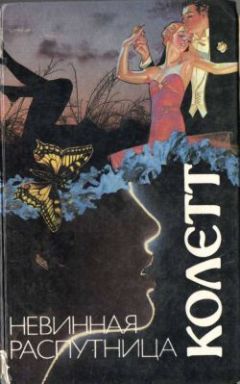
Автор книги: Сидони-Габриель Колетт
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
И тем не менее этот поклонник с «противной рожей» о ком-то мечтал в своих воздушных замках и заколдованных лесах.
А вот меня никто не ждёт на моём торном пути, который не ведёт ни к славе, ни к богатству, ни к любви.
Впрочем, к любви, это я хорошо знаю, вообще не ведёт никакой путь. Это она сама кидается вам наперерез. Она навсегда преграждает вам путь, а если почему-либо сходит с него, то путь ваш оказывается перерытым, разрушенным.
То, что осталось от моей жизни, напоминает детскую игру, состоящую из двухсот пятидесяти маленьких, пёстрых, неправильной формы кусочков фанеры… Должна ли я терпеливо подбирать эти кусочки, прикладывая их один к другому, чтобы составить в конце концов простенькую картинку: мирный домик, окружённый густым лесом? Нет, нет, кто-то стёр все линии этого милого пейзажа. Я не отыщу даже частичку синей крыши, расцвеченной жёлтым лишайником, ни нетронутого виноградника, ни дремучего леса без птиц.
Восемь лет в браке и три года в разводе – вот что заполнило треть моей жизни.
Мой бывший муж? Да вы все его знаете. Это Адольф Таиланди, художник, прославившийся своими пастельными работами. Вот уже двадцать лет как он пишет одни и те же портреты женщин: на дымно-золотистом фоне, заимствованном у Леви-Дюрмера, стоит декольтированная дама; её волосы, будто драгоценная вата, этаким нимбом окружают бархатистое лицо. Кожа у висков, на затенённой шее, в округлости груди всё такая же немыслимо бархатистая, окрашена радужным отливом, подобным голубоватой дымке на тёмном винограде, к которому так и тянутся губы.
– Ни Потель, ни Шабо не написали бы лучше, – сказал однажды Форэн, любуясь пастелью моего мужа.
Если не считать уменья изобразить эту пресловутую «бархатистость», то у Адольфа Таиланди, как мне кажется, нет таланта. Но я охотно признаю, что его портреты на редкость привлекательны, особенно для тех женщин, которые ему позируют.
Ну, прежде всего, в каждой своей модели он самым решительным образом прозревает блондинку. Даже скудную шевелюру госпожи де Гюимон-Фотрю он расцветил неизвестно откуда взявшимися ало-золотистыми отсветами, дающими рефлексы на её матовых щеках и крыльях носа, превратив тем самым эту худосочную брюнетку в блудливую златокудрую венецианку.
В своё время Таиланди сделал и мой портрет… Меня невозможно узнать в этой маленькой вакханке с каким-то странно святящимся носом – солнечный блик прикрыл моё лицо, словно перламутровая маска, – и я до сих пор помню, как была удивлена, обнаружив себя яркой блондинкой. Помню также шумный успех, который имела эта пастель и все последовавшие за ней. Это были портреты госпожи де Гюимон-Фотрю, баронессы Авло, госпожи де Шалис, госпожи Робер-Дюран, певицы Жанны Доре, а потом пошли модели менее прославленные, поскольку их имена сохранились в тайне и обозначались инициалами: мадемуазель Ж. Р., мадемуазель С. С, госпожа У., госпожа фон О., госпожа Ф. В.
Это было уже в то время, когда Адольф Таиланди с цинизмом красивого мужчины, который так ему шёл, заявлял:
– Моделями мне могут служить только любовницы, а любовницами – модели.
Что до меня, то я всё же обнаружила в нём настоящий талант – талант к вранью. Ни одна женщина, ни одна из его женщин не могла так, как я. оценить его исступлённую страсть к вранью, восхищаться ею, бояться и проклинать её. Адольф Таиланди врал одержимо, сладострастно, неутомимо и почти невольно. Для него адюльтер был лишь одной из форм, и вовсе не самой желанной, всё того же вранья. Он буквально расцветал во вранье, врал с такой охотой, разнообразием и щедростью, что годы не смогли этого исчерпать. В то время как он, учитывая тысячи мелочей и предосторожностей, искусно плёл тончайшее кружево своих тщательно продуманных предательств с изысканным рисунком, сочинённым его коварством, этой основополагающей чертой его характера, он без удержу тратил свой пыл на грубую, совершенно бессмысленную, хамскую ложь, на глупые детские сказочки.
Я встретилась с ним, вышла за него замуж и прожила с ним больше восьми лет… Что я о нём знаю? Что он рисует пастелью и имеет любовниц. А ещё я знаю, что ему каждодневно удаётся являть себя разным людям в разных обличиях: для одного он «работяга», который думает только о своей профессии, для другой – соблазнительный распутник без совести и чести, для третьей – по-отечески заботливый любовник, который придаёт мимолётной связи острый привкус кровосмесительства, для четвёртой – усталый разочарованный стареющий мастер, украшающий свою осень изысканной идиллией. Есть и такая, для которой он всего лишь ещё красивый мужчина, начисто лишенный предрассудков, готовый на любую шалость, а ещё есть гусыня из хорошей семьи, влюблённая в него без памяти, которую Адольф Таиланди хлещет наотмашь, терзает отвергает потом снова приближает к себе со всей литературной жестокостью «художника из светского романа».
Тот же Таиланди безо всякого перехода появляется в не менее традиционной, но куда более старомодной маске «художника», который, чтобы побороть последнее сопротивление семейной дамочки, матери двоих детей, крошит свои мелки, рвёт в клочья набросок, проливает настоящие слёзы, от которых намокают его усы а-ля Вильгельм II, и, схватив испанскую фетровую шляпу, очертя голову бежит топиться в Сене.
Есть ещё и много других Таиланди, которых я так никогда и не узнаю. Впрочем, ещё одного Таиланди я знаю, и, быть может, самого страшного: Таиланди – делового человека, ловкого стяжателя, мошенника, циничного и грубого, то неподвижного, то неуловимого, в соответствии с требованиями момента.
Кто же изо всех этих Таиланди настоящий? Откровенно скажу: не знаю. Я думаю, что такового – настоящего – просто нет… Этот бальзаковский гений вранья вдруг в один прекрасный день перестал приводить меня в отчаяние, даже интересовать перестал. Но прежде он был для меня чем-то вроде ужасного Макиавелли. А на самом деле он всего лишь Фреголи, виртуозный лицедей.
Между тем он продолжал жить как жил. Иногда я думаю с тепловатым сочувствием о его второй жене… Торжествует ли она ещё, благодушная, влюблённая, то, что называет своей победой надо мной? Нет, теперь она, испуганная и бессильная, начинает узнавать того, за кого вышла замуж.
Господи! Как я была молода и как любила этого человека! И как страдала!.. Это не крик боли, не жалоба, не жажда возмездия, я иногда произношу эти слова тем же тоном, как говорят: «Если бы вы только знали, как тяжело я болела четыре года тому назад». Когда я теперь признаюсь: «Я ревновала его так, что хотела убить и самой умереть», то это вроде того, как старики рассказывают: «В семидесятом году мы ели крыс…» Они это помнят, но от тех ужасных дней осталось лишь одно воспоминание. Они знают, что ели крыс, но не могут оживить в себе ни дрожи отвращения, ни голодного озноба.
После его первых измен, после бунта и смирения молодой любви, которая так упорствовала в своём желании надеяться и жить, я начала страдать, страдать гордо и упрямо, и заниматься литературой.
Ради удовольствия снова найти себе прибежище в недавнем прошлом я написала большой роман из провинциальной жизни «Плющ на стене», безмятежный, плоский и ясный, как озёра на моей родине, целомудренный роман о любви и замужестве, довольно простодушный, милый, который имел неожиданный и ничему не соответствующий успех. Во всех иллюстрированных журналах появилась моя фотография, а «Современная жизнь» присудила мне свою ежегодную литературную премию. Так неожиданно мы, Адольф и я, стали «самой интересной парой в Париже», которую все приглашают на обед и демонстрируют знатным иностранцам… «Вы не знаете чету Таиланди? У Рене Таиланди замечательный талант. – В самом деле! А он? – О! Он неотразим!»
Моя вторая книга, «Рядом с любовью», расходилась куда хуже. Между тем, сочиняя её, я предавалась сладострастию письма, терпеливой борьбе с фразой, которая вдруг становится податливой и распластывается перед тобой, как ручной зверёк… А иногда всё по-другому – долгое ожидание, засада, и нужное слово поймано… Верно, второй мой роман плохо продавался, но он принёс мне, как это говорят? – ах да! – «уважение в литературных кругах». Что же до третьей книги – «Лес без птиц», то она сразу же провалилась и так и не вынырнула. Она-то и есть моя любимица, мой «неведомый шедевр»… Её находят многословной, сбивчивой, растянутой, непонятной… Но и теперь ещё, когда я её открываю, она мне по-прежнему нравится, да и я себе в ней нравлюсь. Непонятно? Для вас – быть может. Но для меня её тёплая темнота высветляется. Для меня то или иное слово мигом оживляет в памяти запахи и цвета прожитых часов, оно звучит, оно полно жизни и таинственно, как раковина, в которой гудит море. И мне кажется, что я меньше любила бы эту книгу, если бы вы её тоже любили… Можете не волноваться! Второй такой книги я уже не напишу, я просто не смогу.
Теперь у меня другая работа, другие заботы, и главная из них – зарабатывать себе на жизнь, менять на звонкую монету свои движения, танцы, звуки своего голоса… К этому я быстро привыкла и даже вошла во вкус, проявив чисто женскую жадность к деньгам. А то, что я зарабатываю себе на жизнь, – это факт. В минуты доброго расположения я говорю себе и не устаю это радостно повторять: «Я сама зарабатываю себе на жизнь!» Мюзик-холл, где я выступаю как пантомимистка, танцовщица, а при случае – и как актриса, превратил меня в честную, жёсткую коммерсантку, которая, себе на удивление, стала считать, вести деловые переговоры и торговаться…
Никто не понимал нашего разрыва. Но кто бы мог понять моё прежнее долготерпенье, моё трусливое жалкое попустительство? Увы! Простить трудно лишь первый раз… Адольф очень скоро убедился, что я принадлежу к лучшей породе истинных самок, к тем, которые, простив в первый раз, готовы, если с ними обходиться умело, терпеть обман и постепенно к нему привыкнуть… О, каким он был умелым учителем! Как ловко сочетал снисходительность с требовательностью. Случалось даже, что он поднимал на меня руку, когда я проявляла излишнюю строптивость, но не думаю, чтобы он это делал охотно. Человек, потерявший самообладание, не бьёт так расчётливо, а он бил меня время от времени исключительно для того, чтобы поднять свой авторитет. Во время нашего развода все были склонны обвинять меня одну, чтобы обелить «неотразимого Таиланди», виноватого лишь в том, что он нравится и предаёт. Я чуть было не отступила, совсем растерялась и едва не вернулась к своей прежней покорности из-за того шума, который поднялся вокруг нас…
– Представляете, он изменяет ей уже восемь лет кряду, а она только спохватилась!..
Меня посещали друзья, пользующиеся большим весом в обществе, и авторитетно заявляли: «Такова жизнь». Приходили и пожилые родственники, чей самый серьёзный аргумент звучал так:
– Что делать, детка!..
Что делать? Это я очень хорошо знала. С меня было довольно. Что делать? Лучше умереть, чем дальше влачить эту жалкую жизнь униженной женщины, у которой «есть всё, чтобы быть счастливой». Лучше умереть или отведать горечь нищеты перед самоубийством, но только не видеть больше Адольфа Таиланди, того самого Адольфа Таиланди, который так берёг интимность супружеских отношений и умел предупредить меня, не повышая голоса, но выпячивая свою страшную челюсть жандармского адъютанта:
– Я завтра начинаю писать портрет госпожи Мотье. И будьте любезны, чтобы не было такой недовольной рожи.
Лучше умереть, пережить самые страшные крушения, чем вдруг заметить неуклюжее движение, когда прячут помятое письмо, или присутствовать при фальшиво-безразличном разговоре по телефону, или перехватить красноречивый взгляд лакея, или слушать, как он бросает мне небрежным тоном:
– Если не ошибаюсь, вы собирались провести два дня у вашей матушки?
Лучше навсегда покинуть этот дом, чем унизиться до того, чтобы весь день гулять с одной из любовниц моего мужа, в то время как он в полной безопасности развлекается с другой. Лучше навсегда покинуть этот дом и умереть, лишь бы не делать больше вида, что ни о чём не подозреваешь, не ждать ночи напролёт, лежать не сомкнув глаз в слишком большой пустой кровати, не строить больше планов мести, которые рождаются в темноте и становятся всё более и более замысловатыми от гневных ударов отравленного ревностью сердца, но разом исчезают при повороте ключа в замке, когда знакомый голос весело восклицает:
– Как, ты ещё не спишь? С меня было довольно.
Можно привыкнуть к голоду, к зубной боли, к резям в желудке, можно даже привыкнуть к отсутствию любимого существа, но к ревности привыкнуть невозможно. И случилось то, что Адольф Таиланди, который обычно всё до мелочи учитывал, не мог предвидеть: в тот день, когда он, чтобы непринуждённей расположиться с госпожой Мотье на большом диване в своей мастерской, весьма бесцеремонно выставил меня за дверь моей же квартиры, я домой не вернулась. Я не вернулась ни в этот вечер, ни в следующий, ни потом. И вот тут-то и кончается – вернее, начинается моя история.
Не буду говорить о коротком и печальном периоде моей новой жизни, когда я принимала всё с тем же мрачным видом и порицания, и утешения, и советы, и даже поздравления. Я вела себя так, что у моих самых упорных друзей – их было совсем немного, – которые звонили в дверь моей крошечной, снятой не выбирая квартирки, вскоре опустились руки. Навещавшие меня люди давали мне понять, что они бросают вызов общественному мнению, нашему святому, всевластному и гнусному общественному мнению, и я, оскорблённая этим, в приступе ярости разом разорвала все нити, связывающие меня с моим прошлым.
Ну так что же? Одиночество? Да, одиночество, не считая двух-трёх друзей. Упрямцы, не отлипавшие от меня, готовые терпеть все мои фокусы. Как нелюбезно я их встречала, но как я их любила! И как боялась, провожая, что они больше не вернутся!..
Одиночество? Да, одиночество. Оно пугало меня как лекарство, которое могло стать смертельным. А потом я обнаружила, что… я всего-навсего продолжаю жить одна. Я давно к этому привыкла, с самого детства, и лишь первые годы замужества ненадолго прервали эту привычку, а потом с первых же супружеских измен всё пошло по-прежнему – я жила стиснув зубы, слёз уже не было, и это самое банальное в моей истории. Сколько женщин знают этот уход в себя, эту терпеливую покорность, пришедшую на смену бунту и рыданиям? Я отдаю им должное, а тем самым и возношу себя: только в страдании женщина может преодолеть свою посредственность. Её выдержка не имеет предела, её терпение можно испытывать, злоупотреблять им, не боясь, что она умрёт, – конечно, при условии, что физический страх или религиозные соображения не позволят ей прибегнуть к спасительному самоубийству.
«Она умирает от горя… Она умерла от горя…» Услышав эти стереотипные фразы, не испытывайте сочувствия, а покачайте головой скептически: женщина не может умереть от горя. Это такое могучее животное, его не так-то легко убить. Вы, наверное, думаете, что горе её подтачивает? Ничуть не бывало. Родившись немощной, слабой, она обретает благодаря страданию железные нервы, несгибаемую гордость, способность выжидать и таиться – и это придаёт ей значительность и презрение к тем, кто счастлив. Страдание и притворство, как ежедневная опасная гимнастика, делают её сильной и гибкой… Ибо она постоянно пребывает во власти соблазна, самого захватывающего, самого сладостного, самого привлекательного, – соблазна отомстить. Случается, что она, слишком слабая либо слишком любящая, убивает… В этом случае она явит миру пример озадачивающей женской выдержки. Она изумит своих судей, утомит их во время нескончаемых заседаний, исчерпает их силы, словно матёрая волчица, петляющая, чтобы вконец измотать преследующую её свору молодых собак… Вы можете не сомневаться, что долгое терпенье и тайные страданья сформировали, закалили, ожесточили эту женщину, о которой все говорят:
– Ну, она из железа!..
Нет, она просто «из женщины», и этим всё сказано.
Одиночество… Свобода… Моя весёлая и трудная работа пантомимистки и танцовщицы… Радостные и усталые мышцы, новая забота, которая помогает забыть старую, – самой зарабатывать себе на хлеб, на одежду и жильё… Вот какой сразу же стала моя судьба, причём к этому надо ещё добавить яростное недоверие и отвращение к той среде, в которой я прежде жила и страдала, дурацкий страх перед всеми мужчинами, да и женщинами тоже… У меня появилась болезненная потребность не знать, что происходит вокруг меня, и общаться с совсем уж примитивными созданиями, которые почти не думают… И ещё одна странность, которая появилась у меня очень скоро, – я чувствовала себя в безопасности, ограждённой от мне подобных, только на сцене – барьер рампы оборонял меня от всех.
Ещё одно воскресенье… Пасмурные холодные дни сменились ясными, и мы с собакой, чтобы проветриться, решили погулять часочек, от одиннадцати до полудня, в Булонском лесу… Это животное меня просто разоряет. Не будь её, я бы поехала в лес на метро, но мне не жалко трёх франков на такси, потому что прогулка с ней доставляет мне удовольствие. Её чёрная, как сажа, шерсть, которую я долго расчёсываю щёткой и полирую фланелькой, блестит на солнце. Сейчас весь Булонский лес принадлежит моей маленькой Фосетте, и она хозяйничает в нём, вереща по-поросячьи и шелестя сухими листьями…
Как хорош Булонский лес в такое ясное воскресенье! Это наш с Фосеттой лес, наш парк, – ведь мы, городские странницы, совсем не попадаем за город… Фосетта бегает быстрее меня, но зато я хожу быстрее неё, и когда она играет со мной в «поезд» и не тянет меня за собой на поводке, вывалив язык и сверкая обезумевшими глазами, она с трудом поспевает за мной, сбоит, как лошадь, то и дело переходя с трусящей рысцы на нелепый галоп, и прохожие смеются.
Негустой розоватый туман умеряет яркость солнечных лучей, и на блёклое солнце можно глядеть не щурясь… Над оголёнными клумбами поднимаются, дрожа и серебрясь, отдающие грибами испарения земли. Вуалетка прилипла мне к носу, и я вся, разогретая от бега, подхлёстнутая холодом, устремлённая вперёд… Ну что, собственно говоря, во мне изменилось с моих двадцати лет? Таким вот зимним утром в самые мои юные годы разве я чувствовала себя бодрее, гибче и счастливей телом, чем сейчас?
Так думала я, пока носилась по лесу… Когда же пришла домой, усталость вернула меня к действительности – это уже была совсем другая усталость. В двадцать лет я бы безотчётно наслаждалась, погрузившись в полудрёму-полумечту, этим мимолётным утомлением. А теперь? Теперь же моя усталость кажется мне горькой, она подобна печали тела.
Фосетта с рождения – настоящая комедиантка и создана для богатой жизни, она испытывает подлинную страсть к подмосткам и на улице так и норовит вскочить в любую шикарную машину… А ведь купила я её у танцовщика Стефана, и она ни дня не жила у какой-нибудь богатой актрисы. Танцовщик Стефан – мой товарищ. Сейчас он работает в том же заведении, что и я, в «Ампире-Клиши». Этот белокурый галл, которого с каждым годом всё больше пожирает туберкулёз, не может не замечать, как тают его бицепсы, его розовые бёдра, покрытые поблёскивающим золотистым пушком, весь его красивый мускулистый торс, которым он с полным основанием гордится. Ему уже пришлось сменить профессиональный бокс на танцы и на фигурное катание на роликах по наклонной сцене. С этим номером он и выступает у нас. К тому же он преподаёт танцы и выкармливает на продажу карликовых бульдогов. Зимой его мучает кашель. Часто во время представлений он заходит ко мне в гримуборную, долго кашляет, садится и предлагает купить у него «бульдожку, девочку, серой масти, неземной красоты, которая не получила золотой медали только из-за интриг…»
Я иду в подвале по коридору, куда выходят все квадратные гримировальные загоны, как раз в тот момент, когда танцовщик Стефан, закончив свой номер, сбегает вниз по железной лестнице. Широкоплечий, с узкой талией, затянутый в польский зелёный доломан, отороченный искусственным мехом под шиншиллу, в меховой шапочке, лихо сбитой на ухо, этот голубоглазый парень с нарумяненными щеками ещё до сих пор привлекает к себе женские взгляды. Но он худеет, медленно, но неуклонно, и его бурные успехи у дам лишь ужесточают его болезнь.
– Привет!
– Привет, Стефан! Публика есть?
– Полным-полно. Какого… они здесь торчат, эти му… когда за городом такая благодать? Слушай, купи у меня породистую сучку. Весит всего шестьсот граммов… Я с трудом выпросил её у знакомых… Не упускай случая.
– Шестьсот граммов!.. Благодарю тебя, но у меня слишком маленькая квартира.
Он смеётся в ответ и не настаивает. Я хорошо знаю этих породистых сучек весом в шестьсот граммов, которых продаёт Стефан. В каждой – не меньше трёх кило. Но это не бесчестность, это коммерция.
Что он будет делать, танцовщик Стефан, когда болезнь изъест его второе лёгкое, когда он уже не сможет танцевать и спать со своими замужними подругами, которые покупают ему сигары, галстуки и платят за его аперитивы в кафе?.. В какой больнице, в какой богадельне найдёт последний приют его красивая опустелая оболочка?.. Ох! Как всё это невесело, и как невыносимо сознавать, что столько людей в беде!..
– Привет, Бути! Привет, Браг… Известно что-нибудь о Жаден?
Браг молча пожимает плечами, всецело поглощённый подводкой бровей, для чего он использует тёмно-лиловый цвет, потому что «так получается более свирепый вид». У него есть особый синий карандаш для нанесения морщин, особая красно-оранжевая краска для внутренней стороны губ, особый охристый тон для лица, особый жидкий кармин для крови, а главное – особые белила для маски Пьеро, «секрет которых, – уверяет он, – я бы не выдал и родному брату!» Впрочем, он очень ловко управляется со своим гримом, несмотря на свою манию многоцветия, которая является единственной комической чертой этого умного, пожалуй, даже чересчур серьёзного мима.
Бути, худой как жердь, в широченном клоунском балахоне, делает мне таинственный знак.
– Я видел её, нашу малютку Жаден. На бульваре, с каким-то типом. Вот такие перья на шляпе! Вот такая муфта! А морда, и не говорите!.. За сто франков в час!
– Если она и в самом деле получает сто франков за час, то жаловаться ей не приходится, – рассудительно заметил Браг.
– Не спорю, старик, но, поверь, недолго ей гулять на бульваре. Эта девчонка не знает цены деньгам, я давно за ней наблюдаю. Она со своей матерью живёт в одном дворе со мной…
Из моего гримировального загона, сквозь распахнутую дверь уборной Брага я вижу симпатягу Бути, который вдруг замолчал, так и не закончив фразы. Он поставил запечатанную бутылку с молоком, чтобы его согреть, на трубу отопления, которая проходит на уровне пола через все гримуборные. Густой красно-белый клоунский грим скрывает подлинное выражение его лица. И всё же мне кажется, что с того дня, как Жаден исчезла, Бути стал мрачнее обычного.
Чтобы покрыть белым тоном плечи и колени, которые все в синяках, – Браг не очень-то бережёт меня, когда швыряет наземь, – и попудрить их, я притворяю свою дверь. Впрочем, я не сомневаюсь, что Бути больше ничего не скажет. Как и все здесь, как и я сама, он никогда не говорит о своей личной жизни. Из-за этого молчания, из-за этой неизменной деликатной стыдливости я не смогла верно оценить своих товарищей, когда начала работать в мюзик-холле. Самые экспансивные и тщеславные говорят о своих успехах и честолюбивых надеждах с непременным пафосом и полным отсутствием юмора. Самые злые позволяют себе поносить на чём свет стоит и заведение, в котором работают, и своих товарищей по сцене. Самые болтливые пересказывают остроты, услышанные ими на подмостках или за кулисами, и только, может быть, один из десяти испытывает потребность сказать: «У меня жена, двое детей, моя мать хворает, моя подружка мучает меня…»
Молчание, которое они хранят по поводу своей личной жизни, – это как бы вежливая форма сказать вам: «Всё остальное вас решительно не касается». Едва успев снять грим и надеть платок или шляпу, они расходятся в разные стороны с поспешностью, продиктованной и гордостью, и скрытностью в равной мере. Почти все они удивительно горды и бедны. Даже аккомпаниатора никто в мюзик-холле к себе не приближает. Симпатия, которую я испытываю ко всем моим товарищам по сцене, никому не отдавая предпочтения и никак её не выражая, возрастала за эти три года по мере того, как я их лучше узнавала.
Артисты кафешантана… Как плохо их знают, как все их незаслуженно чернят, как никто не хочет их понять! Наивные фантазёры, неукротимые честолюбцы, они исполнены нелепой старомодной веры в Искусство. Только они, последние из актёрской братии, смеют ещё утверждать со священным трепетом в голосе:
– Артист не должен… Артист не может принять… Артист никогда не согласится…
Да, слов нет, они горды, потому что, если у них и срывается с языка «Ну и гнусная же профессия!» – или: «Вот проклятая жизнь!», я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь прошептал: «Я несчастен…»
Они горды и готовы к тому, чтобы существовать для мира только один час из двадцати четырёх часов суток! Ведь несправедливая публика, даже если она им аплодировала, тут же их забывает. Какая-нибудь газета может с нескромной настойчивостью день за днём следить за жизнью мадемуазель Икс из Комеди Франсез, и её высказывания по поводу моды, политики, кухни и любви будут еженедельно развлекать миллионы бездельников во всём мире. Но вот вы, бедный милый Бути, такой умный и нежный, – кому придёт в голову интересоваться, что вы делаете, о чём думаете, о чём молчите, когда вас поглощает полночная тьма и вы торопливо шагаете по бульвару Рошешуар, такой тощий, чуть ли не прозрачный, в своём долгополом пальто в английском вкусе, купленном на распродаже в «Самаритэне»?
Уж в который раз перемалываю я в мыслях своих все эти невесёлые дела. А мои пальцы тем временем делают свою обычную работу: жирный белый тон, жирный розовый, пудра, румяна, коричневые тени, красные, чёрные… Едва я кончаю гримироваться, как слышу, что острые когти скребут дверь моей уборной. Я тут же её отворяю, потому что узнаю настойчивую лапу маленького брабантского терьера, который «работает» в первом отделении нашего спектакля.
– Это ты, Нелли?
Она входит уверенная, серьёзная, словно секретарша, пользующаяся доверием начальства, и милостиво разрешает погладить свою шерсть на рёбрах, всё ещё вздрагивающую после выступления, в то время как её зубы, пожелтевшие от возраста, разгрызают сухое печенье. У Нелли рыжая лоснящаяся шерсть, чёрная обезьянья мордочка и блестящие красивые беличьи глаза.
– Дать ещё печеньице, Нелли?
Хорошо воспитанная, она соглашается без улыбки. В коридоре Нелли ожидает её семья. Она состоит из высокого поджарого господина, молчаливого и непроницаемого, который никогда ни с кем не перекинется словом, и двух светлых колли, хорошо воспитанных и очень похожих на своего хозяина. Откуда взялся этот человек? Какие дороги привели сюда его и этих собак, похожих на трёх разорившихся князей? Жест, которым он снимает шляпу и кланяется, изобличают в нём светского человека, так же как и его резко очерченное продолговатое лицо… Мои товарищи, которые всё подмечают, за глаза называют его «великим князем».
Он терпеливо ждёт в коридоре, пока Нелли справится с крекером. Нет ничего более печального, более достойного и более надменного, нежели этот человек и его три собаки, горделиво принявшие свою судьбу странников.
– Прощай, Нелли!
Я притворяю дверь и прислушиваюсь к удаляющемуся стуку когтей по доскам пола… Увижу ли я её ещё когда-нибудь? Ведь сегодня как раз две недели, как идёт наша программа, и, быть может, заканчивается контракт номера «Антоньев и его собаки». Куда они теперь направятся? Где будут блестеть красивые карие глаза Нелли, которые мне как бы говорят: «Да, ты меня гладишь… Да, ты меня любишь… Да, у тебя есть для меня пачка крекеров… Но завтра или там послезавтра мы уедем. Не жди от меня ничего, кроме простой вежливости милой собачки, которая умеет ходить на передних лапах и делать сальто-мортале. Нежность, так же как и отдых, и чувство уверенности в завтрашнем дне, для нас – недоступная роскошь…»
Если небо ясное, то с восьми утра до двух часов дня в окна моей квартирки на первом этаже дома, зажатого, словно скалами, огромными новостройками, попадает солнце. Сперва сверкающий мазок задевает мою кровать, потом он увеличивается, становясь как бы квадратной скатёркой, и тогда перина на моих ногах посылает на потолок тёплый розовый отсвет… И я, нежась в постели, жду, чтобы солнце доползло до моего лица и ослепило меня сквозь прикрытые ресницы, и тогда тени прохожих за окном скользят по мне, словно синие крылья. А потом я либо вскакиваю с постели, заряженная энергией утра, чтобы начать лихорадочно обихаживать мою собаку, мыть ей уши и расчёсывать жёсткой щёткой её шерсть, чтобы она блестела… Либо пристрастно разглядываю в неподкупном свете дня огорчительные знаки, которые уже запечатлелись на моём лице: сухой муар век, горькие складки, появляющиеся в уголках рта, когда я улыбаюсь, и тройной ряд морщинок вокруг шеи, называемый ожерельем Венеры, который чья-то незримая рука с каждым днём прорезает всё глубже и глубже.
Этот придирчивый осмотр и прервал сегодня своим появлением мой партнёр Браг – как всегда, оживлённый, серьёзный и наблюдательный. Я принимаю его безо всяких церемоний, словно у себя в гримуборной, накинув лишь крепоновое кимоно, к тому же разукрашенное в один из дождливых дней отпечатками лап Фосетты в виде четырёхлепестковых сероватых цветков… Для Брага мне не надо ни пудрить нос, ни увеличивать синей чертой разрез глаз… Браг глядит на меня только во время репетиций, чтобы сказать: «Не делай этого жеста, это неизящно… Не запрокидывай голову с раскрытым ртом, ты становишься похожей на рыбу… Не моргай глазами, как белая крыса… Не верти задом, ты же не кобыла…»
Пусть не первым шагом, но первым своим движением на сцене я уж, во всяком случае, обязана Брагу, и если я до сих пор исполнена к нему доверия ученицы, то и он не упускает случая напомнить мне, что я всего лишь способная любительница. Иными словами, он всегда проявляет нетерпимость в споре со мной, ему важно настоять на своём. Вот он входит, привычным движением приглаживает волосы на затылке, словно поправляет парик, и так как его свежевыбритое каталонское лицо выражает заинтересованную серьёзность, столь для него характерную, я не могу понять, с доброй ли он пришёл вестью или с дурной… Он разглядывает солнечное пятно, как драгоценный предмет, затем поворачивается к окнам и спрашивает:









































