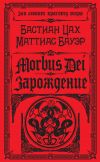Текст книги "Ля Грав. Тайные тропы"

Автор книги: Snegozavr
Жанр: Историческая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Ля Грав. Тайные тропы
Snegozavr
© Snegozavr, 2017
ISBN 978-5-4483-9560-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог
Привет всем! Алоха и намастэ!
Это первая книга серии – «Горнолыжный фольклор».
Рассказы, байки, тосты и прочие виды разговорного
апрески.
Серия называется «Это фрирайд, детка», и неспроста.
Лучшие рассказчики среди горнолыжников,
как известно, фрирайдеры.
Трассовики – люди серьезные
и к словам равнодушные.
Десятые, сотые – да! А слова, буквы – тьфу!
Горнопляжники – неопытны.
Ньюскулеры, как дети.
А бордеры знают не более трех слов – «Йо», «ха» и «гоу».
Посвящается Ля Граву, маленькому поселку в центре Французских Альп. Всем, кто там катает или только собирается. Всем, кто там живет и работает. Всем, кто любит эту горную страну, ее народ и традиции.
Надо сразу сказать, что это не путеводитель, не реклама, а почти натуральная быль. Все эти люди, места и события реально существуют. Спросите Леху – он подтвердит.
В Ля Граве нет сотен подъемников, нет тысяч отглаженных трасс, нет миллионов фешенебельных отелей. Вместо этого – ледники, скалы, лес, друзья, да еще верные лыжи и сноуборды.
По-научному катание в Ля Граве называется фрирайд. Или катание по неподготовленным склонам. А по-ненаучному – это и есть то, что бог на восьмой день дал лыжникам (и примазавшимся к ним бордерам).
Краткий словарь фрирайдера
Павдердэй – день, предвкушение которого дает фрирайдеру силы ходить на работу и жить в семье. Но когда на склоны любимых гор падает от 30 см свежего снега и более, он (фрирайдер) уже там – на склонах, в танце белого вихря.
Павдер, пух, пухляк – свежий пушистый снег. Священный символ фрирайда. Появляется в павдердэй.
Флюэнтно – плавно, быстро, уверенно, как поток ветра или воды.
Бугель – бугельный подъемник. Подъемник, у которого нет сидений и кабинок. Фрирайдер едет вверх, уцепившись за железную палку руками или задницей.
Ластоногие = бордеры. Бордеры = сноубордисты.
Кулуар – вид рельефа. Узкое крутое ущелье. Арена фрирайдерских подвигов.
Дроп – прыжок с какой-либо неровности. А также сама неровность.
Могул – флюентное катание по буграм.
Беседка (обвязка), веревка, карабины, самостраховка – вообще это амуниция скалолазов. Фрирайдеры же, облаченные в эти аксессуары, тонко намекают на сложность пройденных ими маршрутов. Но бывают случаи применения по делу.
Грэб, мисти, корк – трюки бордера в прыжке.
Валлон и Шансель – два наиболее известных в Ля Граве маршрута спуска от холодных альпийских вершин к теплым ресторанчикам поселка.
Что-то словарь затянулся. Остановимся. А если встретите в тексте незнакомое слово – просто игнорируйте его. Ведь во фрирайде нет смысла, только фан, поэтому значения слов не важны.
Ля Грав. Тайные тропы
Voyage, voyagePlus loin que la nuit et le jour,VoyageDans l’espace inoui de l’amour.Voyage, voyage…Desireless, 1986
Полметра ночного морозного снега выровняли склоны так, что можно было мочить напрямую. Небольшой контруклон увел меня вправо, я притормозил и увидел Леху, летящего на здоровенный бугор, от которого начинался выкат к канатке.
– Йо-го-го! – завопил Леха, и природный трамплин выстрелил его в голубое небо. Леха взмыл метра на два, распрямился, распахнул руки навстречу ветру и выдал крик орла. Приземлился в мягкий пух, отсел было назад, но удержался, выровнялся и в разнузданном браккаже вылетел на поляну перед подсадкой. Следом выкатился на поляну и я. Леха уже снял со спины свой увесистый рюкзак и увлеченно копался в нем.
Сказочный снежный мир дышал мне в лицо, смотрел мне в глаза всеми оттенками белого. Я достал свой карманный «Кэнон» и…
…Толстяк. Невысокий бородатый толстяк сидел на перилах возле подсадки и жевал зубочистку. Где-то я его видел. Где?
Я повернулся к Лехе. Леха сделал глоток амброзии из увесистой фляги и хрипло захохотал.
– Это было оксигенно! – гроулом выдал он. Потом метнул мне флягу, выщелкнул себя из громоздких лыж и рухнул навзничь в белую пену. Яркий снег искрил в утреннем солнце.
Вчера мы заночевали в ресторане на высоте 3200 и сегодня первыми раскатали Валлон после ночного снегопада. Километры нетронутой целины возбудили нас, и наш проезд можно было снимать в ски мувисах. Были скалы и дропы, шлейфы невесомой снежной пыли, слалом среди сосен, феерические уборки и скикросс с могулом на выкате. Минуту назад мы с воплями вылетели к подсадке, и тут еще никого не было.
А сейчас сидит толстяк и жует зубочистку.
– Хай! – махнул я толстяку. – Ду ю вонт сам дринк?
Леха запустил в меня снежком и врезал гроулом прямо со своего лежбища: «…на белом-белом покрывале я-а-нваря, не прогоняй меня моро-оз…»
Ослепительно белый снежок быстро приближался к моей переносице. Он летел, вращаясь в горизонтальной плоскости на фоне ярко-голубого утреннего неба. В этот момент я посмотрел толстяка. Тот помахал мне зубочисткой так, словно он Караян или, в крайнем случае, Гергиев. Снежок подлетел совсем близко, и мне пришлось наклониться и повернуть голову. Снежок чиркнул по онейловской шапке и бессильно зарылся среди своих пушистых родственников.
Я снова взглянул на толстяка. Но ни Караяна, ни даже Гергиева на перилах уже не было. Там вообще никого не было. Леха продолжал исторгать: «…хочу побыть немного я-а-а на белом-белом покрывале я-а-нваря», постепенно переходя с гроула на скрим…
Окружающие нас елки, как настоящие горцы, в белых бурках и белых папахах, загадочно молчали.
– Леха, – окликнул я. – Эй! Старикан!
Вообще-то, Лехин ник – Стар. Но мне нравится называть его Стариканом. Просто у меня хреновая дикция и односложные слова в моем исполнении иногда понять невозможно. Да и слово «Старикан» мне нравится гораздо больше. В нем есть ритм, настроение, в нем есть брутальное секси, как говорила одна поэтесса из Риги.
Леха поднял себя и свои эндорфины с белого покрывала и воззрился на меня. В его глазах плескалась радость, энергия и блаженство. В моих – вопросы и сомнения.
– Ты видел? – спросил я.
Леха странно посмотрел на меня:
– Ты о чем?
– Там, – показал я на перила, – сидел толстяк.
Старикан широко поставил ноги, растопырил пальцы, по-диджейски задвигал руками и забормотал:
– Там сидел толстяк,
а здесь танцевал хомяк,
оттуда пришел поляк
и снова ушел в поля
с отвешенными люля.
А этот пропавший толстяк —
Может, он был холостяк?
с наколками на кистях
и понимал в снастях,
странствиях и страстях?
Манила его земля,
березы и тополя,
и вот на канатке в Ля
мы встретили… труля-ля… – наконец выдохся Старикан.
Мы осторожно подошли к перилам, где, по моим наблюдениям, ранее сидел бородач с избыточным весом. Но ни на перилах, ни рядом никаких следов не было. Сразу за перилами начинался обрыв. В обрыве тоже было безлюдно.
– Тебе показалось, – мудро и заботливо сказал Старикан.
– Я не согласен, – парировал я. – Мое возбужденное павдердэем сознание могло бы создать развратных азиаток, широкобедрых скандинавок, но! – толстого бородатого коротышку?!
Короче, я не согласен! Там кто-то был!
Тут со стороны «Шанселя» послышались радостные вопли, и на просеку под канаткой выкатились разноцветные бордеры. В ресторанчике, что над озером, есть приют для ночевки. Оттуда они, видимо, и катили.
В странном состоянии ума и души должен пребывать человек, выбравший судьбу бордера. Широкие сползающие штаны, навсегда связанные ноги, глупые принты, отказ от связной речи и логики – какие же ужасные преступления совершили эти люди, за что они так наказали себя, какие грехи пытаются они искупить, ступая на столь бессмысленную стезю? Не знаю. Терзаюсь раздумьями. Много раз говорил я с ними, их детский лепет умилял меня, но ни на йоту не приближал к ответам на озвученные вопросы. (Ладно, ладно. Под пытками вынужден признать, что это – шутка)))))
И разноцветные бордеры врезали рок-н-ролл в этой сонной снежной сказке. Да, было на что посмотреть.
Пестрым ручьем катились они по белой просеке, поочередно исполняя какие-то свои бордерские мисти да корки, и вскоре выкатились на поляну к нам с Лехой. Яркий и шумный клубок бордеров распался, и мы увидели компанию из четырех парней и девушки. Они ошалело смотрели на нас, как на привидений. Они точно не ожидали никого здесь встретить, и вот на тебе!
Яркие одежды ластоногих раскрасили наш акварельный пейзаж такими смачными расцветками, словно граффити Кандинского собор Святого Януария.
– Хай, незнакомые бордеры! – крикнул им я.
– Бонжур. Ай эм Стар, – скромно добавил Леха.
Один из бордеров, с прической Брайана Мэя, в зеленом кислотном комбезе, подъехал к нам и, еще не отдышавшись, радостно размахивая руками, взахлеб начал рассказывать и показывать свой сегодняшний спуск.
Пока я обдумывал мысль про то, как клево быть таким молодым и шумным, Старикан начал тоже что-то вещать, причем одной рукой он изображал феерическое катание, а из другой руки поил бордера амброзией.
Вдруг опоры канатки вздрогнули, струны тросов завибрировали, ролики скрипнули и прокрутились. Легендарная лягравская канатка начала новый трудовой день.
Лягравская канатка – дорога с непростой судьбой. Построена в 1976 году. В том же году ее взорвали зеленые террористы. Зеленые! Карл! Воинственные природолюбы взорвали самую чистую канатку Франции. Да, Карл, да, в доброй тихой Франции сорок лет назад милые французы решали споры таким способом. В 1986 дорогу обанкротили, и строили планы модернизации, но ее создатель Denis Creissels выкупил подъемник. И оставил все, как было, как задумывалось.
И по сей день он является управляющим этим уникальным предприятием по заброске в горы социопатов, отрицающих общечеловеческую тягу к катанию по прилизанным трассам, психов, бегущих от протухшего комфорта и тошнотворной безопасности в бодрящие кулуары, к адреналиновым скалам и зубодробительным полям, чудаков, которым Вега, Денеб и Альтаир ближе любых мишленовских звезд.
Но хватит пафоса! Духовые и литавры замолкают, а к нашей поляне, к станции подсадки подъезжают пять кабинок.
Все кабинки заняты персоналом подъемника и продуктами для ресторанчиков на 2400 и на 3200. А… Нет! Одна свободна! Туда и направились Леха, я и пятеро юных бордеров.
И вот, умостившись всемером в шестиместной кабине, плотно осязая друг друга плечами и пятыми точками, мы начали возноситься к очередному оксигенному спуску в фантастическом капучино из солнца, взбитой ветром снежной пены и горячего кофе наших бурлящих желаний.
– Когда я был в Аргентине, – начал было Старикан… (Англо-франкскую речевую смесь моего друга удивительным образом понимают почти везде. Посему трудностей в разговоре с ластоногими не было.) (Ластоногие – так называют сноубордистов.)
– Вау, Шаганэ, он был в Аргентине! – перебил Брайан Мэй, обращаясь к девчонке из их банды.
– Вау! – тут уже офигел я. – Как ты ее назвал? Тебя зовут Шаганэ?
– Да. Моя бабушка была русской. А папа – армянин из Ахалцихе. Знаете, где это? – вдруг нараспев по-русски произнесла Шаганэ.
Мне тут же стало стыдно за кой-какие мои слова в кабинке.
– Да, конечно, на юге Грузии, рядом с Боржоми. Там…
– Знаю! Знаю! Там родилась та самая Шаганэ, – воскликнула юная франко-армянская пери.
«Шаганэ ты моя, Шаганэ,
Потому что я с севера, что ли,
я могу рассказать тебе поле…» —
запел Старикан хриплым баритоном. (Если вы еще помните, кто такой Joe Cocker, так я вам скажу, что Леха его уделал). Он игриво подмигивал, барабанил пальцами по биперу, бипер тоже подмигивал, а один из бордеров неожиданно достал губную гармошку и весьма достойно стал подыгрывать.
О, времена!.. Остальные бордеры схватили смартфоны и бросились записывать это haut concert.
«… Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне…
Шаганэ ты моя, Шаганэ»,
– Лехин голос, смешанный с густыми переливами гармошки, выплывал из окон кабинки, кружился на ветру, залетал к соседям и радовал сонных французов азиатским раздольем незнакомого баритона.
Леха смолк. Раздались бурные аплодисменты. Мы приехали к пересадке на вторую очередь.
Все вместе протопали на следующую станцию. Опять приехали пять кабинок, и снова их заняли вода, продукты и работники канатки. Леха, Шаганэ и я втиснулись в кабинку с 200-литровой канистрой воды. Остальные бордеры как-то разместились в соседней, и кабинки полетели над «Садом камней» и «Кулуаром Медведи».
Шаганэ рвалась попрактиковаться в русском языке и рассказывала про своего армянского дядю Рафика, который живет в Питере в Грузинском переулке. Короче, им было о чем поболтать на той стороне канистры, а на другой стороне канистры я впал в блаженное состояние легкой усталости, смешанной с ожиданием нового спуска. Пик Ля Меж, снег, негромкий скрип роликов и Стар с Шаганэ: «Бубубу-бубубу…»
И все. Это вся вселенная.
Лягравская канатка состоит из трех частей.
Первая и вторая очереди с 1400 м до 3200 м – это кабинки.
Третья очередь – это бесконечный бугель с 3200 м на 3550 м по леднику Жируз.
Трудно понять, как можно испытывать теплые чувства к неодушевленным предметам. Но… признаюсь – я люблю эту суперскую канатку. Летишь над водоразделом между ледником La Girose и Долиной (Vallon) de la Meije в уютной кабине, за окном рериховские пейзажи, а рядом настоящие герои – Старикан Сорвиголова, Покатуха ГдеХачуКатуха, Энди ШикарныйКакДенди,
или…
…или был тут один случай, я про него вроде рассказывал, ну да расскажу еще. Хорошие истории ведь на то и существуют, чтоб рассказывать их друзьям у камина после третьего бокала темного эля.
Итак.
Едем вчетвером в кабине лягравской канатки. Я и три француза.
Гасконцы веселы, на адреналине, хвастают орографически правой стенкой Валлона де Ля Меж и ледником Рато, куда они заскитурили от верхней станции. Потом по леднику маханули вниз, и вот они здесь.
Открыли двери вагона – показывают мне следы.
Спрашивают:
– Куришь, браза?
– Не, – говорю, – бросил.
Ржут.
– Браза, а мы покурим, ОК?
– Да, говно вопрос, – отвечаю. – Мне на ваши галуазы пофиг.
Тогда один достает из рюкзака ящик, размером с 14-дюймовый автомобильный диск, (а в том ящике лежит каких-то смесей штук сорок), и начинает крутить самокрутки.
– Давай, – говорит, – браза. Ноу дангероуз, онли фан энд селебрэйшн.
– Нет, – твердо так вдруг (сам удивился). – Нет, – говорю, – гасконцы. Ай эм рашен! Поэтому – онли дринк.
Дык, эти д’артаньяны не растерялись. Другой мушкетер – чернявый и бородатый. (Похожий на, если кто помнит, за Бразилию в 1982 играл такой – Сократес. А если кто не помнит, то на молодого Волонтира.)
Так вот достает этот Сократес из-за пазухи литр рома «Капитан Морган». Протягивает мне.
И типа: «Ну чо? Давай, рашен!» Прям грузины какие, честно слово.
Я ему в открытую дверь бутылкой тыкаю в следы их, спрашиваю:
– Чо, мол, так с батлом за пазухой и катался?
– Ага, – кивает. Ну, да фигли ему? Худой, как… как волос Сальмы Хайек.
Но вот слово «батл» третьего их друга как-то встрепенуло, и он, как Фифтисент, зарядил рэпчик типа (приблизительный перевод):
«Эй, рашен, эй, браза,
Я смелый гасконец, и мне не стремно ни разу,
Но сегодня я, оу! Очень много пил крюшон
Поэтому подержи меня за капюшон…»
«Чо за хрень? – думаю. – Крюшон… капюшон…»
А он становится на колени перед распахнутыми дверьми (куда я тыкал бутылкой), расстегивает широченные штаны и с высоты метров сорок начинает сливать этот свой крюшон в пропасть. При этом опасно наклоняясь из летящей над горами кабинки.
Простое человеколюбие взяло верх над любопытством, и я пристегнул самостраховкой капюшон Фифтисента к своей обвязке и вернулся к «Капитану Моргану». Сократес с Детревилем блаженно исполняли на неведомых смесях «Смок он зе сноу», а я начал пить ром.
Я сделал пару очень добрых глотков и тут понял, что за мной Россия. То есть, если я сейчас прекращу пить, отдам бутылку, скажу «Мне достаточно» и, промакнув губы салфеткой, отвернусь к поцарапанному пластику окон, то это будет фиаско.
Эти общительные гасконцы годами будут рассказывать всей Франции, как легко они уделали рашена в дисциплине «пьянка с попутчиком».
«Нет, ребята-демократы», – решил я и продолжил пить ром.
Тут у Фифтисента кончилось, чего он там сливал, и он, не застегивая штанов, подскочил с колен. Но он был пристегнут ко мне. И мои 100 кг рванули его обратно к полу так, что он упал на спину и начал скользить по направлению к выходу.
Все встревожились.
Но футболист Сократес тормознул Фифтисента, как мяч, – поставил на него сверху ногу. Фифтисент успокоился, уперся ногами в край кабинки и попросил самокрутку.
Он лежал на спине, курил и бил ногой по лыже, которая свешивалась в проход раскрытой двери. Лыжа гремела, свистел ветер, тихо ржал капитан королевских самокруток, а я продолжал пить ром.
Когда по моим ощущениям в меня перешло граммов 300, я все-таки вернул бутылку владельцам. Я пытался смущаться, говорил:
– Сорри, бразы, такой вкусный ром. Ай ноу контрол майселф вэн ай дринк.
Но, качнув бутылку на руке, Сократес и ДеТревиль просто сказали:
– Кул, брат, донт ворри.
Мы потом катнули с ними один из Трифид.
Я пытался зазвать их в бар, но они умчались в Гренобль.
Программист. Музыкант. Учитель в колледже.
Настоящие фрирайдеры.
Ресторан, куда я хотел позвать программиста, музыканта и учителя, стоит на скале, на высоте 3200 м, рядом с верхней станцией канатки Teleferique de LaGrave. Там царствует наш добрый приятель Филипп.
Он – хозяин, шеф-повар и директор ресторана.
Филипп гордо утверждает, что это самый высокий ресторан Европы. Мы с Лехой ему верим. А царицей в империи у Филиппа – замечательная москвичка Вика, отлично нам знакомая. Поэтому Филипп уже не раз бывал в России, в меню его ресторана появились борщ и драники, а нам с Лехой позволяется в снежные ночи оставаться в ресторане.
В ресторане обитает огромный мохнатый черный пес Moon (сокращение от Dark side of the Moon). Обычно Мун валяется в альпинистской обвязке на промороженной всеми цельсиями и фаренгейтами террасе. На Муновской беседке гремят карабины и ледобуры, а внутри в ресторане я своими глазами видел здоровый моток веревки с биркой «Moon». Чо он с этим снаряжением делает, я не знаю.
Мы с Лехой кормим его сардельками а-ля «Провенс» и поим чаем с медом, потому что женепи и глинтвейн Мун давно не пьет. И даже не пытайтесь напоить Муна. Говорят, однажды после литра текилы он сожрал заезжего англичанина вместе с каской. Поскольку французы англичан тоже недолюбливают, то Муну ничо за это не было.
Но не говорите теперь, что я вас не предупреждал.
* * *

Вот она – знаменитая канатная дорога Ля Грава. Ее полное имя – Téléphérique des Glaciers de la Grave – la Meije. Вы видите – пять кабинок едут вверх, пять – вниз. В четвертой сверху кабинке Леха пел с бордерами песню «Шаганэ».
Итак, мы летим в теплых, нагретых солнцем кабинках над Валлоном де Ля Меж. Под нами проплывают поля, поля, поля свежего пуха.
Возле маленького перевальчика Breсhe Pacave (между Валлоном и Шанселем) горные галки устроили купание в снегу. Весь павдер раздербанили на площадке в полгектара.
…Полет наших кабинок над скалами и снегами закончился. Верхняя станция кабельной дороги приняла нас как родных. Мы выкарабкались из кабины, помогли парням достать 200-литровую бочку, вернули бордерам Шаганэ и решили заглянуть к Филиппу на утренний кофе. В ресторане оглушительно пахло жареным беконом и луком. Филипп тоже ночевал сегодня наверху и поэтому бродил возле огромной плиты с литровой чашкой кофе.
Старикан прошел к нему на кухню.
На столе в центре зала одиноко стояла полупустая бутыль с женепи. Я решил скрасить ее одиночество, и тут…
Я снова увидел его.
Толстяк. Невысокий бородатый толстяк сидел в темном углу зала, вдали от окон и жевал зубочистку.
Тот же самый, что был на подсадке.
«Тьфу на тебя», – подумал я и тоже пошел на кухню.
Леха вольготно развалился на стуле и блаженствовал, засунув нос в ароматный густой пар горячего кофе. Филипп помешивал в сотейнике какой-то пряный соус.
– Пойдем скорей, – позвал его я. Он уменьшил огонь на плите и устремился за мной. Мы вышли в зал. Толстяк был на месте.
– Видишь толстяка? – спросил я Филиппа. – Кто это?
– Это Бенджи.
– Просто Бенджи? И все?
– Ну… Что тебе сказать. Бенджи – Бенджамин. Это его изображение.
– Изображение?! Типа фотка?!
– Типа голограмма.
– Что?!
– Пойдем, я тебе все объясню.
Мы присели на лавочку возле одинокой бутыли, и Филипп начал рассказ.
– Бенджамин – скитурщик, – услышал я.
«Йо-майо!» – пронеслось в голове. Всегда не доверял скитурщикам. Чисто интуитивно.
– Это древний народ…
«Ага, – мрачно подумал я, – а бродячие глюки еще более древний, и чо?»
– Знаешь, Андрэй, люди обычно не могут увидеть древних, но иногда… Думаю, древним что-то от тебя надо.
«Бредит парень», – понял я. И помахал рукой перед его носом. Реагирует. Хорошо.
– Ты бредишь, браза. Аля-улю, гони гусей! Ты чо? Какие древние?
Браза быстро налил нам по стопке прекрасного женепи, мы выпили, и он продолжил:
– Они – горные гномы и отлично ходят на лыжах. Вот. Получается, скитурщики. Теперь понятно?
– Ни фига непонятно.
– Ну… тебе надо с самого начала рассказать. Слушай.
Леха давно уже уехал с бордерами. Филиппа на кухне заменила Вика. А мы все говорили о древних. Если коротко, то картина нарисовалась такая.
Есть куча древних народов. Те самые гномы, эльфы, тролли, и т. д. Разделение их с людьми прошло примерно тысячу лет назад. Древние стараются ни с кем не воевать, не ссориться и никак не пересекаться с человечеством. Ну, типа как люди не стремятся пересекаться с барсуками.
Живут внутри гор, в лесах Амазонки, в Сибири, да много где еще. Они намного круче людей в науке, искусстве, медицине, биотехнологиях и даже в спорте. Живут аскетично, все время и силы тратят на саморазвитие.
Терраса ресторана Филиппа подобна роутеру вай-фая. У этих древних свой «вай-фай» повсюду. Могут по скайпу передать много чего. Но у Филиппа слабый роутер и людей трансгрессировать пока не может, но через пару лет поставят небольшой реактор, и, возможно, тогда…
Древние немало зарабатывают тем, что продают людям технические новинки и произведения искусства. М-да… Тут мне стало понятно, кто придумал Малевича, Дали и айфон.
Я подошел к толстяку. Тот оживился и кивнул мне. Я попытался похлопать его по плечу, но, как и следовало ожидать, голограмму не сильно похлопаешь. Я сильно надеялся, что это не голограмма, а галлюцинация, и вот-вот я проснусь, но не тут-то было.
Я не просыпался, а синяки от старательного самощипания уже мешали сидеть.
– Бенджамин, – представился он.
– Андрей, – вынужденно отозвался я.
– Перейдем к делу. Мне нужна женщина, – сказал толстяк веско.
О… французы такие французы. Чуть что – шерше ля фам. Хорошее правило. Вот в нашей необъятной как? Устал – бухаешь. Трудности – дерешься. А тут – нашел симпапульку, и все – никаких разрушительных драк и пьянок – здоровый разврат и кофе с круассаном.
– Рад за тебя, амиго! Думаю, у тебя все получится. Или ты хочешь об этом поговорить?
– Мне. Нужна. Женщина, – продолжал талдычить толстый.
– Бенджи, браза, поезжай в Гренобль. И на улице Белых Фонтанов ты найдешь любую. А я, извини, пошел катадзе. – Я развернулся и потопал к выходу.
– Андрэ, ты знаешь ее. Привези ее к нам, – негромко сказал мне в спину Бенджи.
Я остановился. Покачался на пятках ботинок. Вряд ли Бенджи знает фразу «хоть чучелом, хоть тушкой», и я спросил напрямик:
– Ты охренел?
Бенджамин как-то хитро прищурился и развел руками. Не знаю, чо уж он хотел сказать, но на языке древних это, видимо, означало: что поделать – работа такая.
«Да насра…» – не успел додумать я, как в помещение с грохотом и воплями ворвался Старикан.
– Андрюха! – орал он, как ангелы страшного суда. – Андрюха!!! Ну ты и дура-а-ак!!! Вот же ты дурило, что не поехал с нами, Йоа-а-а-а!!! Какой там снег!!! Какой м-н-ммм…
Леха запнулся в переполнявших его словах и чувствах. И тогда он молча схватил меня железными ручищами и поволок прочь из мрачного ресторана на серебряные склоны.
Руки Лехе пришлось накачать до состояния Ван Дамма после Аргентины. Там, на холодной ночевке в горах Орнокаля у него дико замерзли руки.
И с утра он мог только материться и… и все.
И он не сделал ни одной фотки этих по-матиссовски ярких гор. А потом, до кучи, он вывихнул левую руку в грязном притоне Сан-Паулу, когда вызволял телефон очень знаменитой и весьма симпатичной райдерши Покатухи из цепких лап современных кангасейрос. Покатуха тогда зашла в этот «смотри какой милый домик» и спросила:
– Камарадаз, а можно у вас зарядить айфон?
Стройные иноземные брюнетки с такими вопросами – редкость в фавелах. Но поскольку в переводе на язык фавел этот вопрос звучал как: «Дорогие бандидос, а можно подарить вам мой айфон?» – то к Покатухе обернулось сразу несколько тел, одетых в черную кожу с титановыми заклепками. А одно – наиболее небритое и немытое тело подошло поближе, сверкая глазами голодного бультерьера. Покатуха ойкнула, бультерьер протянул лапы. И тут на пороге возник Старикан и вытащил хрупкое дитя гор на зажаренную бразильским солнцем улицу. Однако, злые камарады успели прижать дверью левую Лехину руку.
– Моя рука – мое богатство! – выкрикнул Старикан и метнул в щель недопитую бутылку текилы…
– Это вам не «дубель вэ», – бормотал Леха, убегая по кривым улочкам бразильских трущоб.
– А «четыре два четыре», – хихикала Покатуха и перебирала ногами так быстро, что ног не было видно, и выбежавшие на улицу бандидос увидели летящую над асфальтом маленькую попу в шортах.
Они заржали, уселись на землю прямо возле домов, стали палить в воздух из огромных пистолетов и пить брошенную в них текилу.
После этого Леха целый год упрямо качал руки, и теперь эти руки тянули меня из мутных бесед с древним народом на снежную террасу перед рестораном Филиппа.
Против трамвая не попрешь, против роторного экскаватора тем более, поэтому я сказал Бенджи: «До вечера» и вывалился со Стариканом на свет Божий. Божий свет был прямой солнечный и еще отраженный от яркого снега. Мы спрятали свои повидавшие жизни глаза под защитными масками, застегнули куртки, затянули ремни рюкзаков…
Да, замечу между делом, Бенджи тоже одет был не в какой-то древний ноунейм, а в самый что ни на есть гортексовский «Саломон». Темно-желтая куртка, черные штаны и желтая «Скарпа». И бейсболка с надписью «Ski-Sex-Rok’n’roll».
* * *
Я шел за Лехой и с грустью сознавал, что мир больше не будет прежним. Все теперь пропахло конспирологией, и из-за каждого угла торчали уши древних.
– Ты чо там делал? – полюбопытствовал Леха.
Я поколебался секунду и ответил честно:
– Разговаривал с толстяком.
– С тем? С подсадки? – уточнил Леха.
– Угу.
– Блин, не надо было тебе вчера уругвайские грибы жрать. Лисички, лисички! Вот тебе и лисички, вот тебе и зайчики!
Ну, чо ему скажешь? Все равно ведь не поверит.
Уж лучше б грибы. Мазафака.
Так вот про уругвайские грибы. Вчера в Le Chalet (это название филипповского ресторана) с нами тусили завсегдатаи и фриланс-сотрудники Филиппа – уругвайский саксофонист Фреди и алеутский гитарист Билли. Фред и Билли живут здесь много лет. Большую часть времени они проводят в ресторане. Помогают Филиппу, потом как черти гоняют на лыжах, а вечерами играют блюз на широкой террасе ресторана.
Кстати, терраса сделана из корабельного тика, потому что у дедушки Филиппа была шхуна, на которой дедушка возил по морям алжирских арабов и американское оружие. Но дед попал в немилость, его шхуну расстрелял военный корвет и пригнал остатки на буксире в Марсель. Дедушка признал ошибки молодости, ему отдали остатки корабля, он их припрятал и отправился на исправительные работы в район Индокитая, где провел немало времени в огнестрельном общении с такими же бездомными головорезами. Работы для дедушки хватало – Вьетнам, Судан, Алжир, но со временем он узбагоился и поселился в Гренобле в маленьком шале с видом на горы.
В ресторане висит его фотка – крепкий, небольшого роста старик в шляпе, в пальто, с массивной тростью, с выбеленными морем мохнатыми бровями и большими хитрыми глазами – прям какой-то старик Державин, а не капитан Флинт.
Когда Филипп построил свой высокогорный ресторан, дед притащил наверх штабель тиковых досок от своей шхуны и бригаду зловещих арабов. За неделю они отстроили шикарную террасу, равную которой вы не найдете во всем Провансе. Правда, потом, рассказывал Филипп, ему стоило больших трудов отбиться от деятельного деда, который то казино предлагал там соорудить, то корпоративный бордель, то перевалочный пункт для товаров известной долины.
– Нет! Нет! И нет! – ответил деду несговорчивый внук.
Филипп и в душе, и по жизни – круглолицый вихрастый бордер. Неунывающий, как Незнайка на Луне, и позитивный, как Боб Марли. Любимые горы плюс любимая работа, а с недавних пор – плюс любимая женщина – ну, что еще надо бордеру, чтобы жизнь удалась?
– Пока лыжник суетливым годилем тщится все успеть – бордер уже успел! – так говорил мне мастер саксофона Фреди вчера на тиковой террасе.
Ветер задувал в рукава и в штаны, снег набивался в глаза, мы стояли и курили какую-то дрянь и вели беседы, для которых в бетонном городе нет ни времени, ни места, ни смысла.
– Фреди, – спрашивал я. – А ты как здесь застрял?
Фреди – офигенный саксофонист, он играл в опере в Монтевидео. А здесь подрабатывает на кухне и шпилит вечером, а иногда в обед, завораживающие соляки не хуже Кенни Гарретта, если хотите знать. Хотя мое личное предпочтение в саксофоне, конечно, Кэнди Далфер. Но это не важно.
Фреди любит пафосные речи, и он пустил табачные кольца в стаю колючих снежинок, ущипнул пару раз свою полуседую бородку и сказал так:
– Я восемнадцать лет потратил на учебу, а потом столько же играл в оркестре. На хера?
Я искал мир в своей душе – я нашел его здесь.
В суете театра я забыл ночное небо – я нашел его здесь.
Вся музыка, которую можно вообразить, – я нашел ее здесь.
«Базара нет», – подумал я и заметно загрузился.
Фреди засмеялся.
– Забей! – сказал он.
Луна, окруженная метелью, проплыла возле пика Ля Меж.
Мы вернулись в бар, и Фред с Билли зарядили «Позвони Элвису», «Sultans of Swing», а завершили мы все вместе шумными воплями «Heavy fuel».
Вот тут Фред и достал какие-то грибы, присланные его уругвайской родней, и стал всех угощать. Грибы реально были похожи на наши лисички, но только Леха смотрел на них подозрительно.
– Фреди, – снова спросил я. – А твоя родня как относится… ну, что ты зависаешь здесь?
– Эти горы, – ткнул пальцем Фред в темные громады за окном, – этот ресторан и эта тварь, – он обнял подкравшегося Муна, – и есть моя родня.
– Базара нет, – снова резюмировал я.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!