Текст книги "Планета мистера Сэммлера"
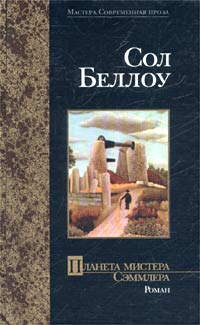
Автор книги: Сол Беллоу
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Забыв о терпении и снисходительности, он скорчил чудовищную гримасу, в которой выразилось переполнявшее его отвращение к узколобой, назойливой, маниакальной, бредово-нелепой настырности собственной дочери. Он сделал глубочайший, изнуряющий легкие, втягивающий тело долгий вдох.
Потом, склонившись над записной книжкой, прочел выведенное золотисто-ржавыми чернилами заглавие: «Будущее Луны». «Доколе, – так начиналась первая фраза, – доколе этой планете суждено оставаться единственным прибежищем человечества?»
Доколе? В самом деле, Господи? Не пора ли – не самое ли время уйти? Куда угодно. Время собирать камни и время их бросать. Если считать землю не камнем, брошенным кем-то в небеса, а предметом, с которого надлежит сбросить себя – избавиться от нее совсем. Рвануть эту большую бело-зелено-голубую планету или рвануться с нее самому.
2
Средний радиус Луны – 1737 км, Земли – 6371. Ускорение силы тяжести: на Луне – 161 см/сек2; на Земле – 981 см/сек2. Расселины и трещины лунных скал и гор вызваны грандиозными температурными перепадами. Разумеется, никакого ветра. Пять миллиардов безветренных лет. Впрочем, есть солнечный ветер. Камни крошатся, однако нормальная эрозия отсутствует. Обломки падают медленно и долго, потому что сила тяготения меньше и угол падения острее. Кроме того, в вакууме скорость падения камня, пылинки и человеческого тела одинакова, поэтому, предпринимая восхождение, необходимо всесторонне оценить вероятность обвала. Быстрое развитие средств информации. Масс-спектрометры. Солнечные батареи. Электроэнергия может быть обеспечена с помощью радиоактивных изотопов (стронций-90, полоний-210), термоэлектрических преобразователей. Доктор Лал подробно рассматривал проблемы телеметрии и передачи данных. Было ли что-нибудь упущено? Все необходимое можно вывести на орбиту и при надобности прилунить с помощью тормозных установок. Потребуются сверхточные компьютеры. Если нужно отправить тонну динамита в пункт X, было бы нежелательным обнаружить ее километров на 800 в сторону. А если это кислород, столь необходимый для жизни? Нужно еще учесть, что вследствие большей кривизны поверхности горизонт на Луне располагается ближе, а современная аппаратура не способна передавать сигналы за линию горизонта. Точность должна быть выше земной. С целью поощрения изобретательности и стимулирования мысли колонистам предлагалось для их же блага заняться изготовлением пива. Для пива нужен кислород, для кислорода нужны растения, для растений нужны теплицы. Отдельная короткая глава была посвящена селекции лунной флоры. В гостиной Марго уже сейчас можно было увидеть весьма непривередливых представителей растительного царства. Открываешь двери, и вот они: анемичные ростки картофеля, авокадо, каучуконосов. Доктор Лал склонялся в пользу хмеля и сахарной свеклы.
Сэммлер размышлял: нет, этим путем не вырваться из оков пространства и времени. Любое расстояние все еще конечно. Конечное – вуаль, отделяющая ощущение от ощущаемого; перчатка на руке, исследующей обнаженную плоть внутренней реальности. Была, однако, известная привлекательность в этом предложении покинуть Землю, построить пластмассовые кущи в космическом вакууме, поселиться в мирных, поневоле отшельнических колониях, пить ископаемую воду, размышлять только над фундаментальными вопросами бытия. Спорить не приходилось. На сей раз Шула-Слава принесла ему нечто действительно заслуживающее внимания. В своих мусорных ящиках на Четвертой авеню она выкапывала какие-то невероятно идиотские названия, дешевые книжонки в выцветших переплетах с дождевыми подтеками – всевозможные англичане двадцатых – тридцатых годов, времен Блумсбери, Даунинг-стрит, Клер Шеридан. Книжные полки мистера Сэммлера трещали под тяжестью чудовищного хлама, выторгованного по восемь штук за доллар и с торжеством доставленного в набитой до отказа хозяйственной сумке. Те книги, которые покупал он сам, тоже были в основном лишними. Тратишь уйму сил на серьезные книги затем лишь, чтобы обнаружить, что в них нет ничего нового. Великое множество ложных посылок, тупиков мысли, шатких постулатов, обрушивающихся под тяжестью собственных следствий. Даже самые способные – и те, по мере приближения к своему интеллектуальному потолку, начинали спотыкаться, исчерпав по дороге доказательность и достоверность. А главное, все они – пессимисты и оптимисты, положительно или отрицательно относящиеся к мирозданию, – оказывались в конечном счете terra cognita для старого Сэммлера. Поэтому доктор Лал представлял собой бесспорную ценность. Он сообщал нечто новое. Разумеется, оставалась еще возможность охотиться за истиной на внутренних дорогах, без хитроумных приспособлений, компьютеров, телеметрии, технических проверок, капиталовложений и сложной организации, необходимой для полетов на Марс, на Венеру, на Луну. Тем не менее вполне вероятно, что вывести человечество из нынешнего тупика под силу только той самой технологии, которая его туда завела. Те же силы, которые сделали Землю тесной, могли бы теперь высвободить человечество из тюрьмы. Вышибая клин клином. Последовательно доводя до конца великую пуританскую революцию, которая провозгласила примат материальных процессов и взяла курс на овладение материальным миром, обратив и истощив на это все запасы религиозного энтузиазма. Или, как сформулировал Макс Вебер в своем уничтожающем резюме, столь близком сэммлеровскому сердцу: «Специалисты без души, сенсуалисты без сердца, ничтожества, всерьез полагающие, будто именно они достигли уровня цивилизации, никем прежде не достигнутого». Возможно, у человечества и нет иного выбора, кроме как продолжать двигаться в прежнем направлении в надежде, что оставленные в тылу духовные силы, которыми оно некогда пренебрегло, снова расправят крылья и вернут себе власть. Например, благодаря растущему единомыслию лучших умов планеты, как в «Открытом заговоре» Г.Дж.Уэллса. Быть может, старик (так рассуждал его современник Сэммлер) был в конце концов прав?
И все же он отложил в сторону переплетенную в морскую синеву записную книжку с золотистой ржавчиной ее фраз, начертанных сухим, эдвардиански-педантичным, индуизированным почерком доктора В.Говинды Лал, чтобы снова – в сущности, уступая своей ментальности, – вернуться мысленно к негру и к тому предмету, который тот продемонстрировал. К чему это было? Результатом был шок. Шок стимулировал сознание. Пока что вполне правдоподобно. Но какова была цель этого предъявления гениталиев? Что, собственно, это доказывает? Qu'est-ce que cela prouve? Кажется, это сказал какой-то французский математик, посмотрев трагедию Расина? Так помнилось мистеру Сэммлеру. Не то чтобы он увлекался этой старомодной европейской игрой цитатами. Он прошел через это. Просто так получалось, что чужие фразы без спросу всплывали в его памяти. Итак, имел место мужской член – внушительных размеров кусок сексуальной плоти, почти разбухший от горделивости и предъявленный с сознанием неоспоримой правоты, выдающийся и обособленный объект, стремящийся внушить почтение. На которое, учитывая сексуальный характер современной идеологии, он вполне мог претендовать. Он являл собой символ сверхлегитимности и суверенности. Он не требовал ответа. Он сам был ответом. На все зачем, все почему. Видишь эту штуку? Гляди, какой превосходный, исчерпывающий и заставляющий все умолкнуть довод! Эта штука, братец, болтается у нас как раз для того, чтобы не нуждаться в других доводах. Кстати, у муравьеда тоже есть такой чувствительный отросток, он только не служит ему символом власти, даже над муравьями. Но замени Бога Физиологией, создай культ половой потентности – и можешь рассчитывать на великие достижения. Впрочем, может быть, на великие достижения можно рассчитывать в любом случае.
Об этом гипертрофированном внимании к потентности Сэммлер, к сожалению, знал предостаточно. Даже без особого желания узнать. По каким-то непонятным причинам он был в эти дни нарасхват, к нему то и дело приходили, с ним то и дело советовались, ему исповедовались. Видимо, все это можно было объяснить какими-нибудь солнечными пятнами или циклами, чем-нибудь барометрическим или даже астрологическим. Так или иначе, всегда находился очередной посетитель, стучавший в дверь. В тот момент, когда он размышлял о муравьедах и о том, как давно негр его выследил, раздался очередной стук.
Кого там несет? Сэммлер мог показаться более раздраженным, чем был. В действительности он ощущал лишь, что у других людей больше жизненных сил, чем у него. Это порождало скрытое уныние. Впрочем, такое ощущение было отчасти иллюзорным, поскольку, учитывая могущество противостоящего жизни фактора, достаточных сил не было ни у кого.
На сей раз стучал Уолтер Брук, еще один родственник – двоюродный брат Марго, кем-то доводившийся и Гранерам.
Анджела однажды пригласила Сэммлера на выставку Руо. Благоухающая, изысканно одетая, элегантно подкрашенная, она таскала Сэммлера из зала в зал, покуда вдруг не показалась ему катящимся впереди, сверкающим всеми цветами радуги, позолоченным волчком, в то время как он сам был старым посохом, которого она время от времени касалась, чтобы получить случайный импульс. Оба они остановились перед автопортретом Руо, и оба подумали одно и то же: Уолтер Брук. Это был широкий, плотный, коренастый старик с багровым невыразительным лицом, выпученными глазами, довольно самоуверенный, но явно неспособный справиться с собственными страстями. Иными словами, Уолтер Брук. Таких людей, вероятно, тысячи. Но это был именно Уолтер. Это были его темный плащ, его кепка и торчащие из-под нее над ушами пучки седых волос; его коричнево-красные, пузатые, как у чайника, щеки; его толстые губы лиловатого оттенка… – ладно, представьте себе мир неродившихся душ; представьте себе кладовые, битком набитые душами; представьте, что каждой душе предназначено, вселившись в плоть, явиться на свет с каким-нибудь определенным доминантным признаком ab initio. Изначальной достопримечательностью Брука был бы в таком случае голос. Из кладовой душ ему достался голос. Он пел в церковных хорах, в хоровых группах. По профессии он был баритон и музыковед. Он извлекал из забвения старинные рукописные партии и приспосабливал или аранжировал их для групп, исполнявших ренессансную или барочную музыку. «Мое собственное маленькое дельце», – говаривал он. Пел он хорошо. Его певческий голос был превосходен, но разговорный звучал хрипло, сухо, сдавленно. Брук кулдыкал, крякал, хрюкал, проглатывал слова.
Заявившийся к Сэммлеру, столь занятому своими мыслями, Брук со всеми его противопоказаниями был воспринят Сэммлером весьма своеобразно. Вот как приблизительно: все объекты внешнего мира представляются нам в формах, свойственных нашему восприятию пространства и времени, в формах, присущих нашему мышлению. Мы видим то, что нам дано, сиюминутное, внешнее. Вечная сущность лишь на время воплощается в этих преходящих обликах. Единственный способ преодолеть власть внешних форм, вырваться из плена спроецированных иллюзий, единственный путь прямого контакта с вечным лежит через свободу. Сэммлер полагал, что его кантианства достаточно, чтобы следовать по этому пути. Люди типа Брука представлялись ему существами, которые изнашивают свои сердца в вечном плену внешних форм. Потому-то Брук и приходил к Сэммлеру. Потому-то и паясничал, – а он постоянно паясничал. Шула-Слава – та рассказывала, как ее, увлеченную статьей в «Луке», сшиб конный полисмен, гнавшийся за сбежавшим оленем. Брук способен был преобразиться в слепца с Семьдесят второй улицы и затянуть, придерживая на воображаемом поводке воображаемую собаку-поводыря и встряхивая монеты в отсутствующей шляпе: «О, как заботится о нас Иисус – Господи, благослови вас, сэр…» Он обожал также устраивать шутовские похороны, с латинскими молитвами и соответствующей музыкой – Монтеверди, Перголези, моцартовская месса до минор. В давние годы, сразу после бегства из Германии, работал на складе Маки; там он и еще один немецкий еврей устраивали друг другу отпевания: один ложился в пустой упаковочный ящик, обвив запястья дешевыми бусами, второй справлял службу. Брук до сих пор наслаждался подобными развлечениями, любил изображать покойников. Сэммлеру не раз приходилось быть зрителем на представлениях Брука. Тот представлял и другие спектакли. Например, сборища нацистов в Спорт-Паласе. Держа возле рта пустой горшок для пущего звукового эффекта, Брук напыщенно завывал в духе Гитлера, время от времени прерывая себя воплями «Зиг хайль!». Эта забава не доставляла Сэммлеру ни малейшего удовольствия. От нее Брук всегда переходил к воспоминаниям о Бухенвальде. Начинал копаться во всей этой чудовищной, гротескно-нелепой, бессвязной и бессмысленной мерзости. Вроде того как однажды, в тридцать седьмом, всем заключенным вдруг раздали на продажу кастрюли. Сотни тысяч кастрюль, новеньких, прямо с фабрики. Зачем? Брук накупил кастрюль на все свои деньги. К чему? Заключенные пытались продавать их друг другу. В другой раз кто-то свалился в выгребную яму. Помочь запретили, и он тонул там, внизу, пока остальные заключенные, со спущенными штанами, беспомощно смотрели на него, сидя на доске, положенной вдоль ямы. Так и задохнулся в дерьме.
– Довольно, Уолтер, довольно, – сурово обрывал мистер Сэммлер.
– Да, дядя Сэммлер, я понимаю, это еще не самое худшее. Ты был там в самый разгар войны. Но ведь я-то сидел в этом сортире. У меня был понос и жуткие боли. Мои кишки! Задница, как водосточная труба!
– Хорошо, хорошо, Уолтер, не нужно так часто повторяться.
К несчастью, Брук не мог не повторяться, и Сэммлер жалел его. Он его жалел и с трудом выносил. Конечно же, у Уолтера, как и у многих других, все и всегда, опять и снова, по-прежнему и без конца сводилось к сексуальным проблемам. Его пунктиком были женские руки. Они должны были быть молоденькими, пухленькими. Желательно смуглыми. Очень подходили руки пуэрториканок. А летом, особенно летом, когда все в легких платьях, когда женские руки выставлены напоказ! Он глазел на них в метро. Он следовал за ними в испанские кварталы Гарлема. Он прижимал свою восставшую плоть к металлическому поручню вагона. В глубинах Гарлема, где он оставался единственным белым пассажиром. Все сразу – возбуждение, стыд, страх. Рассказывая об этом, он начинал нервно теребить шерсть, которая мохнатым воротником курчавилась у основания его толстой шеи. Клинический случай! Одновременно он, как правило, состоял в весьма целомудренных, платонических отношениях с какой-нибудь почтенной дамой. Классический случай! Он был способен к сочувствию, к самопожертвованию, к любви! Даже к верности – на свой особый, цинардоусоновский манер.
В данный момент его, как он сообщил, «подцепили» руки какой-то кассирши из аптеки.
– Я бегаю туда, как только у меня есть время.
– У-гм… – отвечал Сэммлер.
– Я прямо помешался. Я хожу туда со своим ручным чемоданчиком. У него очень твердая крышка. Первоклассная кожа. Я уплатил за него 38.50 на Пятой авеню. Можешь себе представить?
– Более или менее.
– Я покупаю у нее какую-нибудь ерунду – на четверть доллара, на десять центов. Жвачку. Пачку «Сайт-Сэверс». Плачу крупными бумажками – десять, иногда двадцать долларов. Я нарочно хожу в банк и беру там новые бумажки.
– Понимаю.
– Нет, дядя Сэммлер, ты себе не можешь представить, что для меня значит эта круглая рука! Такая смуглая! Такая налитая!
– М-да, я, пожалуй, действительно…
– Я прислоняю чемоданчик к стойке и прижимаюсь к нему. Пока она считает сдачу, я прижимаюсь.
– Ну, довольно, Уолтер; ты бы мог избавить меня от подробностей.
– Дядя Сэммлер, ты должен меня понять. Что мне делать? Только это и остается.
– Но ведь это твое личное дело. Какой смысл мне об этом рассказывать?
– Есть смысл. Почему мне нельзя рассказать? Должен быть какой-то смысл. Пожалуйста, не останавливай меня. Будь добр.
– Тебе следовало бы остановиться самому.
– Я не могу.
– Ты уверен?
– Я прижимаюсь. Я дохожу до конца. Я спускаю в штаны.
Сэммлер повысил голос:
– Ты ничего не можешь пропустить…
– Что мне делать, Сэммлер?! Я старик. Мне уже шестьдесят.
При этом Брук прижимал к глазам короткие толстые ладони. Его приплюснутый нос разбухал, рот бессмысленно открывался, из глаз брызгали слезы, он вилял плечами и туловищем, как обезьяна. Между редкими зубами зияли трогательные просветы. Вдобавок, плача, он переставал храпеть. В этот момент в нем ощущался певец.
– Вот что такое моя жизнь…
– Я тебе сочувствую, Уолтер.
– Я урод!..
– Послушай, но ведь этим ты никому не причиняешь вреда. Сейчас вообще к таким вещам принято относиться снисходительно, не так, как раньше. А может, ты бы мог как-нибудь отвлечься? У тебя ведь есть и другие интересы. Потом, видишь ли, твои огорчения так похожи на огорчения всех других, так современны, Уолтер, что, право, одно это должно тебе помочь. Разве не утешительно, что исчезли все эти скрытые сексуальные комплексы викторианской эпохи? Теперь комплексы вдруг обнаружились у всех и каждый публично оповещает о них весь свет. По нынешним меркам ты даже, пожалуй, немного устарел. У тебя старомодный комплекс, столетней давности Крафт-Эбинг.
Тут Сэммлер запнулся, недовольный легкомыслием, которое вкралось в его утешительную тираду. Впрочем, что касается старомодности, он сказал именно то, что думал. Сексуальные проблемы людей типа Брука проистекали из подавленных желаний далекого прошлого, были связаны с образами матерей и женщин, давно исчезнувших из жизни. Он сам, родившийся в исчезнувшем столетии, в исчезнувшей ныне Австро-Венгерской империи, вполне мог оценить произошедшие с тех пор изменения. Но не бессовестно ли было рассуждать о подобных вещах, небрежно развалясь в постели? Впрочем, прежний, краковский, исчезнувший Сэммлер никогда не отличался добротой. Он был единственный сын, избалованный матерью, которая сама была избалованной дочерью. Забавное воспоминание: когда в детстве Сэммлеру случалось закашляться, он прикрывал рот рукой служанки, чтобы «микробы» не попали на его собственную руку. В семье над этим подшучивали. Служанка Вадя – краснощекая, желтоволосая, добродушная, вечно ухмыляющаяся, с вечно распухшими деснами – разрешала маленькому баричу одалживать на время свою руку. Позже, когда он стал постарше, уже не Вадя, а сама мать приносила своему длинному, тощему, нервному сыну чашку шоколада с печеньем в его комнату, где он мусолил Троллопов и Бэйджхотов, воспитывая в себе «англичанина». В те времена он и его мать считались эксцентричными и раздражительными. Высокомерные, черствые люди. Ничем на них не угодишь. Понятно, что за последние тридцать лет для Сэммлера многое изменилось. Но сейчас перед ним сидел Уолтер Брук, размазывая слезы старчески-младенческими пальчиками, и всхлипывал, закончив исповедь. Бывало ли, чтобы ему не в чем было исповедаться? Всегда что-нибудь находилось. Брук признавался, что он покупает себе детские игрушки. Надувных обезьян в крохотных зеленых мундирчиках и красных шапочках, которые умели причесываться, поглядывая в зеркало, били в бубен и танцевали. Черные куклы-менестрели упали в цене. Куклами он играл у себя в комнате, в одиночестве. Еще он посылал обличительные, оскорбительные письма музыкантам. Потом он приходил, исповедовался и плакал. Он плакал не напоказ. Он оплакивал свою пропащую, как ему казалось, жизнь. Можно ли было убедить его, что это не так?
Когда имеешь дело с людьми типа Брука, так и тянет перейти к более широким обобщениям, искать параллели, подумать об истории и других общих проблемах. Скажем, по линии сексуального невроза у Брука можно было найти предшественников – хотя бы фрейдовского «человека с крысиным комплексом», который помешался на том, что крысы якобы грызут его задний проход, и утверждал, что его гениталии выглядят как крысы и даже сам он похож на крысу. В сравнительном плане Брук относился к типу людей, страдающих легкой формой фетишизма. При таком подходе к явлениям невольно ощущаешь склонность выбирать только самые яркие, достойные внимания случаи. Когда они уже отобраны, представляется разумным опустить, отбросить и забыть все остальное, все лишнее, весь балласт. Если уж говорить об исторической памяти человечества, то вряд ли она станет обременять себя запоминанием таких вот Бруков – да и запоминанием Сэммлеров тоже, если на то пошло.
Сэммлера не очень беспокоила мысль, что его могут забыть; во всяком случае, меньше, чем мысль, что его могут запомнить. Но сейчас, кажется, он понял все презрение к человеку, заключавшееся в этой установке на «достойных запоминания». О, разумеется, исторический подход позволял легко отделаться от подавляющего большинства человеческих судеб. Иными словами, выбросить большинство из нас, как балласт. Но вот перед ним сидел Уолтер Брук, который пришел в эту комнату, потому что только здесь он мог выговориться. И этот Уолтер, кончив всхлипывать, вероятно, почувствует себя оскорбленным упоминанием о Крафт-Эбинге, намеком на заурядность своего извращения. Похоже, ничто так не уязвляет самолюбие, как обидное сознание, что жизнь пошла насмарку из-за порока, который вовсе не самый порочный. Эта мысль воскресила в его памяти забавное рассуждение Кьеркегора о людях, рыщущих по всему свету, чтобы глазеть на реки, горы, незнакомые созвездия, на птиц с невиданным оперением, на диковинно деформированных рыб, на чудовищных человеческих уродцев. О так называемых туристах, об этих обалдевших стадах, которые тупо таращат глаза на бытие и полагают, будто что-то узрели. Конечно, Кьеркегора подобные чудеса не могли интересовать. Он-то искал чуда в подлиннике, ему нужен был Рыцарь Веры. Подлинно незаурядная натура, сознавая свою прочную связь с бесконечным, свободно чувствует себя в конечном и преходящем. Постоянно сообразуясь с бесконечным, она способна сохранять алмаз своей веры и благодаря этому не нуждается ни в чем, кроме конечного и заурядного. Тогда как все прочие жаждут поглазеть на экстраординарное. Или стать тем, на что глазеют. Готовы быть птицами с диковинным оперением, причудливо деформированными рыбами, чудовищными человеческими уродцами. Но мистеру Сэммлеру – крепкие скулы, легко электризующиеся волосы на затылке, длинное старческое тело, – мистеру Сэммлеру было неуютно в постели. Его тревожило искушение преступлением, предстоящее Рыцарю Веры. Должен ли Рыцарь Веры найти в себе силы преступить законы человечности ради покорности Господу? О да, конечно! Но Сэммлер знал об убийстве нечто, изрядно затрудняющее выбор. Он часто думал о том, какую властную привлекательность обрело преступление в глазах отпрысков буржуазной цивилизации. Кто бы они ни были – революционеры, супермены, праведники. Рыцари Веры – все, даже самые достойные, время от времени дразнили и испытывали свое воображение мыслью о ноже или револьвере. Преступившие закон. Раскольниковы. Н-да…
– Уолтер, мне больно видеть, как ты мучаешься…
Странные все-таки дела происходили в комнате мистера Сэммлера, загроможденной книгами, бумагами, увлажнителем, раковиной, электроплиткой, пирексовой колбой, документами.
– Я помолюсь за тебя, Уолтер…
Брук от изумления перестал всхлипывать.
– Как ты сказал, дядя Сэммлер? Ты помолишься?
В его голосе уже не было прежней баритональной певучести. Голос был снова хриплым, кулдыкающим.
– Дядя Сэммлер, у меня бзик – женские руки. А у тебя – молитвы?
Он заржал утробным смехом. Он ржал и отфыркивался, смешно раскачиваясь всем телом, держась за бока, безглазо таращась на Сэммлера обеими ноздрями. Но в сущности, он смеялся не над Сэммлером. В сущности, нет. Нужно научиться различать. Различать, различать и различать. Вся суть не в объяснении, а в различении. Объяснения – для ментальности человека из толпы. Просвещение взрослых. Подъем сознательности масс. С ментальностью на уровне, сравнимом, скажем, с экономическим уровнем пролетариата в 1848 году. Но различение?! Это, несомненно, более высокий уровень сознания.
– Я помолюсь за тебя, – повторил Сэммлер.
После чего разговор на некоторое время выродился в обычную светскую беседу. Сэммлеру не удалось увернуться от прочтения писем, которые Брук собирался разослать в «Пост», «Ньюсдей», «Таймс», где он вечно сводил какие-то запутанные счеты с музыкальными критиками. Это опять была нелепая, вздорная сторона действительности – опозоренный, паясничающий, невежественный Брук. Надо же – как раз в тот момент, когда Сэммлер намеревался отдохнуть. Собраться с силами. Привести себя в порядок. Крикливый, гнусавый дадаистский стиль Брука был вдобавок заразителен. «Поди, Уолтер, поди прочь, чтобы я мог за тебя помолиться», – хотелось сказать Сэммлеру, невольно впадая в ту же манеру. Но тот вдруг спросил:
– Когда ты ждешь своего зятя?
– Кого? Эйзена?
– Ну да, он должен скоро приехать. Если уже не приехал.
– Понятия об этом не имею. Он уже много раз грозился приехать. Ему хочется осесть в Нью-Йорке вольным художником. Шула ему абсолютно не нужна.
– Я знаю, – кивнул Брук. – Но она здорово его боится.
– Из этого наверняка ничего не выйдет. Он слишком вспыльчив. Да, это ее испугает. И польстит, пожалуй, если она вообразит, что он приезжает ради нее. Ему не до жен, не до семей. Ему хочется выставить свои картины на Медисон-авеню.
– Он полагает, что они того стоят?
– У себя в Хайфе он научился гравировать и печатать, и в типографии мне говорили, что он неплохой работник. Потом он на свою голову обнаружил, что существует Искусство, и принялся убивать свое свободное время на рисунки и офорты. Он разослал всем родственникам их портреты, скопированные с фотографий. Ты не видел? Это было нечто устрашающее. Плоды больной психики и очень страшной души. Уж не знаю, как он ухитрился, но с помощью цвета он обесцветил всех и вся. Люди выглядели на его портретах как трупы: черные губы, глаза, лица цвета протухшей, позеленевшей печенки. И в то же время было во всем этом что-то от старательности маленькой школьницы, которая учится рисовать красоток с длинными ресницами и губками сердечком. Честное слово, я онемел, когда увидел себя в виде этакой ископаемой куколки. Вдобавок под лаком, которым он покрывает свои картины! Я выглядел совершенным мертвецом. Словно одной смерти на меня было мало, и мне довелось умирать по меньшей мере дважды. Отлично, пусть приезжает. Кто знает, вдруг его идиотские нью-йоркские надежды сбудутся. Он жизнерадостный маньяк. А все эти высоколобые сейчас вдруг открыли, что безумие – это высшая мудрость. Если он нарисует им Л.Б.Джонсона, генерала Уэстморленда, Раска, Никсона или мистера Лэйрда в своем оригинальном стиле, он еще, глядишь, станет знаменитостью. Деньги и власть превращают людей в сумасшедших, это точно. Почему бы, наоборот, не превратить сумасшествие в деньги и власть. Эти вещи неразлучны.
Ложась, Сэммлер сбросил туфли; теперь его тощим ногам в коричневых носках стало зябко, и он натянул на них свое одеяло с протершейся шелковой подкладкой. Брук принял это за намек на желание вздремнуть.
А может, Сэммлеру наскучила беседа? Баритон распрощался.
Когда Брук наконец суматошно вынес за дверь свое черное пальто, короткие ляжки, широченный, обвисший, как мешок, зад, ухарски нахлобученную кепку, штанины, прихваченные велосипедными зажимами (что за самоубийственная амбиция – по Манхэттену на велосипеде), Сэммлер вернулся мыслями к карманнику, к вестибюлю с его вспучившейся, точно грыжа, обивкой, к двум парам темных очков, к тому развернувшемуся на ладони, как ящерица, мясистому шлангу тускло-розово-шоколадного цвета, что так назойливо внушал мысль о потомстве, для зачатия которого он предназначался. Уродливо, нелепо; смехотворно – и все же не лишено значения. Мистер Сэммлер тоже (одно из тех проявлений ментальности, которым не было уже смысла противостоять) имел привычку придавать особое значение – совершенно иное, разумеется, – некоторым деталям. Но ведь они с карманником были различными людьми. В них все было различным. Их интеллекты, характеры, душевные черты разделяла пропасть. В биологическом плане Сэммлер в прошлом был на высоте – на свой еврейский лад, конечно. Но это никогда не имело для него особого значения, а уж теперь, на восьмом десятке, тем более. Западный мир, однако, впал в сексуальное помешательство. Сэммлеру смутно припомнилось, что он слышал, будто сам президент на какой-то пресс-конференции (предварительно попросив дам выйти) продемонстрировал тот же предмет корреспондентам – разве мужчине с таким подвесом нельзя доверить руководство страной? Апокриф, разумеется, хотя – с таким президентом – не такой уже невероятный; но главное – что такая история могла возникнуть и распространиться столь широко, что достигла даже Сэммлеров в их вестсайдских спаленках. А последняя выставка Пикассо? Анджела сводила его на вернисаж в Музее современного искусства. Это была та еще выставка. По всей видимости, старика бешено преследовали видения фаллосов и половых щелей. Неистово и смешно переживая боль расставания, он громоздил их друг на друга тысячами, десятками тысяч. Лингам и Иони. Может быть, санскритские слова могли бы прояснить суть дела? Внести некоторое отстранение? Впрочем, в таком сложном вопросе аналогии мало чем могли помочь. Вопрос был действительно сложен. Вспомнить хотя бы заявление, которое выпалила Анджела Гранер после нескольких рюмок, когда она разошлась, развеселилась и совсем уж перестала стесняться старого дяди Сэммлера. «Еврейская голова, арийский профиль и негритянский петух – вот что нужно женщине», – сказала она. Вот из чего для нее складывался идеальный мужчина. Что ж, Анджела имела открытый счет в самых фешенебельных магазинах Нью-Йорка и свободный доступ ко всему лучшему в мире. Если нужного ей не оказывалось у Пуччи, она заказывала у фирмы «Гермес». Все, что деньги могут купить, роскошь предложить, собственная красота использовать или сексуальная подделка заменить. Если бы только ей удалось найти своего идеального мужчину, свой божественный синтез, – уж она-то не сомневалась, что сумеет его заинтересовать. Она была достойна самого лучшего. В этом она была уверена. В такие минуты мистеру Сэммлеру было особенно приятно думать о Луне. Лунное целомудрие Артемиды. На Луне людям придется тяжко трудиться, чтобы попросту выжить, попросту дышать. Придется нести бдительную вахту у приборов. В общем, совершенно иная жизнь. Инженеры-отшельники, почти монашеский орден.
Если то был не Брук, вторгавшийся со своими исповедями, не Марго (ибо после трех лет добродетельного вдовства она уже начинала подумывать о сердечных делах; больше разговоров, чем реальных перспектив, понятно: разговоры, глубокомысленные рассуждения и так далее до бесконечности), не Фефер с его неразборчивыми постельными похождениями, значит, в дверь к Сэммлеру стучалась Анджела, чтобы пооткровенничать. Если это можно было назвать откровенностью. Информационный хаос. Это становилось тягостным. Особенно в последнее время, когда ее отец слег. Сейчас он лежал в больнице. Насчет хаоса у Сэммлера были кое-какие соображения – у него были свои соображения по каждому поводу, в высшей степени субъективные, это верно, но чем еще оставалось руководствоваться? Разумеется, он допускал, что может ошибаться. Его представления были европейскими, а эти явления – американскими. Европейцы в Америке зачастую делали самые курьезные ошибки. Вспомнить хотя бы, как некоторые иммигранты стали паковать чемоданы и собираться в Мексику или Японию после первого провала Стивенсона, – они были уверены, что Айк введет военную диктатуру. Некоторые из европейских товаров сделали, однако, в Америке головокружительную карьеру: психоанализ, экзистенциализм. И тот и другой были связаны с сексуальной революцией.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































