Текст книги "Борьба с безумием. Гёльдерлин. Клейст. Ницше"
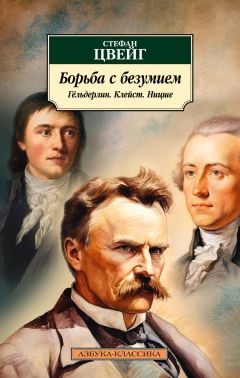
Автор книги: Стефан Цвейг
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Итак, между Гёльдерлином и Гёте совершенно естественно не завязалось прочных отношений, да и было бы просто опасно, если бы Гёльдерлин с обычным для него смирением последовал советам Гёте, охладил от природы присущий ему накал, если бы он послушно настроил себя на идиллический, буколический лад; поэтому, сопротивляясь Гёте, он спасал себя в самом высоком смысле. Но трагедией и бурей, потрясшей самые корни его существа, было отношение к Шиллеру, ибо здесь любящий должен был утвердить себя в противовес любимому, творение – противопоставить себя творцу, ученик – учителю. Почитание Шиллера было фундаментом его мироотношения; поэтому глубокое потрясение, которое испытывает его впечатлительная психика под влиянием нерешительности, равнодушия и боязливости Шиллера, грозит разрушить весь его мир. Но это взаимное непонимание между Шиллером и Гёльдерлином – явление высокого этического порядка; это сопротивление любящего и болезненный разрыв можно сравнить лишь с уходом Ницше от Вагнера. И здесь ученик преодолевает обаяние учителя во имя идеи и сохраняет высшую верность, верность идеалу, жертвуя верностью простого повиновения. В действительности Гёльдерлин остается более верным Шиллеру, чем Шиллер сам себе.
В самом деле, Шиллер в ту пору еще свободно управляет своим созидающим духом, бесподобный пафос его речи еще находит путь к сердцу немецкого народа, но все же болезненный, прикованный к комнате и креслу поэт охладевает, позволяя умственному началу взять верх над чувственным, и теряет молодость раньше, чем более пожилой Гёте. Энтузиазм Шиллера не то чтобы улетучился или уменьшился – нет, он теоретизировался; бурная, мятежная сила мечтаний Шиллера-тираноборца кристаллизуется и оформляется в «методику идеализма»; место пламенной души занимает пламенный язык, вера переходит в сознательный оптимизм, которому немногого не хватает, чтобы превратиться в мещанский, ручной немецкий либерализм. Теперь Шиллер воспринимает преимущественно умом, уже не вкладывая в переживания «безраздельно» (как этого требует Гёльдерлин) все свое существо, всю свою жизнь. И странным должен был показаться этому честному, достигшему ясности человеку час, когда перед ним впервые предстал Гёльдерлин. Ибо не кто иной, как он сам создал Гёльдерлина, который обязан ему не только формой стиха и общим направлением: все мышление молодого поэта уже многие годы питается исключительно идеями Шиллера, его верой в совершенствование человечества. Гёльдерлин сформирован и воспитан его поэзией, он в той же мере создан Шиллером, как и другие юные мечтатели, как маркиз Поза и Макс Пикколомини: он узнает в Гёльдерлине самого себя – но в преувеличении, свое слово, воплощенное в человеке. Все, чего требовал Шиллер от юноши, – вдохновение, чистота, экзальтация, – все это в Гёльдерлине претворилось в жизнь: в этом юном мечтателе реально осуществляются все сформулированные им требования, предъявляемые к идеалу. Бывший для Шиллера лишь риторическим и догматическим требованием, идеализм для Гёльдерлина – вся жизнь; он полон веры в богов и в Элладу, которые для Шиллера давно стали великолепной декоративной аллегорией, – веры религиозной, а не только поэтической; он исполняет миссию поэта, которую тот лишь постулирует в мечтах. Его собственные теории, его грезы внезапно приобретают видимый облик во плоти: отсюда и тайный испуг Шиллера, когда он впервые видит этого юношу, героя своих произведений, свой идеал в образе живого человека. Он узнает его сразу: «Я нашел в этих стихотворениях многое от своего прежнего облика, и уже не в первый раз автор напомнил мне меня самого», – пишет он Гёте и, растроганный, склоняется над этим внешне смиренным, но внутренне пылающим человеком, как над отблеском угасшего огня собственной юности. Но именно эта вулканическая пламенность, этот энтузиазм (который он неустанно проповедует в своей поэзии) кажется ему теперь, в зрелом возрасте, опасным для нормальной жизни: Шиллер, с житейской точки зрения, не может одобрить в Гёльдерлине как раз то, чего сам требовал в поэзии: пенящуюся экзальтацию, стремления сделать в жизни одну-единственную ставку – и он должен – трагический разлад – отвергнуть как нежизнеспособный им самим созданный образ идеального мечтателя. Здесь, может быть, впервые обнаруживает Шиллер, к каким опасным разногласиям с самим собой пришел он, расчленив свою жизнь на героическую поэзию и уютно-бюргерское повседневное существование: венчая лаврами юных героев своих произведений – маркиза Позу, Макса, Карла Мора – и посылая их на гибель (их героизм как бы слишком велик для земного существования), он испытывает явное смущение перед другим своим созданием, перед Гёльдерлином. Ибо его проникновенный взор познает, что тот идеализм, которого он требовал от немецкого юношества, уместен только в идеальном мире, в драме, а здесь, в Веймаре и Йене, эта поэтическая бескомпромиссность, эта демоническая непримиримость воли непременно погубит молодого человека. «Он слишком субъективен… его состояние опасно, потому что к таким натурам трудно подойти», – как о бессмысленном явлении говорит он о «мечтателе» Гёльдерлине, – почти теми же словами говорит Гёте о «патологическом» Клейсте; они интуитивно прозревают в обоих скрытый лик демона, опасность взрыва в их душе, раскаленной и запертой, как паровой котел. В то время как поэт Шиллер лирически возносит юных героев и позволяет им в блаженном экстазе бросаться в бездну чувств, в реальной жизни добродушный, доброжелательный человек старается умерить пыл Гёльдерлина. Он заботится об его частной жизни, об его общественном положении, находит ему должность и издателя для его сочинений, – с глубокой душевной симпатией, с отеческой нежностью заботится о нем Шиллер. И, стремясь ослабить и смягчить зловещую напряженность его экзальтации, стремясь «сделать его благоразумным», он мягко, но планомерно (при всей своей симпатии) связывает его, не дает ему возноситься, не подозревая, что даже малейший нажим может сломить эту чувствительную, впечатлительную, хрупкую душу. Так постепенно осложняются отношения: проницательным взором строителя судеб Шиллер провидит над головой Гёльдерлина грозный меч самоуничтожения, а Гёльдерлин, со своей стороны, чувствует, что «единственный человек, отнявший у него свободу», Шиллер, «от которого он непреодолимо зависит», помогая ему в повседневной жизни, не понимает глубин его существа. Он жаждал подъема, прилива новых сил: «для духа дружественное слово, исходящее из сердца мужественного человека, – словно живительная вода, истекающая из горных недр и в кристальных струях приносящая нам тайную силу земли», – говорит Гиперион; но оба они, Шиллер и Гёте, равнодушно дарят ему редкие капли своего одобрения. Ни разу они не наградили его щедрым восторгом, ни разу не воспламенили его сердце. Так близость Шиллера становится для него не только счастьем, но и мукой. «Я всегда поддавался соблазну видеть Вас, а, видя Вас, всякий раз чувствовал, что я для Вас ничего не значу», – пишет он ему горькие, из глубины сердца вырвавшиеся слова прощания. И, наконец, он открывает двойственность своего чувства: «поэтому я решаюсь признаться, что иногда я вступаю в тайную борьбу с Вашим гением, чтобы охранить от него свою свободу». Он не может – это стало ему ясно – открывать сокровенные глубины своей души тому, кто по мелочам критикует его стихи, кто хочет умерить его восторженность, видеть его умеренным и холодным, а не «субъективным и экзальтированным». Из гордости, несмотря на свойственное ему смирение, он скрывает от Шиллера наиболее значительные свои стихи, показывает только пустячные мелочи, эпиграммы, потому что сопротивляться Гёльдерлин не умеет, он может только сгибаться и таиться, такова его постоянная реакция. Он неизменно остается коленопреклоненным перед богами своей молодости: не угасает в нем почтение и благодарность к тому, кто был «волшебным облаком его юности», кто дал его голосу напевы. Изредка наклоняется к нему Шиллер с ласково-поощрительным словом, и Гёте с безразличной приветливостью проходит мимо него. Но они оставляют его коленопреклоненным, пока у него не разломит спину.
Так желанная встреча с великими становится для него роковой и опасной. Год свободы в Веймаре прошел почти бесплодно, хотя он и надеялся завершить начатые вещи. Философия – это «убежище для неудачных поэтов» – не дала ему ничего, поэты его не воодушевили: наброском остается «Гиперион», драма не окончена, и, несмотря на крайнюю экономию, средства его истощены. Первая битва за право жить, как должен жить поэт, как будто проиграна, ибо Гёльдерлин должен снова сесть на шею матери и с каждым куском хлеба проглатывать немой упрек. Но в действительности он именно в Веймаре победил самую большую опасность: он не отступил от «неделимости вдохновения», не дал себя обуздать и умерить, как хотели его доброжелатели. Его гений утвердился в своей глубочайшей стихии, и, наперекор всякому благоразумию, демон одарил его инстинктом, глухим ко всяким урокам. На попытки Шиллера и Гёте низвести его к идиллии, к буколике, к умеренности он отвечает еще более бурным взрывом. Увещания Гёте к поэзии в образе Эвфориона —
этот призыв к поэтическому квиетизму, к идилличности, Гёльдерлин встречает страстной отповедью:
К чему смирять меня, когда сгорает
Моя душа в цепях железных дней,
Лишать меня, кого борьба спасает,
Рабы, стихии пламенной моей?
Вдохновение, «пламенную стихию», в которой душа Гёльдерлина живет, как саламандра в огне, он вынес незапятнанной из искушения классической холодностью, – упоенный судьбой, он, «кого борьба спасает», вновь окунается в жизнь, ибо
Будет в горне таком
И все, что чисто, коваться.
То, что должно было его погубить, сперва закаляет его, и то, что его закалило, приносит ему гибель.
Диотима
Тех, кто слабее, похищают Парки.
Мадам де Сталь записывает в свой дневник: «Frankfurt est une ville très jolie, on у dîne parfaitement bien, tout le monde parle le français et s’appelle Gontard»[26]26
«Франкфурт – очень красивый город; там отлично едят, все говорят по-французски и носят фамилию Гонтар» (фр.).
[Закрыть].
В одно из этих семейств Гонтар потерпевший крушение поэт приглашен домашним учителем к восьмилетнему мальчику; здесь, как и в Вальтерсгаузене, на первых порах все кажутся его мечтательному, легко воспламеняющемуся взору «очень хорошими и редкими людьми»; он чувствует себя прекрасно, хотя значительная доля его прежней пылкости уже утрачена. «Я и так похож на цветок, – элегически пишет он Нейферу, – который однажды вместе с вазоном упал на улицу; вдребезги разбился вазон, ветки сломаны, корни поранены, и теперь, с трудом посаженный в свежую землю, он тщательным уходом едва спасен от увядания». Он сам знает о своей «хрупкости» – самая глубокая его суть может дышать только в идеальной поэтической атмосфере, в воображаемой Элладе. Никогда те или иные обстоятельства действительности, тот или иной дом – ни Вальтерсгаузен, ни Франкфурт, ни Гауптвюль – не были к нему особенно суровы, но это была действительность, а всякая действительность была для него трагична. «The world is too brutal for me»[27]27
«Мир слишком груб для меня» (англ.).
[Закрыть], – говорит однажды его брат Китс. Эти нежные души могли выносить лишь поэтическое существование.
И вот его поэтическое чувство непреодолимо стремится в этом кругу к одному-единственному образу, который он, несмотря на всю близость, ощущал в своих идеальных грезах как вестницу «иного мира»: это была мать его воспитанника, Сюзанна Гонтар, его Диотима. Действительно, облик этой немки, знакомый нам благодаря мраморному бюсту, сияет греческой чистотой линий; такою она представляется с первого мгновения и Гёльдерлину. «Гречанка, не правда ли?» – восторженно шепчет он Гегелю, посетившему его в ее доме: она вышла, грезит он, из его собственного неземного мира и, как он, пребывает чуждой среди черствых людей в горестной тоске по родине:
Ты терпишь молча, ибо понять тебя
Они не могут. Молча, потупившись,
В прекрасный день, увы! Напрасно
Ищешь ты близких в свете солнца…
Нежно-высоких душ не найти нигде.
Вестницей, сестрой, заблудившейся душой из другого, из его мира – такой представляется Гёльдерлину, святому мечтателю, жена его хозяина; но к глубокому чувству родства не примешивается помысел о чувственном обладании (всякое чувство у Гёльдерлина неудержимо уносится в высшую, в духовную сферу). Впервые в жизни он встречается с отражением идеала, когда-то чаянного или встреченного в других мирах. И в странной аналогии стихам Гёте к Шарлотте фон Штейн —
он приветствует Диотиму как желанную, как сестру в магическом предсуществовании:
Диотима, жизнь благая,
Искони сестра моя!
Рук к тебе не простирая,
Я вдали уж знал тебя.
Здесь его упоенная восторженность впервые встречает в раздробленном, порочном мире гармоничное создание, «все и одно»: «миловидность, и величие, и покой, и жизнь, и дух, и душа, и плоть составляют благостное единство в этом существе», и впервые в одном из писем Гёльдерлина, как звук органа, с беспредельной душевной силой гремит слово «счастье»: «Я все так же счастлив, как в первый миг. Это вечная, радостная, святая дружба с существом, которое случайно забрело в наше бездушное и беспорядочное столетие. Теперь мое чувство красоты ограждено от заблуждений. Ему служит маяком эта головка мадонны. Мой рассудок учится у нее, моя надорванная душа каждый час смягчается, просветляется в ее умиротворенном покое».
Вот в чем секрет необычайной власти этой женщины над Гёльдерлином: успокоение. Такой экстатической натуре, как Гёльдерлин, нет нужды учиться у женщины горению: счастье для его вечно пылающего духа – в разрядке напряжения, а возможность обрести покой – безмерное благодеяние. И эту благодать умиротворения дарит ему Диотима. Ей удалось то, что не удавалось ни Шиллеру, ни матери, ни единому человеку: гармонией она укрощает «таинственный дух беспокойства». Ее заботливо простертая рука, ее материнская нежность чувствуется в строках «Гипериона», угадываются ее старания привлечь к жизни этого смятенного, живущего в постоянных бурях юношу: «…советом и увещанием пыталась она сделать из меня спокойное и радостное существо, пробирая меня за беспорядочную прическу, поношенный костюм и обгрызанные ногти». Нежно охраняет она, будто нетерпеливое дитя, того, кто должен охранять ее детей, и в этом окружающем его и проникающем в его душу покое – блаженство Гёльдерлина. «Ты ведь знаешь, каким я был, – пишет он близкому другу, – знаешь, как я жил без веры, как скуп стал в своих чувствах и как поэтому был несчастен; мог ли я быть таким, каков я теперь, – радостным, как орел, – если бы мне не явилось оно, оно одно?» Более чистым и святым кажется ему мир, с тех пор как вопль его неслыханного одиночества претворился в гармонию.
Сердце ль не свято мое, жизнью прекрасной полно,
С той поры, как люблю?
На миг облако меланхолии покидает чело Гёльдерлина:
На миг смягчились
Горькой судьбы удары.
Один-единственный раз, именно в этот раз, его жизнь становится на краткий срок подобна его стихам, превращается в блаженное парение.
Но демон бодрствует в нем, его неотступная «ужасная тревога».
…Его покоя
Нежный цветок цветет недолго.
Гёльдерлин принадлежит к той породе людей, кому не суждено долго пребывать на одном месте. Даже любовь «успокаивает его лишь затем, чтобы сделать еще более мятежным», как говорит Диотима о его двойнике Гиперионе, и он, самый чуткий из всех, осененный духом магического предвидения, безотчетно чувствует, какой недуг нарастает в его душе. Он чувствует: им не дано вечно пребывать «вместе, как двум лебедям влюбленным», и в его «Просьбе о прощении» явственно слышится тайная скорбь, омрачающая его горизонт:
О святая душа! Мною нарушен был
Твой блаженный покой. Боль затаенную
Этой жизни страданья
От меня лишь узнала ты.
И незаметно назревает в нем «чудесное влечение к пропасти», таинственная тяга, которая ищет бездны: постепенно овладевает им лихорадка еще неосознанной неудовлетворенности. Все более мрачным кажется ему окружающая повседневность, и, как молния из нависших туч, сверкают из письма слова: «Я истерзан любовью и ненавистью». Его чувствительность оскорбляет пошлая роскошь дома, которая действует на окружающих, «как на крестьян молодое вино», его возбужденное чувство придумывает оскорбления, пока наконец (как и всякий раз впоследствии) не наступает зловещий взрыв. Что произошло в тот день: может быть, супруг, не поощрявший духовных интересов, связывавших его жену с домашним учителем, стал ревновать или даже грубо обошелся с ним – это остается тайной. Ясно только, что с этой минуты душа Гёльдерлина навсегда остается оскорбленной и уязвленной: словно хлынувшая кровь, льются сквозь стиснутые зубы строфы:
Коль с позором паду, коль не отмстит душа
Наглым, коль побежден сворой гонителей
Злобных гения буду,
Если в гроб я сойду, как трус,
То забудь обо мне, доброе сердце, и
От забвенья спасти имя мое не тщись.
Но он не сопротивляется, не защищается, как подобает мужчине: будто пойманный вор, он позволяет выгнать себя из дому и лишь в условленные дни тайно приезжает из Гамбурга для встречи с сохранившей верность возлюбленной. Мальчишески слабым, почти женским кажется поведение Гёльдерлина в этот решительный час: он пишет отнятой у него женщине восторженные письма, он воспевает ее как прекрасную невесту Гипериона и на исписанных листках украшает ее всеми гиперболами страсти, но не пытается в борьбе завоевать живое, близкое, любимое существо. В отличие от Шеллинга, от Шлегеля он не вырывает, презрев опасности и сплетни, любимую женщину из ненавистной постели, из рук постылого супруга, чтобы ввести ее в свою жизнь: никогда он, беззащитный, не спорит с судьбой, вечно он склоняется перед ее силой, заранее признает себя побежденным жизнью – «the world is too brutal for me». Трусостью и слабостью пришлось бы назвать это непротивление, если бы за этой покорностью не скрывалась большая гордость и спокойная мощь. Ибо это бесконечно уязвимое существо ощущает в себе нечто неуязвимое, некую сферу, недосягаемую, не загрязняемую грубым прикосновением мира. «Свобода – глубокое слово для того, кому это слово понятно. Я глубоко унижен, неслыханно оскорблен, лишен надежд, цели, лишен даже чести, и все же есть во мне сила несокрушимая, которая, пробуждаясь, всякий раз пронизывает мое тело сладким трепетом». И в этом слове, в этой славе – тайна Гёльдерлина: за хрупким, болезненным, неврастеническим бессилием его плоти таится высшая твердость духа – неуязвимость божества. Потому все земное, в сущности, не имеет силы над бессильным, потому все события проходят по невозмутимо ясному зеркалу его души, словно облака в предрассветном или предзакатном сумраке. Что бы ни случилось с Гёльдерлином, ничто не может захватить его всецело; так и Сюзанна Гонтар живет лишь в его мечтах, как эллинская мадонна, и исчезает, как мечта, которую он с болью в сердце оплакивает. Ребенок горше и мятежнее скорбит об отнятой игрушке, чем он об утрате возлюбленной: как покорно, как невесомо, как бескровно и безболезненно это прощание:
Я хочу умереть! В вечности встречусь я,
Диотима, с тобой. Но отцветет тогда
Страсть, и чужды друг другу
Будем в мире блаженном мы.
Даже то, что ему дороже всего, не задевает его за живое: события не имеют власти над Гёльдерлином, он всегда остается мечтателем, витающим в небесах фантастом. Ни обладание, ни утрата не затрагивают глубочайшей основы его жизни, отсюда неуязвимость гения при крайней впечатлительности человека. Для того, кто мог все потерять, все оборачивается прибылью; страдание очищается в его душе и становится творческой силой: «неизмеримые страдания выковывают неизмеримую мощь». В тот миг, когда «душа уязвлена», в унижении, наступает высший взлет его силы, пробуждается «мужество поэта», гордо отбрасывающее оружие самозащиты и бесстрашно переступающее порог судьбы:
Разве люди земли всей – не семья твоя?
Разве хлеба не даст Парка – раба твоя?
Что ж! Иди безоружный
Вдаль по жизни, отринув страх!
Все, что сбудется, пусть благо несет тебе!
Все, что исходит от людей, вся обида и скорбь не имеют власти над Гёльдерлином-человеком. Но судьбу, ниспосланную богами, его гений приемлет всем своим певучим сердцем.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































