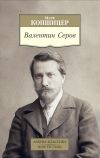Автор книги: Светлана Князева
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
СТАСОВ Владимир Васильевич

2(14).1.1824 – 10(23).10.1906
Художественный и музыкальный критик, публицист, историк искусства. Один из непримиримых оппонентов объединения «Мир искусства». Публикации в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Вестник Европы», «Библиотека для чтения» и др. Собрание сочинений (т. 1–4, СПб., 1894–1906).
«День своего рождения – 2 января – он праздновал обыкновенно в Публичной библиотеке, в отделении искусств и ремесел.
В эти дни библиотека для публики закрыта, и Стасов сидел у себя, окруженный лишь своими друзьями и знакомыми.
Я думаю, что библиотеку он считал своим домом. Так он сжился с нею за полвека службы. В его ведении находилось отделение искусств и ремесел. Это скопированное с французов соединение вещей несовместимых очень обременяло Стасова. Ему приходилось следить не только за художественными изданиями, книгами по истории искусства, но и за новостями технической литературы. Было курьезно видеть, как он разбирался в груде новых книг по сельскому хозяйству (!!) или паровозостроительству.
Библиотеку он любил страстно, и надо сказать, что она его любила тоже. Его зычный голос разносился по громадным, пустынным залам…
Стасов всегда был в суете, всегда куда-то торопился, с кем-то спорил. Резкость, даже грубость тона иногда раздражала его собеседников. Но это раздражение быстро проходило. Не хотелось сердиться на это доброе, наивное дитя. В конце концов, его жизнерадостность всегда заражала. Нельзя было не удивляться его огромной жизненной силе. Он „воевал“ до самой смерти.
Правда, война эта была не опасная, не истощающая: полемика с Бурениным, с М. М. Ивановым, издевательства над „декандентами“ занимали его в восемьдесят лет так же, как и в тридцать. Он любил, когда его выругают в „Нов[ом] времени“. Номер газеты с фельетоном носился по всей библиотеке.
„Я ему отвечу! Я этого, такого-сякого, проберу“, – слышались возгласы вечно юного полемиста. Когда в три часа отделения закрывались для публики, Стасов садился за работу и строчил „громоносную“ статью в „Новости“. На следующий день статья приносилась в бесчисленных экземплярах и раздавалась всем сослуживцам. И старику казалось, что он „сделал дело“, что он – неутомимый, не понятный толпе борец, что его фельетоны имеют и в ХХ в. то же значение, как когда-то, в половине XIX в. Его никто не разуверял в этом. Он жил в постоянной иллюзии, что он в самом центре жизни, что в нем, как в фокусе, соединяются все запросы современной русской культуры.
Он любил жизнь. Жил „вкусно“, „со смаком“, и это была самая симпатичная его черта. Ни чеховские будни 80-х годов, ни трагедия революции не нарушили его светлого, наивного оптимизма. Даже толстовское гонение на культуру и искусство его нисколько не смущало. Он дружил с Толстым, ездил довольно часто в Ясную Поляну и по возвращении оттуда пространно рассказывал, что он, Стасов, говорил Толстому. А что говорил Толстой Стасову, оставалось неизвестным.
Этот сохраненный до старости оптимизм, эта неизменная вера в себя объясняется, конечно, некоторой узостью умственного горизонта. Философского образования у Стасова не было. Никогда он не мучился никакими „проклятыми вопросами“. Его удовлетворяла элементарная, наивная философия „Бюхнера и Молешотта“. Предпосылок своего общедоступного материализма он никогда не пересматривал и безмятежно плыл по морю житейскому, радостно взирая на гребни волн» (Д. Философов. Стасов).

Владимир Стасов
«Его стихией, религией и богом было искусство, он всегда казался пьяным от любви к нему, и – бывало – слушая его торопливые, наскоро построенные речи, невольно думалось, что он предчувствует великие события в области творчества, что он стоит накануне создания каких-то крупных произведений литературы, музыки, живописи, всегда с трепетною радостью ребенка ждет светлого праздника.
Он говорил об искусстве так, как будто все оно было создано его предками по крови – прадедом, дедом, отцом, как будто искусство создают во всем мире его дети, а будут создавать – внуки, и казалось, что этот чудесный старик всегда и везде чувствует юным сердцем тайную работу человеческого духа – мир для него был мастерской, в которой люди пишут картины, строят музыку, высекают из мрамора прекрасные тела, создают величественные здания, и, право, порою мне казалось, что все, что он говорит, сливается у него в один жадный крик: „Скорее! Дайте взглянуть, пока я жив…“
Он верил в неиссякаемую энергию мирового творчества, и каждый час был для него моментом конца работы над одними вещами, моментом начала создания ряда других.
…Старость консервативна, это ее главное несчастье; В. В. многое „не мог принять“, но его отрицание исходило из любви, оно вызывалось ревностью. Ведь каждый из нас чего-то не понимает, все более или менее грешат торопливостью выводов, и никто не умеет любить будущее, хотя всем пора бы догадаться, что именно в нем скрыто наилучшее и величайшее.
Около В. В. всегда можно было встретить каких-то юных людей, и он постоянно, с некоей таинственностью в голосе, рекомендовал их как великих поэтов, музыкантов, художников и скульпторов – в будущем. Мне кажется, что такие юноши окружали его на протяжении всей жизни; известно, что не одного из них он ввел в храм искусства…
Седой ребенок большого роста, с большим и чутким сердцем, он много видел, много знал, он любил жизнь и возбуждал любовь к ней.
Искусство создает тоска по красоте; неутолимое желание прекрасного порою принимает характер безумия, но, – когда страсть бессильна, – она кажется людям смешной. Много в исканиях современных художников было чуждо В. В., непонятно, казалось ему уродливым, он волновался, сердился, отрицал. Но для меня в его отрицаниях горело пламя великой любви к прекрасному, и, не мешая видеть печальную красоту уродливого, оно освещало грустную драму современного творчества – обилие желаний и ничтожество сил» (М. Горький. Литературные портреты).

Владимир Стасов
«Балетмейстером я сделался неожиданно для самого себя.
Опишу, как это случилось.
…Пошел в Публичную библиотеку. Стал выбирать книги. Что ни спрошу, говорят: „Этого не выдаем. Это в отделении“. Пошел в „отделение“. Подал список. Жду. Долго нет ответа. Наконец выходит служащий, говорит: „Вас директор просит к себе в кабинет“. Струхнул. Боюсь инспекторов и директоров. Вхожу в кабинет. Выходит ко мне старец. Большая белая борода. Сам высокий. Внешность патриарха. Ему было за 80 лет.
– Кто вы, молодой человек? – говорит. – Что это вы все о греческом танце и вазовой живописи книги выбираете?
Я объяснил, что хочу поставить балет в греческом стиле. Я учитель танцев. Артист балета.
– Очень рад. Первого балетного артиста вижу. Никто к нам не приходил из ваших товарищей.
И он начал показывать мне книгу за книгой. Чудные, редкие издания. Громадные фолианты с дивными рисунками сам выносил и клал передо мной. Мне, мальчику, было неловко, что такой старик затрудняется. Он же, видимо, получал удовольствие, выкладывая богатства, на которые, вероятно, немного было спроса.
…Когда я, счастливый, пошел домой и, выходя из библиотеки, спросил, как фамилия директора, я узнал, что это В. В. Стасов. Стасов – художественный и музыкальный критик, друг величайших композиторов того времени, имевший большое влияние на развитие русского искусства. Какой большой человек и какой простой, милый!» (М. Фокин. Против течения).
СТАХОВИЧ Алексей Александрович
21(?).1.1856 – 11.3.1919
Пайщик МХТ, актер. Адресат лирического цикла М. Цветаевой «Памяти А. А. Стаховича». Покончил с собой.
«Очень высокий рост… гибкая прямизна, цвет костюма, глаз, волос – среднее между сталью и пеплом. Помню веки, из породы тяжелых, редко дораскрывающихся. Веки природно-высокомерные. Горбатый нос. Безупречный овал» (М. Цветаева. Смерть Стаховича).
«Не будучи ни титулованным, ни особенно родовитым, он был членом самого наивысшего петербургского общества, в 80-е годы окончил Пажеский корпус и был выпущен в лейб-гвардии конный полк. Конногвардейцем он военной карьеры не сделал, но светскую карьеру сделал блестящую. В конце 90-х годов он был флигель-адъютантом и адъютантом московского генерал-губернатора. Живя в Москве, он увлекся Художественным театром, стал его другом, пайщиком, членом его правления, а затем, еще задолго до революции, сравнительно не старым человеком (пятидесяти с чем-то лет) бросил военную службу, вышел в отставку и поступил актером в Художественный театр.
…Он очень дружил с Константином Сергеевичем [Станиславским. – Сост.], был с ним даже на „ты“. (Это было, кажется, единственное „ты“ Константина Сергеевича, кроме родственников и Ф. И. Шаляпина.) Константин Сергеевич ценил его бескорыстную преданность театру и ему лично, вернее, ему как учителю. Ценил его безукоризненную светскость и тактичность, его действительно хороший тон, так не похожий на „бонтон“ изысканно воспитанной буржуазии. В отношении манер, тона, правил поведения он был истинным „arbiter elegantiarum“ [лат. образец изысканного вкуса. – Сост.] Художественного театра.
…Как актер Стахович был… вернее, он просто не был актером. Это была маска аристократа, живое амплуа. Лучше всего он играл Степана Верховенского в „Николае Ставрогине“ – там он был самим собой. В Репетилове он был тем же Стаховичем. В Дон Карлосе („Каменный гость“) он был ужасен – вялый барин, петербургский лев, а не сжигаемый пламенем любви и ненависти испанский гранд» (В. Шверубович. О старом Художественном театре).
«Я сразу же был очарован Алексеем Александровичем Стаховичем. Как актер он появился в театре в 1910 г., когда сыграл князя Абрезкова в „Живом трупе“, но давно был другом Художественного театра. Тогда он только что вышел в отставку из свитских генералов и стал 3-им директором театра. Шутники говорили, что его пригласили, чтобы „полировать“ актеров и учить их светским манерам. Алексей Александрович был одним из самых замечательных шармеров, каких мне приходилось встречать в жизни, был „барин“ с головы до ног и прост и ровен со всеми. Я часто видел, как он, сидя в буфете с каким-нибудь скромным „сотрудником“, весь наклонялся к нему, держа ладонь возле уха, и выслушивал его, полный внимания и участия… Он бывал душой собраний у Станиславского и рассказчик был талантливейший. Помню его еще с бородой – таким и с моноклем в руке он и запечатлен на портрете Серова. Когда он по-актерски побрился, – со своим орлиным носом, черными бровями и круглым лицом он стал совершенный римлянин. Его всегда вспоминаю с необыкновенно тоненькой папироской» (М. Добужинский. Воспоминания).
«При всей его доброте и отзывчивости, иногда просыпался в нем крепостник, и даже не по линии жестокости, а по линии издевательства. Например, каждое утро спрашивает своего лакея, как он провел ночь со своей женой. А то, неизвестно почему, заставил буфетного мальчишку выучить монолог Отелло перед сенатом, и тот, вытянув руки по швам, одним духом, без остановок протрещал весь монолог.
Был у него лакей, которого он взял из полка, бывший его денщик. Так с ним он изъяснялся по-французски.
Но, несмотря на все дурачества, он понимал и чувствовал, что, как говорится в „Трех сестрах“ Чехова: „надвигается на всех нас громада, готовится здоровая сильная буря, которая идет, уже близка“. Поэтому при каждой встрече с крестьянами первый снимал шляпу и отвешивал поклон. „Еще неизвестно, что нас ожидает“, – говорил он. Где-то глубоко, на самом дне сердца, совесть грызла. Он понимал все несоответствие между деревней и барами. В революцию он очень растерялся» (Л. Леонидов. Прошлое и настоящее).
«Он стал человеком, для которого понемногу все сомкнулось на его собственном „я“, а что не было в нем, то или падало в грязь вокруг него, или уходило так далеко, что утрачивало всякую с ним связь. Страшная была пустота вокруг него, и в этом одиночестве, между опустевшей землей и небом, которое, кажется, всегда было для него пусто, он стоял как высокомерный страдалец, презрительный судья. Презренья – вот чего больше всего в его самоубийстве; а затем – хладнокровной обдуманности. …Его смерть совсем была лишена того характера отчаяния, которым всегда отмечено самоубийство; он был в самоубийстве аристократичен еще больше, чем в жизни; он ушел из жизни, как человек уходит из комнаты, в которой не хочет оставаться, из комнаты, в которой дурно пахнет… Через пятнадцать месяцев после его смерти приходили на его квартиру, чтобы его арестовать…
Стахович был талантливой натурой в том смысле, что чувствовал искусство, но он не был выдающимся актером. Его родовитость, его осанка, конечно, вносили на сцену то, чего на ней было так мало и чего будет все меньше; но он был лишь материал, необработанный; он начал слишком поздно; он не имел никаких технических основ. Впрочем, кто же их у нас имеет? Между тем он отлично схватывал технические приемы, когда их знал или улавливал. Его „речь генерала Дитятина“ (по приемам Горбунова) и его чтение французских стихов (с подражанием шаблону французского декламатора) изобличали тонкое ухо, уменье улавливать и способность к точному осуществлению задуманного. …Я думаю, что в хороших руках и с более раннего возраста Стахович мог бы вырасти в прекрасного актера; он мог бы стать типом, утвердить школу, если бы театральная работа охватила его сильнее в том возрасте и в том настроении, когда человек хочет войти в жизнь, а не выходить из нее. Этих скрытых его способностей окружающие люди театра не замечали; я думаю, и не догадывались о них. Он был страшно одинок в Художественном театре, где занимал видное место в управлении и где так расточал свою приветливую обходительность» (С. Волконский. Мои воспоминания).
СТЕЛЛЕЦКИЙ Дмитрий Семенович
1(13).1.1875 – 12.2.1947
Живописец, скульптор, график, театральный художник, близкий к кругу «Мира искусства». Иллюстрации к «Слову о полку Игореве» (1900–1906), скульптурные работы «Леонардо да Винчи» (1906), «Знатная боярыня» (1910). С 1914 – за границей.
«Русскому народу подобает иметь свое искусство. С годами я понял, что, только изучая художественное наследие наших предков, и даже сначала рабски ему подражая, можно и нужно воскресить свою русскую, родную красоту. Понятно, не исключается необходимость знать, что делали и делают иноземцы и каково было их влияние на расцвет нашего искусства, так варварски задушенного в XVIII веке и так презираемого почти до наших дней. Я знаю, что мое влечение к русской красоте было врождено во мне, а не воспитано» (Д. Стеллецкий. Описание моей жизни).
«Я не могу причислить Димитрия Семеновича к моим близким друзьям, однако я все же чрезвычайно ценил его (и продолжаю ценить) как художника, и я же не мог подчас не любоваться его чудачествами, редкой независимостью его характера и его какой-то неуступчивой художественной честностью. Уж не раз я признавался на этих страницах в своей чуждости к разным проявлениям националистического начала, в чем я почти всегда угадывал какую-то фальшь. Но вот Стеллецкому, его фанатическому поклонению всему древнерусскому я как-то поверил, и отсюда объясняется мое сочувствие к его попытке это древнерусское возродить в согласии с каким-то свободным, вдохновенным его пониманием. Начав свою художественно-творческую деятельность с раскрашенной скульптуры, он в дальнейшем целиком перешел на живопись, причем он с годами успел выработать свой совершенно своеобразный (и все же покоящийся на проникновенном знакомстве с древними отечественными памятниками) стиль. Особенно ему удавались работы графического характера. Так, бесподобен его „стилистический шедевр“ – иллюстрации к „Слову о полку Игореве“, существующий в двух редакциях. За последние годы его потянуло и к театру. Ему же принадлежала сложная постановка „Царя Федора Иоанновича“ (особенно хороши были бесчисленные костюмы, исключительной красоты был подбор суровых красок), однако самый спектакль откладывался благодаря разным интригам (Стеллецкий был мастер вызывать таковые). Крупенский, который сначала было увлекся искусством Стеллецкого, ручался, что он теперь эту постановку осуществит. Род дружбы, завязавшийся между театральным сановником и чудаком-художником, переживал к моменту моего возвращения [лето 1907. – Сост.] какой-то бурный период. Крупенский и Стеллецкий почти не расставались, и их можно было видеть чуть ли не ежедневно на „Островах“, куда их доставляла великолепная пара вороных. Веселье обоих при этом доходило до того, что, сидя в открытом экипаже, они всячески фиглярничали, мало того – показывали встречным языки и делали им „длинные носы“. Зачинщиком был несомненно Стеллецкий, в котором часто проявлялось скоморошное начало все в том же „древнерусском стиле“, но как он мог заразить таким баловством своего великолепного и важного „начальника“, – это остается необъяснимым! Во всяком случае, дружба и баловство пришли скоро к концу, а постановка „Царя Федора“ была снова отложена. Увидела она свет рампы – и то частично – уже после революции, но вовсе не в драме А. К. Толстого, а в опере Мусоргского „Хованщина“. Прелестны были и глубоко поэтичны декорации Стеллецкого к „Снегурочке“, но и они дальше эскизов не пошли» (А. Бенуа. Мои воспоминания).
СТЕНИЧ Валентин Осипович (Иосифович)
наст. фам. Сметанич;
8(20).11.1897 – 21.9.1938
Критик, поэт, переводчик. Переводы произведений Г. К. Честертона («Жив человек», 1924), Ж. Дюамеля («Тигры и утехи», 1925), У. Локка («Мориус и К°», 1925–1926), Р. Киплинга («Отважные мореплаватели», 1930), Дж. Дос Пассоса («42-я параллель», 1931), Ш. Андерсона («Смерть в лесу», 1934), Дж. Джойса («Похороны Патрика Дагнэма», 1934), Дж. Свифта («Путешествие в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера…», пер. и обработ. для детей, 1935) и др. Герой очерка А. Блока «Русские дэнди» (1918). Погиб в ГУЛАГе.
«Молодой человек, совершенно не жеманясь, стал читать что-то под названием „Танго“. Слов там не было, не было и звуков; если бы я не видел лица молодого человека, я не стал бы слушать его стихов, представлявших популярную смесь футуристических восклицаний с символическими шепотами. Но по простому и серьезному лицу читавшего я видел, что ему не надо никакой популярности и что есть, очевидно, десять – двадцать человек, которые ценят и знают его стихи. В нем не было ничего поддельного и кривляющегося, несмотря на то что все слова стихов, которые он произносил, были поддельные и кривляющиеся.
…Когда мы вышли… нам с молодым человеком было не по пути, но он пошел провожать меня, с тем чтобы рассказать мне таким же простым и спокойным тоном следующее:
– Все мы – дрянь, кость от кости, плоть от плоти буржуазии.
Во мне дрогнул ответ, но я промолчал.
Он продолжал равнодушно:
– Я слишком образован, чтобы не понимать, что так дальше продолжаться не может и что буржуазия будет уничтожена. Но если осуществится социализм, нам останется только умереть: пока мы не имеем понятия о деньгах; мы все обеспечены и совершенно не приспособлены к тому, чтобы добывать что-нибудь трудом. Все мы – наркоманы, опиисты; женщины наши – нимфоманки. Нас – меньшинство, но мы пока распоряжаемся среди молодежи: мы высмеиваем тех, кто интересуется социализмом, работой, революцией. Мы живем только стихами; в последние пять лет я не пропустил ни одного сборника. Мы знаем всех наизусть – Сологуба, Бальмонта, Игоря Северянина, Маяковского, но все это уже пресно; все это кончено; теперь, кажется, будет мода на Эренбурга.
Молодой человек стал читать наизусть десятки стихов современных поэтов. Дул сильный ветер, был мороз, не было ни одного фонаря. Мне было холодно, я ускорил шаги, он также ускорил, на быстром шагу против ветра он все так же ровно читал стихи, ничем друг с другом не связанные, кроме той страшной, опустошающей душу эпохи, в которую они были созданы.
– Неужели вас не интересует ничего, кроме стихов? – почти непроизвольно спросил наконец я.
Молодой человек откликнулся как эхо:
– Нас ничего не интересует, кроме стихов. Ведь мы – пустые, совершенно пустые» (А. Блок. Русские дэнди. 1918).
«Я хорошо знал этого молодого человека, о котором Блок рассказывает в своей статье. В течение многих лет он был моим ближайшим другом. Звали его – Валентин Иосифович Стенич.
…Он благоговел перед Блоком, знал все им написанное наизусть – все три тома стихотворений, и поэмы, и пьесы. Для него Блок был гений, и притом из всех гениев человечества – наиболее близкий ему душевно; когда он читал кому-нибудь стихи Блока, он поминутно снимал очки, чтобы вытереть слезы. Встреча с Блоком была для него грандиозным событием. Тем, что Блок написал об этой встрече целую статью, он гордился до последнего своего дня.
– Все-таки мне удалось его обмануть! – восклицал он восторженно.
Конечно, вначале он надеялся не обмануть Блока, а восхитить. И начал он с того, что стал читать Блоку свои стихи. Но сразу почувствовал, что совершил ложный шаг – стихи Блоку не понравились. …Почувствовав, что восхитить Блока он не в состоянии, он решил его хотя бы поразить. И это ему удалось, – но с помощью обмана.
Обман заключался в том, что он представил Блоку вместо себя вымышленный образ, не имевший почти ничего общего с реально существовавшим Стеничем. Он сказал: „Если осуществится социализм, нам остается только умереть“. А между тем он был яростным сторонником социализма и через месяц после разговора с Блоком вступил в большевистскую партию и уехал на фронт на Украину. Он сказал: „Все мы наркоманы, опиисты“. А между тем он никогда в жизни не употреблял никаких наркотиков и даже к спиртным напиткам прибегал редко. Он страстно любил стихи, но вовсе не стихи Бальмонта или Эренбурга. И неправда, что он любил только стихи, – он жадно и деятельно интересовался всем, что происходило вокруг него, и любил лишь такие стихи, в которых отражалась жизнь. Из старых поэтов он любил Пушкина, – он мог прочесть наизусть всего „Евгения Онегина“, ни разу не сбившись, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Полонского – т. е. тех самых, которых любил Блок. Из поэтов начала XX века он выше всего ставил Блока и любил – впрочем, значительно меньше – Сологуба, Ахматову, Маяковского, Мандельштама.
…Обман этот полностью удался. Он удался потому, что предложенный Блоку вымышленный образ чрезвычайно Блока взволновал и растревожил.
…Для такого обмана нужен был большой ум. И дар понимания чужой души, даже самой сложной. Этим даром Стенич обладал в высшей степени. И человек был редкостно умный.
…Он был блистательно и тонко остроумен, но передать его остроумие невозможно, потому что заключалось оно не столько в слове, сколько в жесте, в интонации и всегда было приурочено к мгновению, к неповторимому сплетению характеров и обстоятельств. Некоторые его остроты разрастались до размера целых новелл или мифов – с вымышленными персонажами, которые действовали в течение многих месяцев и всякий раз – к случаю.
…Этот неистощимый весельчак был очень грустный человек по натуре. Эта грусть вызывалась постоянным недовольством собой, – именно недовольством самим собой, а не внешними формами своей жизни. К внешним формам жизни – к бедности своей, к отсутствию славы – был он, в сущности, почти безразличен. С полным правом он говорил про себя словами Маяковского: „И кроме свежевымытой сорочки, сказать по совести, мне ничего не надо“. А сорочки у него всегда были чистейшие. Безошибочно, как никто, умел он выбрать себе галстук, и любой пиджак сидел на нем так, словно сшит у лучшего портного. Он был одним из элегантнейших мужчин своего времени, не затрачивая на то ни особых усилий, ни средств. Он никогда не имел прочной семьи, не увлекался картами, не пьянствовал и удовлетворялся очень малым, не чувствуя себя ущемленным. Главный источник недовольства собой лежал в другом. Он не мог представить для себя никакой деятельности, кроме литературы. А из литературных его попыток очень долго ничего не получалось, – ничего такого, чем бы он мог быть доволен сам» (Н. Чуковский. Литературные воспоминания).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!