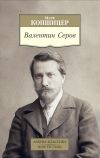Автор книги: Светлана Князева
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
САКУЛИН Павел Николаевич
1(13).9.1868 – 7.9.1930
Литературовед. Один из основателей журнала «Голос минувшего». Публикации в журналах «Вестник Европы», «Голос минувшего», «Вестник воспитания», «Современник», «Курьер», «Век» и др. Исследования «Первобытная поэзия (в связи с вопросом о процессе народно-поэтического творчества)» (М., 1905), «Н. Н. Пирогов как педагог» (М., 1907), «Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский. Писатель. Мыслитель» (М., 1913), «В. А. Жуковский» (Пг., 1915) и др.
«Профессор Сакулин словно сошел с иконы суздальского письма. У него длинные прямые волосы, длинная борода и всепрощающие глаза. Свои книги он пишет для великого русского народа, который его не читает. Его лекции, посещаемые преимущественно барышнями из хороших семейств, это не лекции, а служение во храме литературы» (А. Мариенгоф. Мой век, мои друзья и подруги).
«Я очень любил этого мудрого, бесконечно много знающего в русской литературе человека. Он как бы воплощал лучшие университетские традиции. …Организованный им при университете литературный кружок работал интенсивно, отнюдь не замыкаясь только на исторических темах: большое место в нем занимала современная поэзия, затрагивались самые различные проблемы.
…Мне нравились вечерние сборища за чайным столом, которые Сакулин устраивал еженедельно в своей квартире и на которых он с удивительным вниманием объединял молодых ученых и кончающих студентов. За чаем происходили горячие споры, и я, как молодой петушок, лез в споры с „самим“ Переверзевым, тогда уже показавшим качества крупного ученого. Сакулин проявлял терпимость опытного учителя к высказываниям, но направлял их незаметно в нужную сторону. Весь его облик – типично профессорский, с красивой окладистой бородой и длинными волосами, зачастую в длинном сюртуке, внушительный и одновременно легкий и спокойный – очень нам импонировал. Как ученый он в это время искал новый социологический подход к литературе, внося в изучение литературы XIX века, в ее пласты: и творчество мещанских низов, и народную словесность, и т. д. Читал он лекции образно и с великолепным знанием предмета» (П. Марков. Книга воспоминаний).
«По временам мы встречаем бывших военных, для которых служба была больше, чем временным занятием; старых профессоров, всходивших на кафедру тогда, когда с кафедры можно было импонировать, профессоров со звучным голосом, бородой и комплекцией (Сакулин) – и их прекрасные движения кажутся нам занимательными и нарочными» (Л. Гинзбург. Из записей 1928 г.).
САНИН Александр Акимович
наст. фам. Шенберг;
1869 – 8.5.1956
Драматический актер и режиссер. Режиссер МХТ (1893–1902, 1917–1919), Александринского (1902–1907), Свободного и Малого театров (1919–1921). После 1921 – за границей.
«Видную роль в Свободном театре играл также А. А. Санин, который пользовался популярностью большого режиссера. Правда, эта популярность распространялась, главным образом, на оперные предприятия, потому что Санин был большим специалистом по части постановки массовых сцен. Так, в его постановке „Сорочинской ярмарки“ в сцене самой ярмарки участвовало не то сто десять, не то сто двадцать человек. Это был молодой хор, разбавленный значительной группой статистов.
Как работал Санин со всей этой массой?
Прежде всего, уже на второй репетиции он точно знал по фамилии каждого участника громадной массовки. На третий или на четвертый день он называл всех по имени и отчеству, а еще через два-три дня появлялись уже уменьшительные имена – Петя, Маня, Катя, Жорж… Это так действовало на молодых людей, что они готовы были сделать все, даже невозможное для себя, чтобы заслужить свое уменьшительное имя от Санина.
Иногда Санин прибегал также к таким трюкам. Вдруг во время репетиции ярмарки он бежит из партера на сцену, хватает кого-то из массы и обнимает его.
– Петя, спасибо тебе, милый, за то художественное наслаждение, которое ты мне сейчас доставил! Ведь ты даже сам не понимаешь, как великолепно ты повернулся в этот момент к Кате! Я очень прошу тебя этот поворот непременно зафиксировать!
Вы можете себе представить, как этот „Петя“ на всех дальнейших репетициях старался воспроизвести то, что вызвало такую похвалу режиссера, и как все его товарищи тоже старались непременно заслужить похвалу! Втайне каждый из них, может быть, думал: „А не остановит ли он сегодня репетицию и не похвалит ли меня?“
…Но у Санина были еще другие весьма любопытные особенности. Так, например, „Сорочинскую ярмарку“ в его постановке я играл в течение сезона пятьдесят раз, и на каждый спектакль Санин приезжал за полтора часа до начала спектакля, надевал поверх своего пиджака халат, шел на сцену, и здесь при нем, под его наблюдением, ставились декорации. Малейшее отступление от монтировки, малейшая небрежность сейчас же им замечались и тут же исправлялись по его настоянию. В этом халате Санин оставался до конца спектакля, так как следил за ним, проделывая все то, что обычно делают в театре помощники режиссера.
Санин великолепно знал натуру актера. Он знал, что если в зрительном зале сидит хоть один человек, выделяющийся для актера из толпы, например, его близкий знакомый или человек, мнением которого он дорожит, то актер будет играть лучше, чем он играл бы перед переполненным, но „анонимным“ залом. Поэтому у Санина в течение всех пятидесяти спектаклей непременно для нас, актеров, в партере кто-то „сидел“: то это был Горький, то Станиславский, то Ермолова, то Леонид Андреев, то Верхарн, то какие-то американские журналисты или „виднейшие европейские критики“. Очень скоро мы поняли, что все это – импровизации или выдумки, но результатов Санин этим все-таки достигал; мы старались играть как можно лучше.
…Присутствие Санина на спектакле за кулисами всегда играло роль сдерживающего начала для участвующих. Он не позволял актерам распускаться. Если он замечал в спектакле грешки какого-нибудь актера, он приходил к нему в уборную и говорил:
– Дорогой мой друг, ты сегодня что-то играл не так, как прошлый раз. В чем дело? Тебе нездоровится или что-нибудь тебе помешало?
Провинившийся актер надолго запоминал этот визит Санина. …Работать с ним было большим наслаждением; работалось легко и очень продуктивно» (Н. Монахов. Повесть о жизни).
САПУНОВ Николай Николаевич
17(29).12.1880 – 14(27).6.1912
Живописец, театральный художник. Ученик К. Коровина. Один из основателей группы «Голубая роза». Участник выставок объединения «Мир искусства». Работы в театре В. Комиссаржевской «Гедда Габлер», «Балаганчик», в «Доме интермедии» «Шарф Коломбины», «Голландка Лиза», в театре К. Незлобина «Возвращение Одиссея», «Принцесса Турандот», «Мещанин во дворянстве». Приятель А. Блока. Утонул в Финском заливе.
«Как месяц, сквозной меланхолик, чуть сонный, склоненный, как сломанный, – бледно немел Сапунов, вид имея такой, что вот-вот опустится в волны плечей и шелков, над которыми встал он» (Андрей Белый. Между двух революций).
«Сапунов вел очень „рассеянную“ жизнь. Много пил и кутил и страдал от этого – по Достоевскому. Нисколько не хочу сказать, что художник следовал литературным образцам в своей жизни. А только то, что жизнь его было бы под силу описать Достоевскому, и, пожалуй, великий романист от этого бы не отказался» (В. Пяст. Воспоминания о Блоке).
«На набережной Васильевского острова, там, где всегда было много всяких кораблей, кажется, у 20-й линии, стоял маленький отель-особняк, не то голландского, не то норвежского стиля; там и жил постоянно Сапунов, занимая квадратную, не очень большую, но светлую комнату, из окна которой виднелись мачты и трубы кораблей. Почти никакой мебели в комнате Сапунова не было; но по стенам и по красному, крашеному полу были развешаны и разбросаны полотнища его произведений.
Вещи, которые писал Сапунов, поражали, прежде всего, замечательными тонами его красок: в них чувствовалось чудесное старое мастерство, словно одухотворенное дыханием утонченной современности. Особенно удавались Сапунову всякие карнавальные изображения из области тех же театральных масок, так пьянивших тогда современников.
Вот уж, поистине, можно сказать о Сапунове, что это был фантаст сверх всякой меры и в искусстве, и в жизни. У этого человека не было часов, отличных между днем и ночью; он знал только одни часы – глубокого, скрытого в себе творческого напряжения, от которого он освобождался только тогда, когда оно пресекалось, причем случалось ли это днем или ночью, – для Сапунова было не важно… Как он жил, что он делал – об этом почти никто ничего не знал, ибо Сапунов на этот счет был очень скрытен – и не из жадности, скупости или вражды к людям, а просто, как мне кажется, в силу владевшей им исключительной стихийности, которую он прятал под очень большой выдержкой и редко перед кем обнаруживал.
Теперь картины Сапунова и все его эскизы к различным театральным постановкам и костюмам являются большой ценностью и редкостью; но и тогда они очень ценились, потому что Сапунову совершенно чужда была способность спекулировать своим мастерством и талантом; он чрезвычайно редко, с большим выбором и капризно, брался за ту или иную работу, и то только тогда, когда его действительно что-либо захватывало и увлекало до конца. Заманить же Сапунова на работу просто ради выгоды было почти невозможно, хотя многие и пытались это делать. В богеме же он был щедр, как никто, разбрасывал свои дары с безумной расточительностью, но и здесь был строг и разборчив и, как никто, обладал изумительным чутьем отличать золото от мишуры.
Все это в целом привлекало к Сапунову, и в памяти многих он до сих пор живет как один из самых увлекательных, настоящих, богато одаренных художников.
…Сапунов, как многие большие художники, особенно кисти, не любил очень много убеждать; несмотря на то что он был сам по себе прекрасный рассказчик, во многих случаях он предпочитал молчание всему. Но в своем молчании Сапунов, надо сказать, знал и видел все. От его пытливого взора ничто не ускользало. Им он словно разоблачал всего человека до конца и умел замечательно отличать фальшивое от настоящего. Подобных взоров, подобной пытливости, разумеется, не все выносят. Ко всему тому, Сапунов всем своим существом вносил немало беспокойства всюду, где бы ни появлялся… Стихия была истинным его призванием, а не одной лишь преемственностью и случайным ее увлечением. Недаром и в его внешности было что-то от стихии, от глубокого востока, что-то суровое, азиатское, татарское; он был коренаст, сравнительно небольшого роста, с лицом слегка скуластым и упрямым, словно высвеченным крепким резцом, как все татарские лица. „Сапун“ – настоящее древнетатарское слово, и оно корнем сидело в нем» (А. Мгебров. Жизнь в театре).
«Он был очень строг в суждениях о людях, особенно о людях, не имеющих непосредственного отношения к искусству, но от которых это последнее материально зависело, т. е. антрепренерам, директорам театров, редакторам художественных журналов, устроителям выставок и тому подобных. Но лишь стоило ему узнать, почувствовать, что при помощи этих людей, которых он только что поносил всячески, он может участвовать в деле с своею работою, он тотчас охотно соглашался, нисколько не поступаясь своими замыслами, но и не меняя своего мнения о данных личностях. Так что нужно только удивляться, как мало у него было столкновений с его, так сказать, заказчиками, которых отнюдь не щадили его насмешливость и презрительность. На работу он был очень жаден и даже ревнив, почти независимо от того, вполне ли она была ему по душе. Он был вполне театральный человек, то есть тип настоящего художника, актера – скорее уличного или площадного, который, с детства практически овладев своим искусством, относится уже безразлично к тому, где его применять: в цирке, в церкви так в церкви, на площади, в маленькой комнате, где угодно.
…Он работал всегда запоем и нерегулярно, проводя день и ночь в мастерской, – другое же время так любил болтаться, что, раз выйдя из дому, он не любил возвращаться раньше следующего дня. Ходить с ним по улицам или бывать где-либо с ним было истинным удовольствием, так как все: и дома, и витрины магазинов, и проходящие люди, – все останавливало на себе его глаз художника и вызывало неистощимые замечания прирожденного юмориста.
Жил Николай Николаевич все это время на далекой линии Васильевского острова в одном и том же доме, переменив только мастерскую. Хотя нельзя сказать, чтобы он получал мало за постановки и за картины, но как-то так странно распоряжался деньгами, что очень часто нуждался и вел жизнь „артистической богемы“, чем, впрочем, не особенно тяготился. Жил он крайне одиноко, прислуживал ему приходящий человек, так что, когда однажды ему случилось заболеть внезапно, он только на третий день едва мог встать, чтобы отворить на звонки пришедших друзей. Я редко видел такой беспорядок, как в мастерской Николая Николаевича, и в Москве, где он жил вместе с Араповым в доме Перцова, обстановка была приблизительно такая же. Несмотря на то что Сапунов покупал разные старинные вещи и даже мебель, они не меняли впечатления запущенности и неуютности, которая, конечно, не располагала хозяина проводить вечера дома, оттого если он не был занят всю ночь в декоративной мастерской или в каком-нибудь из театров, то или уезжал в ресторан, или ложился спать чуть не с восьми часов вечера. Николай Николаевич редко ходил в Петрограде по знакомым домам, и я совсем не знаю, был ли у него какой-нибудь определенный роман или романы. Встречи – да! Но определенного, длительного или хотя кратковременного романа – нет. Это последнее обстоятельство давало ему большую свободу, независимость, но и большее одиночество, и какую-то строгость.
Нужно заметить, что… из суеверия ли или по скрытности характера – не любил делиться своими практическими планами раньше их выполнения. Это доходило даже до мелочей: он никогда не говорил определенно, куда он идет, где пропадает (иногда по нескольку дней), обычные ответы были: „Иду по одному делу“, „Был в одном месте“. Когда же случайно кто-нибудь узнавал об его намерениях, он просил не говорить никому до поры до времени, чтобы „не было толков“. Тут была и несообщительность замкнутого характера, и приметы игрока (каким в душе был Н. Сапунов), и осторожность дельца, боящегося, чтобы другие не напортили ему, не перебили, не перехватили, не наговорили. Я не знаю, играл ли Николай Николаевич в клубах, но я был свидетелем, что целую ночь напролет он мог проводить за азартной игрой с двумя-тремя приятелями, детски волнуясь и ажитируясь.
Я думаю, что все знававшие покойного помнят его веру в приметы, серых лошадей, счастливые дни и числа и т. п., так же как и его влечение ко всякого рода гаданиям и предсказаниям. Ему неоднократно было предсказываемо, что он потонет, и он до такой степени верил этому, что даже остерегался переезжать через Неву на пароходике, так что нужно только удивляться действительно какому-то роковому минутному затмению, которое побудило его добровольно, по собственному почину, забыв все страхи, отправиться в ту морскую прогулку, так печально и непоправимо оправдавшую предсказание гадалок. Перед выставками он также волновался не только естественным волнением художника, выставляющего свои произведения, но и внося сюда опять суеверные приметы насчет того, будет ли иметь успех, купится ли в музей, продастся ли вообще то или это. Энергично и сознательно развивая свою индивидуальность, он сердился, когда его путали с кем-нибудь из товарищей или даже вообще причисляли к какой-либо группе, и это была не столько профессиональная ревность, сколько желание сохранить за собой право на свое особое мнение, которое действительно было всегда почти особым, по крайней мере, в смысле художественных оценок. Колорист по природе, Сапунов не любил петроградского графико-литературного искусства, но вместе с тем не доверял и молодежи из „Ослиных хвостов“ и „Бубновых валетов“. В прошлом его любимцами были Тинторетто и Бронзино» (М. Кузмин. Сапунов).
«Смерть на воде была предсказана Сапунову какой-то цыганкой, и он всегда боялся воды. Говорят, его последними словами, когда он вынырнул на минуту, были: „Самое ужасное, что я не умею плавать!“ Смерть Сапунова произвела удручающее впечатление на всех, знавших этого оригинального человека.
Мне живо вспоминается его щеголеватая фигура, его бородка, палка с набалдашником, его „словечки“. Он умел остро и сжато оценивать художественные произведения. Его любимым словечком было – „низóк“. О всяком „сомнительном“ произведении искусства он говорил кратко: „это – низóк“.
В живописи Сапунова есть что-то странно обаятельное, что-то такое, что было в нем самом» (А. Головин. Встречи и впечатления).
САРЬЯН Мартирос Сергеевич
16(28).2.1880 – 5.5.1972
Живописец, театральный художник, педагог. Член группы «Голубая роза». Участник выставок «Голубая роза», «Мир искусства», «Четыре искусства», «Союза русских художников».
«Помню Сарьяна, который, вниз свесивши черные усики, мрачно ходил и рассеянно, сухо совал свою руку, не глядя, кому он сует; был – зеленый, худой, пожираемый думой; когда морщил лоб, брови сращивались; и не знал я тогда: через двадцать лет с лишним Сарьян, – пополневший, усталый, – Армению с добротой приоткроет» (Андрей Белый. Между двух революций).
«Мартирос Сергеевич был всегда и со всеми прост и приветлив, но сдержан. Он вообще был молчалив, совершенно противоположен людям с душой нараспашку, об искусстве говорил очень мало, но нетрудно было приметить внимательность и зоркость его художнических глаз. Мартирос Сергеевич мог показаться суровым, если бы не малозаметный, скрытый в глубине души огонь артиста и мудреца.
…Показывая свои картины, Мартирос Сергеевич ничего не рассказывал. Видимо, он предоставлял зрителю всецело воспринять картину. Думаю, что Мартирос Сергеевич сам более всего любил свои картины, запечатлевшие пейзажи родной страны, иногда с домами и людьми.
…По мастерской Мартироса Сергеевича, а также по его разговорам можно было подумать, что у него не было среди художников близких друзей, но не сомневаюсь, что как он молчаливо хранил в душе великие произведения искусства, так же берег он и глубокие дружеские отношения, не заметные постороннему взгляду» (С. Шервинский. М. С. Сарьян).
«Сарьян…
Звуки, из которых составлено его имя, выражают все его искусство. Корень „Сар“ на многих восточных языках обозначает желтый цвет, т. е. полноту света, солнечный ореол – царственное облачение мира. Окончание же его имени созвучно словам „рдяный“, „пряный“, „рьяный“… В целом – при произнесении этого имени мерещится словно исступление желто-оранжевого цвета, прикрытое синевато-сизым пламенем, напоминающим фиолетово-медные отливы мавританской керамики времени Оммайядов…
Такая филология – фантастична, конечно, но интимно-понятна тому, кто мыслит созвучиями и рифмами и имеет дело не только со смыслом, но и со вкусом и с ароматом слова. …Хотя искусство Сарьяна отражает Восток, однако он не ориенталист. В этом его оригинальность и значительность. Он далеко не чужд романтизма, но отношение его к изображаемому – совсем иное, чем у ориенталистов. Он сам – сын Востока, оторванный от своей страны, прошедший европейскую школу, перенесенный в северные города. Его творчество пробуждено сыновним чувством. Его романтизм – тоска по родине. Поэтому в его искусстве нет любопытствующего взгляда путешественника, нет коллекционерства экзотических редкостей, отличающего ориенталистов. В нем нет „литературы“. Он не станет копировать богатый орнамент, не напишет этюда с этнографически характерной головы, не будет выписывать узоры драгоценной ткани. Для него дороги обыденные, интимные черты жизни. Чувствуется, что он, сидя зимой в Москве, напряженно мечтал о восточной улице, залитой солнцем, и ему была дорога правдивость образа, а не его идеализация; что гроздь бананов в лавке уличного фруктовщика, синяя от зноя морда буйвола, пыльно-рыжие, короткие туловища и оскаленные зубы константинопольских собак для него милее и прекраснее, чем отсветы сказочной роскоши восточных дворцов. Пишет ли он гранатовые яблоки, айвы, апельсины и зеленый кувшин, – ясно, что это не предметы, привезенные на север как память о путешествии, а что они только что куплены на одной из улиц Каира, что степные цветы собраны им самим в поле; местный колорит – не во внешних признаках, а в отношении художника, в том музыкальном тоне, в котором прочувствованы эти не редкости, а вещественные доказательства Востока» (М. Волошин. Лики творчества).
«Долгими дорогами шел Сарьян, много находил нового; но то, с чего он начал, осталось: его палитра, гамма его красок, его Армения, которая не уходила никуда даже в те годы, когда Сарьян жил в Париже, – она всегда была с ним, его Армения. Пример верности художника основной своей теме – по существу, теме его жизни – пример редкий и покоряющий» (В. Лидин. Люди и встречи).