Читать книгу "Лестница Ламарка"
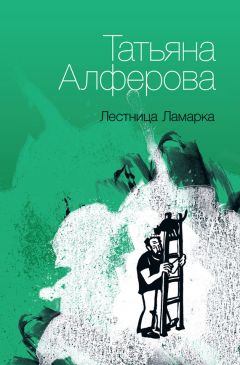
Автор книги: Татьяна Алферова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Обычное дело, как правило, человек кокетлив в своем горе – неосознанно.
На работе, где большинство сотрудников были когда-то учениками Ольги Александровны, отнеслись с пониманием и отпустили Алю аж до сорокового дня, но начальник, подписывая заявление, сказал проникновенно простуженным голосом: "Алечка, может быть, вам лучше выйти на работу пораньше, ради самой себя, надо же отвлекаться!" Аля ненавидела разговоры на тему недавнего несчастья и быстро научилась переносить ненависть на собеседника. Захотелось нахамить начальнику, ударить его по худому унылому лицу с бессильно поникшими под ударами судьбы усами. Сдержалась.
Свекровь не трогала Алю, как обычно, да и близнецы почти перестали обращаться к ней. С самого утра, попив чаю с голой булкой, Аля уходила вниз. Она не думала о том, что будет с квартирой, – постыдные мысли, в конце концов, свекровь или Коля разберутся. Она приходила и убирала, убирала до посинения. Начищала хрусталь в серванте, выгребала посуду из кухонных шкафчиков, промывала их слабым раствором борной кислоты – от возможного нашествия гипотетических тараканов, натирала паркет жидкой, плохо впитывающейся мастикой и – дольше тянуть было нельзя – добралась до письменного стола. Стол – Мамин стол – следовало разобрать. Трепет перед возможным и близким святотатством переполнял ее, как вздувшуюся банку с компотом. Ни первый поцелуй, которого она, кстати сказать, не помнила, ни первая близость с Колей, ни первое шевеленье плода – плодов – не отзывались таким сладким замиранием в чреве, как звук открывающегося ящика темного полированного стола. Учебники, написанные или отредактированные Мамой, множество ее методических пособий, конспекты лекций – все бережно выгружалось на свет, пролистывалось, складывалось в том же священном порядке. В самом последнем ящике, под папками для дипломного проектирования, обнаружилась связка тетрадей и блокнотов, исписанных убористым и четким Маминым почерком. На первой тетради красовалась надпись на немецком языке, Аля полезла за словарем и перевела: "Дневник моей жизни". Ее слегка затошнило от волнения, сейчас она узнает последнюю правду, между ними с Мамой не останется никаких секретов, наконец-то она прочтет о том, как Мама любила ее, скрывая проявления своей любви за повседневной занятостью, за работой, за бесконечными дипломниками, заочниками, аспирантами. Сейчас.
Первая тетрадь оказалась историей любви. Любви нелепой и постыдной. Дневник вела чужая недалекая женщина со словарным запасом кухарки из Ельца. Объект любви был безобразен и хамоват. В конце дневника обнаружилось и его письмо, письмо пошлого самца, дающего полную отставку очередной своей пассии, письмо, закапанное слезами, в их разводах не всегда угадывались окончания предложений, которые и угадывать-то не стоило. Разрыв произошел восьмого марта. Аля бы не поверила в реальность такой банальщины, если бы не вспомнила отчетливо, как мама не любила этого праздника, никогда не отмечала его – тогда казалось, что не любила из-за очевидно совдеповского характера навязанного торжества, а теперь открывалась изнанка, полная размазанных слезами строк и банальнейшего адюльтера. Далее объект исчезал из маминой жизни, но не из дневника. И в последних тетрадях встречались бесконечные абзацы, обращенные к покинувшему, абзацы, полные любви, прощения и беспросветной пошлости. Ни строчки, ни слова о дочери, об Але. Только во второй или третьей тетради попались записи о том, как тяжело со временем, что лучше пешком добежать до дома и покормить ребенка в перерыве между занятиями, чем дожидаться 43-го трамвая, идущего не по расписанию. И единственное замечание о том, что девочка абсолютно не похожа на отца.
Такого не могло быть. Но тетради лежали перед Алей, давно сидящей на полу, как целлулоидный пупс с раскинутыми ногами и большим пальцем во рту. Аля отчетливо осознала, что со стороны выглядит свихнувшейся домохозяйкой в своем строгом кухонном переднике и с тряпкой для пыли на коленях. Вот и все. Надо уничтожить эти тетради, чтобы никто никогда не узнал, что мама, Мама… А что не узнал? Что она оказалась обычной женщиной? Пошлой женщиной? Женщиной, в конце концов? Нет, нет – несправедливой женщиной, так-то! А квартиру удастся оформить запросто, раньше не помнила, а теперь всплыло что-то про дарственную, или нет? Неважно, проблемы имеют свойство разрешаться. И Аля поднялась с пола, сжимая тряпку в левой руке, обтерла тетради и аккуратно сложила их на прежнее место под твердые коричневые папки для дипломного проектирования. Абсолютно чистые папки.
Голос его жены
Ее босоножки цвета голубиного крыла быстро щелкали по деревянным ступеням, и, обгоняя этот птичий и лесной звук, летел голос:
– Милый, ау! Вот и я!
Гостиница была довольно новая, но желтые стены здания пестрели серыми проплешинами отвалившейся штукатурки, масляная краска, толстым слоем положенная на деревянные оконные рамы – никаких стеклопакетов, – потрескалась. За стойкой регистрации должен бы находиться медлительный портье в вельветовом, потертом на локтях пиджаке и меланхолично разглядывать посетителя, а сидели две молоденькие свиристелки, чуть не школьницы, не сидели – вертелись, стрекотали. Хоровое радостное "здравствуйте" прозвучало, не успел он полностью войти в двери.
– Моя жена, – "жена" выговорилось на удивление легко, естественно и без надрыва, – моя жена останавливалась здесь на пару дней не так давно, кажется, в конце той недели. Кажется, в двадцать четвертом номере.
– В двадцать четвертом, – подтвердила темненькая и странно взглянула на него, а после на подружку-блондинку. Блондинка открыла рот, собираясь что-то добавить, но промолчала, лишь хихикнула. Почему-то блондинки часто хихикают, когда затрудняются с ответом, он давно приметил. Жена была шатенкой, чуть-чуть в рыжину, если на солнце.
– Она, жена, кое-что оставила в номере. Потеряла. Да, потеряла. Рассеянная. Вот, мне приходится…
– Но ведь вы… – начала блондинка, справившись с дурацким смехом.
– Горничные нам ничего не передавали, – голос темненькой стал ниже и глубже, она занервничала. Еще бы ей не нервничать – не понимает же! – А что она потеряла? Что-то ценное?
– Как сказать… – равнодушно посмотрел на обеих, казалось, слова даются ему уже с трудом, столько сил уходило на борьбу со скукой, что речевой аппарат сбоил. – Кому как. Кому – ценность, а кому, напротив, – благо, – с укоризной мазнул зрачками блондинку. – Голос потеряла, – его интонация окрепла и взметнулась к невысокому чистенькому потолку. – Да, голос.
– Это вы метафорически? – темненькая явила зачатки интеллекта. Ох, как ему скучно все-таки, скучно.
– Но ведь вы… – занудствовала в своих недосказанностях блондинка.
– Барышни, я хотел бы снять этот номер. Сейчас. На день, на два. Пока не знаю точно, сколько мне потребуется дней… Или это сложно? В вашем городе такое уже не практикуется? – подпустил сарказма, как ему казалось, достаточно, чтобы поставить их на место.
– Пожалуйста! – темненькая обиделась, но он того и добивался. Пусть не пристают. – Номер свободен. Запишу вас на два дня, дальше продлим, если потребуется.
– Но ведь вы… – обреченно заметила блондинка.
Он резко бросил паспорт на стойку, давая понять, что разговор окончен.
Не распаковывая вещи – нечего было распаковывать, – он вышел в город. Набережная показалась удивительно знакомой: каменная беседка с шишечкой на крыше, невысокая ограда самого простого рисунка, вон там, за липами на излучине, должна быть скамья, и точно, вот она. Хотя почему бы ей там не быть, место живописное. Наверное. Только-только начинает отцветать сирень, еще пахнет одуряющее навязчиво, над всей набережной тянется, как птичья стая, ее горьковатая нота; но уже появились в рыхлых гроздьях соцветий коричневые точки увядания. Ужинать он не пошел, не хотелось. Бродил бесцельно до наступления темноты, изучал скупые витрины сувенирных лавок и редкие парочки, одетые с провинциальной смелостью, пару раз столкнулся с компаниями подростков, накачанных пивом. Компании провожали его свистом, но то была детская бравада, никакого страха, даже в зародыше, подростки по себе не оставляли.
Около десяти вечера вернулся в гостиницу. За стойкой наконец-то появился меланхолический портье в коричневом вельветовом пиджаке. Выдал ключ от номера, не глядя на постояльца, и углубился в газетный кроссворд. Газета была недельной давности, столичная.
– Ты ищешь не там, – сказали ему вишневые муаровые шторы из того же материала, что и покрывало на кровати – дешевая синтетика, на глаз видно.
– Не здесь, – засмеялась новенькая полированная тумбочка, совершенно нелепая, убогая, хоть и недавно приобретенная, еще пахнет клеем, ДСП и нежилым.
– Холодно-холодно, – скрипнула дверь совмещенного санузла.
Под кроватью что-то мелькнуло, мелко сворачиваясь, как каштановый завиток на шее, у жены волосы явно не такие яркие. Полез под кровать – плоская пыль, словно здесь не убирали никогда, а больше ничего.
К четырем утра отчаялся искать, лег в постель. "Ау, милый, ты слышишь?" – и щелканье ее пестро-сизых голубиных босоножек по желтым сосновым ступеням. Вскочил, обежал номер – ничего. Послышалось, приснилось. Пошел в душ, горячая вода не текла: в маленьких гостиницах захудалых городков всегда так, к восьми утра включат, не раньше. Холодные струйки дразнили кожу, шумно ударяли в душевой поддон. "Ау, милый!" – отчетливо за дверью, в номере.
Кого она звала? Не его, конечно. Того, с кем ночевала в этом номере, на этой кровати с бельем цвета шампанского в узкую полоску более темного цвета. Того, кому оставила себя, голос, щелканье звонких босоножек.
Он выскочил из душа, добежал до середины номера – всего-то несколько шагов, – оставляя мокрые следы. Шторы и тумбочка смеялись в голос. Мокрый, как был, рухнул на полосатое белье, лежал без сна, без сил, пока не рассвело окончательно. Тогда уснул. Во сне жена присела на постель, говорила шепотом, безголосая, упрекала, жаловалась. Ты измучил меня ревностью, ты убиваешь меня, шептала. А он, холодней, чем хотел, спрашивал: ну и где же твой голос? Отчего ты шепчешь? Кто кого убивает? Проснувшись, видел, как голос прозрачной лентой скользнул над постелью и вылетел в оставленную открытой на ночь балконную дверь.
За ним пришли сразу после обеда. Где-то к двум часам дня. Отыскать его оказалось не так уж и сложно, зарегистрировался же, по паспорту. Если бы за стойкой дежурила вчерашняя блондинка или хотя бы темненькая, они спросили бы – он убил свою жену? Да? Убил, оставил труп дома, а сам приехал сюда, где они вместе останавливались пять, нет, шесть дней тому? Но за стойкой продолжал восседать меланхолический портье в вельветовом пиджаке, тот ничего не спросил. А может, он заметил машину "Скорой психиатрической помощи", хоть она и остановилась за углом, чтобы не пугать постояльцев гостиницы.
– Энергичная бабенка, – сказал медбрат, слишком субтильный для такой профессии. – На фига ей этот фрукт-овощ, спрашивается? Бред ревности, как же! Знаем, плавали.
– Тебе-то что? – сердито отвечал другой, врач или санитар, непонятно. – Деньги заплатили. Хорошие, между прочим. Дело семейное. Их дело.
Звери

Немецкие обезьяны
Ты боишься возвращаться домой поздним вечером? Конечно, боишься. Ты стараешься вечером вовсе не ходить одна. Ты еще помнишь, как тебя «провожали» от метро трое. Они ничего тебе не сделали, даже не пытались, но это молчаливое угрюмое сопровождение пугало сильнее, чем привязавшаяся пьяная компания подростков. А тут еще слухи. Эти странные слухи об обезьянах.
Телевизор и газеты хранили молчание, разве в интернете в ленте новостей изредка встречались упоминания да болтовня на форумах, стираемая неведомым модератором на следующий день. Больше всего сведений можно было выудить в парикмахерской, у таксистов или в очереди к окулисту. Почему обезьян назвали немецкими – неясно, в Германии обезьяны не живут. На рисунках (говорили, что сфотографировать их еще никому не удавалось) обезьяны походили на воинов Золотой орды, как тех рисуют в мультфильмах. Лицом, во всяком случае: черные жесткие космы, короткие челки на покатых лбах, высокие скулы, не желтые, скорее кирпично-красные, и раскосые карие глаза, глядящие на тебя со страницы зло и упорно. Ростом обезьяны были в полчеловека, тело покрыто короткой и редкой светлой шерстью, если верить картинкам. Каждый третий в очереди к окулисту и абсолютно каждый таксист уверяли, что видели их лично и близко, как тебя. Описания совпадали между собой, но также они совпадали с картинками. А как-то раз ты нашла первоисточник все в том же интернете. Это оказалась иллюстрация к "Приключениям Гулливера": так художник, чью фамилию ты тут же забыла, изобразил гуингмов, разумных обезьян, жителей страны Еху. Но выражение лица и взгляд простоватого гуингма разительно отличались от общего выражения обезьян.
Появлению немецких обезьян всегда сопутствовал сильный ветер, говорили, что от ветра они и рождаются. Давным-давно, десять веков назад, похоже объясняли рождение печенегов, но те рождались не столь поэтично: из болот. Немецкие обезьяны образовывали большие стаи и селились в заброшенных и пустых домах, предпочитая те, где исправно электричество, а еще лучше есть сетевой кабель. Дело в том, что больше всего на свете обезьяны любили смотреть телевизор. Если с умом взяться за дело, их легко можно переловить, устроив приманку из пустого дома с плазменными панелями во всю стену, кабельным телевидением и скоростным интернетом, но никто за дело не брался, потому как официально обезьян не существовало.
Стоит ли удивляться, что ты боишься ходить по улицам, едва стемнеет.
Но, конечно, "кто чего боится, то с тем и случится", все как предупреждала поэтесса. Само собой, ты столкнулась с ними, а иначе бы и рассказа не случилось. Дело было днем, в мае, в дачном поселке. Ты первый раз в этом году поехала на велосипеде на старый вертолетный аэродром, просто покататься. Вертолеты все еще взлетали с него, но вяло и неохотно, с каждым летом все реже. Остерегаться следовало не вертолетов, а бродячих собак, на этот случай в корзинке-багажнике у тебя хранился небольшой запас сухого собачьего корма. К середине лета собаки даже привыкали и встречали тебя заискивающим повизгиванием, а не грозным лаем. За аэродром располагались заброшенные казармы ликвидированной много лет назад воинской части, а перед ними ларек, как ни странно, действующий. В ларьке можно купить лимонад или джин-тоник в жестяных банках, сигареты и позапрошлогодние сухарики или чипсы. Тебе приспичило заехать за сигаретами: забыла на даче пачку, а курить после непривычной физической нагрузки захотелось смертельно. Ты почти доехала до ларька, когда поднялся сильный ветер, буквально сдувая тебя с велосипеда и поднимая плотную волну песка, до того мирно дремавшего на дороге. А еще тебе показалось, что сдулось заднее колесо велосипеда. Ты забралась в барак почти напротив ларька, барак был у самой дороги, слишком на виду и по сему случаю реже прочих использовался как неорганизованный сортир. Песчаная буря местного дачного значения не одолела барака, и ты достойно, без спешки принялась подкачивать на самом деле слабое колесо. Так ты пропустила их появление. Но и они тоже не заметили тебя.
Вначале ты их услышала: вой и повизгивание, которые приняла за голос огромной собачьей стаи. После отчаянно закричала продавщица из ларька. Ты осторожно выглянула в оконный проем с выбитым окном. Продавщица улепетывала по узкой дорожке в лес, в другую сторону от поселка, и кричала, и всхлипывала, но уже тише, деликатнее. Они не преследовали продавщицу. Они накинулись на ларек. Мгновенно выбили стекла, вывернули дверь, хотя в том не было никакой нужды, похватали немудрящий товар. Слабоалкогольные напитки им не полюбились, и вот уже раздавленные жестянки зашипели пеной, смешиваясь с песчаными змейками на куске асфальта перед входом.
Ты вжалась в стену, холодную и рыхлую, с отслаивающейся штукатуркой, радуясь, что невидима, и боясь до икоты, что кто-то из стаи пересечет эти крошечные сорок или пятьдесят метров, чтобы полюбопытствовать, нет ли чего интересного в твоем бараке.
Они удивительно походили на собственные изображения, но в жизни, с непередаваемо подвижными лицами – или мордами? – казались гораздо гаже и опаснее. Как ты ни боялась, но не могла оторвать от них взгляда. "Сукины дети", – шептала беззвучно и даже, пожалуй, плакала. Тебе казалось, они шумят на весь поселок и вот-вот явится охрана аэродрома, или поселковая милиция, или еще какая-то верхняя справедливая сила – не столько спасти тебя, сколько остановить безобразие. Да и продавщица должна была бы уже добежать докуда-нибудь. Но охрана аэродрома, похоже, сплотившись с поселковой милицией, отправилась пить пиво на другой конец области.
Зато со стороны поселка вместе с порывом ветра появилась еще одна небольшая стайка обезьян, и тащили они с собою двух мальчишек лет двенадцати-тринадцати. У мальчишек был скулящий щенок и бельевая веревка. Хотя стая изъяснялась повизгиванием, ты поняла: они объясняли вожаку, крупному самцу с шерстью темнее, чем у прочих, что мальчишки собрались повесить несчастного тощего и блохастого щенка. Ты чуть было не выскочила из укрытия, ведь мальчишек все равно требовалось спасти, но мальчишки как-то разом, незаметно для глаза, затерялись в стае, вот уже не видно их русых голов, на несколько сантиметров возвышавшихся над стаей минуту назад. Щенка принялись передавать из лап в лапы, чесать брюшко и всячески тетешкать, его тянули в разные стороны, бедный пес скулил, неизвестно, что для него хуже: довольно скорая смерть или ласковое мучение. Но тут на дороге появился человек с рюкзачком за плечами и в очках. Да что же они, эти случайные незадачливые прохожие, не слышат визга обезьян, что ли? Куда они идут? Щенка тотчас бросили, и, предоставленный самому себе, он довольно шустро выскочил из толпы и потерялся в желтоватой пыли. Зато очкарику пришлось туго: его повалили на землю, принялись щипать, щекотать, но первым делом, конечно, сорвали и разбили очки. Вожак прыгал на груди у поверженного и гулко бил себя в грудь острым кулаком, он явно рисовался перед стаей или возможными соперниками.
Ты опять вознамерилась покинуть укрытие, хотя это было бессмысленно, противостоять распаленным обезьянам не хватило бы сил. Но вожак торжествующе завизжал и поднял над головой маленький ноутбук, выдернутый из рюкзачка. Стая мгновенно потеряла интерес к жертве и устремилась за вожаком мимо твоего барака к следующему. Мужчина встал на колени, пошарил рукой вокруг себя, нашел разбитые очки, надел, хотя стекол в оправе уже не было, и, как прежде продавщица, очень быстро устремился к лесу. А ты все продолжала стоять у рыхлой стены, словно приклеенная сырой штукатуркой. Начался дождь, усиливаясь с каждой минутой, прибивая песок и желтую пыль, затопляя и гася ветер.
В соседнем бараке кое-где чудом сохранились стекла, и через одно ты увидела, как усмиренная стая рассаживается на полу вокруг ноутбука. Что-то они разглядывали, какое-то кино записанное или фотографии. Ветер стих, а стая замолчала, блаженно развалившись и почесываясь. Ты, считай, собралась с духом – выйти, вскочить на велосипед и гнать отсюда подальше и поскорее, но заметила в окне второго этажа давешнего вожака, расположившегося на подоконнике. Он покинул общее сборище и наплевал на чудесные картинки в мониторе, он привел с собою подругу, чтобы любить ее.
Самка оказалась миниатюрнее и нежнее, ее шерстка отливала золотым блеском, волосы на голове вились, челка зачесана назад. Передние конечности совсем без шерсти и похожи на человеческие руки, задние – довольно длинные по сравнению с туловищем и почти прямые. Тебе даже показалось, что ее губы накрашены помадой. Парочка устроилась на подоконнике, они искали друг у друга блох в редкой шерсти, обнимались и целовались, совершенно как люди. И любили друг друга, как люди. Самочка вывизгивала незамысловатую мелодию и от избытка чувств – ведь у обезьян тоже есть чувства – выпрямилась на подоконнике, подпрыгнула несколько раз. По оцинкованному подоконнику бежали узкие струйки дождя, самка поскользнулась, сорвалась, ухватилась тонкой рукой за сидящего к ней вполоборота вожака, и оба они полетели вниз, на землю.
Вожак быстро вскочил, сердито завизжал на подругу, но та лежала и не шевелилась. Вожак забеспокоился, опустился на колени, схватил самку за плечи, пытаясь поставить на ноги. Ноги ее не двигались, она заплакала; тебе были видны крупные, как у детей, слезы, и рыдания ее напоминали детские. Вожак довольно долго смотрел на подругу, не двигаясь, затем нагнулся за камнем и запустил увесистым кругляшом в уцелевшее окно, за которым его стая дружно уставилась в монитор. Стая посыпалась вниз, как крупинки черного перца из перечницы. И тогда вожак взял самку на руки, прижал к груди и, подняв морду к небу, завыл отчаянно и безысходно.
А ты повторила:
– Сукины дети! Несчастные сукины дети!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































