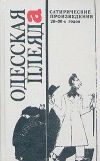Текст книги "Птичий рынок"

Автор книги: Татьяна Толстая
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Коллектив авторов
Птичий рынок
© Е. Водолазкин, Т. Толстая, Л. Улицкая и др., 2019.
© А. Бондаренко, художественное оформление, 2019.
© А. Обух, иллюстрации, 2019.
© Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, 2019.
© ООО “Издательство АСТ”, 2019.
* * *
Живое воспитывает живых – объясняли родители и на Птичий рынок водили для радости.
Юрий Рост
Наринэ Абгарян
Марлезон

У Бочканц Ованеса сложились очень уважительные отношения с ослом Марлезоном и крайне неуважительные – с пчелами. Казалось бы, тоже мне беда. В конце концов, не каждому дано жить в мире и согласии со всеми божьими тварями. Но Бочканц Ованес был пасечником. Мастером своего дела. Практически лучшим. И подобный оксюморон омрачал ему жизнь.
Отношения с пчелами испортились совсем недавно, потому собирался он теперь на пасеку, как на войну. Надевал сорочку с длинным рукавом, застегивался на все пуговицы. Брюки заправлял в носки. Проверял защитную сетку на маске с той тщательностью, с какой аквалангист обследует оборудование перед погружением. Приобрел в хозяйственном длинные плотные резиновые перчатки и попросил жену тщательно приладить к ним лямки. Сатеник, памятуя о несговорчивом характере мужа, возражать не стала, только спросила, зачем ему это надо.
– Ты приладь, там видно будет! – отрезал Ованес. У него всегда портилось настроение, когда задавали несанкционированные вопросы.
– И-их, неуступчивый баран, – вздохнула Сатеник и пустила на лямки старое кухонное полотенце.
Ованес надевал перчатки загодя, на подступах к пасеке. Лямку с левой перчатки перекидывал на правое плечо, с правой – на левое. Получалась диковинная, но надежная конструкция: лямки перетягивали грудь и давили на шею, но спасали от внезапной потери перчатки.
– А вдруг она свалится, когда я в улей полезу? – объяснял Ованес Марлезону. Марлезон водил ушами и одобрительно фыркал – в отличие от Сатеник, он понимал своего хозяина с полуслова.
Дополнительной защитой пришлось озаботиться после того, как пчела ужалила Ованеса в ухо. За сорок лет это был чуть ли не сотый случай, но в этот раз всё пошло наперекосяк – ухо моментально вспухло футбольным мячом и подозрительно запульсировало. Следом принялась раздуваться шея.
Ованес выронил крышку улья и, пренебрегая мирно пасущимся невдалеке домашним транспортом, припустил к деревне. Марлезон помчался следом, возмущенно иа-иакая. Так и добрались до поликлиники – впереди распухший до размера камазной покрышки Ованес, следом – оскорбленный до глубины своей ослиной души Марлезон.
– Наконец-то ты оправдываешь прозвище своего рода, – хохотнул дежурный врач, ставя спасительный укол.
Ованес хотел было огрызнуться, но не смог – вздувшиеся губы не шевелились. Он недовольно замычал, давая понять бесцеремонному доктору, что тот выбрал не самое подходящее время для шуток. Доктор замахал руками и примирительно улыбнулся.
Род Бочканц унаследовал прозвище от Шмавона, который был таким толстым, что все его называли бочкой. Ованес застал последние годы жизни прапрадеда, тот целыми днями лежал на тахте – большой, неповоротливый – и одышливо матерился в потолок.
Впервые услышав его сквернословие, Ованес ужасно заволновался – над потолком как раз находилась спальня его родителей.
– Апи[1]1
Сокращение от апупап – прапрадед (арм.).
[Закрыть], это ты на маму с папой ругаешься?
Прапрадед чуть не поперхнулся.
– Собакин щенок, при чем здесь твои мама с папой? Я Создателя ругаю. Почему он меня таким толстым сотворил? А в придачу еще и коротышкой! Совесть у него есть?
Прапрадед к концу жизни оглох, но силу голоса не растерял. Потому высказывал свои претензии небесной канцелярии до того громогласно, что куры на том конце деревни от испуга по несколько раз на дню неслись. Контуженная его сквернословием небесная канцелярия, по-видимому, сделала правильные выводы. И все потомки прапрадеда получались худощавыми и высоченными. Но прозвище всё равно носили Бочканц – из рода Шмавона-Бочки.
Отек спал только к вечеру. Ованес вернулся домой и огорошил жену новостью, что у него обнаружилась непереносимость пчелиного яда.
– Но ведь раньше ничего такого у тебя не было! – удивилась она.
– Раньше не было, а теперь есть.
– Говорили же, что пчелиный укус не ядовитый! – не унималась Сатеник.
– Раз не ядовитый, иди опрокинь на себя улей! А мне одного раза хватило, – рассердился Ованес.
Отказываться от промысла, приносящего стабильный доход, он не собирался. Просто придумал дополнительные меры защиты – хозяйственные перчатки на лямках, плотная сорочка с длинным рукавом и заправленные в толстые носки брюки – даже в самое пекло.
Односельчане поговаривали, что в городе есть специальные магазины для пчеловодов, где можно купить костюм, в котором тебя не то что пчела не ужалит, а лев не прокусит. Но Ованес этим слухам не верил. Он вообще городским не доверял. Что они понимают в пчелах? Ровным счетом ничего. Так чего ради должны придумать годный защитный костюм? Вздор всё это! Человек, оторванный от природы, черствеет душой. Какой с него спрос? Соврет и не застесняется.
Несмотря на тщательно подбираемую амуницию, он лелеял тайную надежду, что случай с аллергией на укус пчелы не что иное, как глупое недоразумение. Исключение из правил. Раз в год и палка стреляет. Но это же не означает, что она превращается в ружье!
Вон Марлезон. С ним ведь тоже не сразу сложились паритетные отношения. Всю душу вынул, пока человеком стал. Купил его Ованес у Назинанц Сурена за большие деньги – шестьдесят американских долларов. Сурен переезжал к сыну в Небраску, вот и распродавал домашнюю живность за доллары. Ованес натянул отцовский патронташ, съездил в райцентр, напустил грозным видом страху на работника банка, чтобы тот не смел ему фальшивые деньги продавать, а далее, тщательно припрятав три двадцатидолларовые бумажки в нагрудный карман, поехал к Сурену.
Со старым хозяином осел распрощался сдержанно – только хвостом шевельнул. За Ованесом шел с достоинством, брезгливо обходя лужи. Фортель выкинул, не дойдя двадцати метров до калитки: встал как вкопанный посреди улицы – и всё. Ни туда и ни сюда. Промучившись с ним битый час, Ованес махнул рукой и ушел в дом – надумает, сам придет.
Упрямое животное простояло так три дня. Ованес всё это время наблюдал за ним с веранды. Сатеник выносила поесть и попить. Осел сено игнорировал и даже от морковки морду воротил, но воду пил. И угрюмо молчал. На третий день Ованес, проклиная всё на свете, пошел к Сурену.
– Иди забери своего осла, обманщик! – крикнул он ему с порога.
– В смысле “обманщик”? – обиделся Сурен.
– Издеваешься, что ли?
– Вообще нет!
– Это животное третий день на дороге стоит, во двор не заходит!
– Не может такого быть!
– Сурик, хоть ты и диплом имеешь, ты всё равно говно-человек. Не мог предупредить, что осел с приветом?
– При чем здесь мой диплом? – невпопад оскорбился Сурен.
– Тьху! – сплюнул Ованес и ушел домой.
Осел стоял посреди двора, окруженный курами, и шевелил в такт их кудахтанью ушами.
– Это как понимать? – опешил Ованес.
Жена всплеснула руками:
– Ты представляешь, я просто распахнула перед ним калитку.
– И?
– И он отмер.
– Как?
– А вот так! – Она отомкнула калитку и отошла в сторону. Осел двинулся к выходу. Она калитку захлопнула. Осел остановился.
– Ему нужно оставлять проход открытым, – объяснила Сатеник.
Ованес пожевал губами.
– Почему тогда Сурен не рассказал мне этого?
– А ты небось пришел к нему и вежливо спросил, да? – не удержалась от иронии она.
– Много на себя берешь, женщина, – нахмурился Ованес и погладил осла по голове, – ну что, старый трех[2]2
Деревенская обувь.
[Закрыть], дружить будем? Ты не против, если я тебя Марлезоном стану называть?
Осел глянул на него своими большими вишневыми глазами и коротко кивнул. С того дня между ними установились уважительные отношения – Ованес заблаговременно распахивал калитку и отходил в сторону, освобождая ему дорогу, а осел верой и правдой ему служил.
Памятуя об этой истории, Ованес не терял надежды, что случай с аллергией на пчелиный яд – глупое недоразумение.
“Раз с ослом договорились, то и с пчелами обойдется”, – бубнил он себе под нос, собираясь на пасеку.
День с самого утра не задался. Отличилась, естественно, Сатеник: не спросимши, она отдала самый любимый топор Ованеса соседу. У Ованеса было пять разных топоров, на все случаи жизни. Относился он к ним бережно, можно сказать – с любовью: точил собственноручно, не доверяя электрическому шлифовальному кругу, удалял ржавчину керосином, хранил в специальном сундуке, чтобы топорище не усыхало в проушине. Особенно берег легкий в работе, неубиваемый колун, оставшийся от деда. Раритетный, можно сказать, экземпляр. Случись чего – поди поищи такой.
И теперь, благодаря глупой жене, не удосужившейся спросить разрешения, чужой мужик самозабвенно колол дрова родным дедовым топором.
– Ты хоть поняла, что наделала? – зудел Ованес, периодически косясь на не в меру разошедшегося соседа – щепки от его стараний чуть ли не по всему двору летали.
Сатеник сначала пожимала плечами, потом не вытерпела, съязвила:
– Родину, что ли, продала?
Ованес чуть дар речи не потерял.
– Ты не родину продала, – засипел он, – ты конкретно надругалась! Надо мной и над моим инструментом!
И обиженный на жену, поехал на пасеку.
Путь пролегал мимо крохотной парикмахерской, которую на днях открыл внучатый племянник Жорик.
– Заглянем, посмотрим, как он там устроился, – тормознул Марлезона Ованес.
Жорик как раз стриг Гадрутанц Паро. Ованес поздоровался и бесцеремонно уставился на нее. Паро была очень некрасивой женщиной. Даже беспощадно некрасивой – огромная голова на короткой толстой шее, изрытое оспинами лицо, три поперечные волосинки. Жорик эти три волосинки старательно стриг.
– Ах как красиво, – время от времени восклицала Паро, изучая свое отражение в зеркале, – ах как красиво!
– Очень красиво, – соглашался Жорик, – очень!
Когда Паро, расплатившись, ушла, он обернулся к двоюродному деду и развел руками:
– А что я должен был говорить?!
– И то верно, – отмер Ованес.
– Нелегкая у него работа, – удрученно делился он потом с Марлезоном, – стриги и поддакивай, стриги и поддакивай. Бедный мальчик, так ведь самоуважение потерять можно.
Ованес с большой симпатией относился к Жорику. Тот напоминал его в молодости – такой же нескладный, с остро торчащим кадыком и непослушными кудрявыми волосами. Как раз в его возрасте Ованес и жениховался к Сатеник. К первому свиданию съездил в город, прикупил модные по тем временам брюки, попросил мать их погладить. Брюки были ультрамодные, с могучей амплитудой, называемой в народе солнце-клеш. Мать подивилась их странному крою, но ничего говорить не стала. Нагрела на дровяной печке чугунный утюг и старательно прогладила через влажную марлю.
Ованес в тот день никуда не пошел. Потому что сбитая с толку солнце-клешем мать нагладила по боковому шву брюк такие сокрушительные стрелочки, что влюбленный кавалер выглядел в них сущим скатом. Идти в таком виде он отказался и весь вечер скандалил с матерью. На следующий день оказалось, что зря скандалил. Потому что Сатеник на свидание тоже не пришла. Младший брат из вредности запер ее в погребе, и она проплакала там до поздней ночи, пока ее не выпустили вернувшиеся из гостей родители.
– Такое вот бездарное у меня получилось первое свидание. Глупые были, молодые, счастливые. Вся жизнь впереди, ничего не боишься, ни на кого не оглядываешься, хэх! – тяжело вздыхая, рассказывал Марлезону Ованес. И, вспомнив про колун, тут же рассердился: – Знал бы, что так выйдет, не женился бы на ней!
Какое-то время ехали молча. Потом Ованес опять заговорил:
– А еще знаешь, что я часто вспоминаю? Как меня ребенком дразнили. Аж песню сочинили: “Молодой Ованес под кобылу залез. А кобыла его обосрала всего”. Маленький был, обижался. Взрослым стал – смеялся. А теперь обратно обижаюсь. Видно, в детство впадаю. Что скажешь, Марлезон-джан?
Марлезон молча переступал копытцами по желтой дорожной колее и думал о том, что хозяин сегодня излишне говорлив. Не к добру это, волновался Марлезон.
Догадки его подтвердились на подступах к пасеке. Вместо того чтобы натянуть перчатки на лямках, хозяин закатал рукава рубашки. Распахнул калитку, отошел в сторону, впуская осла на пасеку. Запер тщательно калитку. Какое-то время переминался с ноги на ногу, бормоча под нос неразборчивое, словно наливался праведным гневом. Потом воздел кулак ввысь, потряс им и выкрикнул:
– Я вашу маму! Не родился еще в Бочканц-семействе человек, которого бы пчела положила на лопатки!
Уверенным шагом он направился к улью и бесцеремонно сорвал крышку. Первая же вылетевшая пчела ужалила его в руку. Вторая – в глаз. Третьей пчелы он дожидаться не стал, побежал к калитке. Споткнулся, рухнул ничком. Потерял сознание.
Марлезон заголосил. Но на соседних пасеках, как назло, никого не было.
Жорик бежал, на ходу развязывая парикмахерский фартук. Следом, прижимая к груди защитные перчатки на лямках, ковыляла Сатеник.
– Сынок, на меня не оборачивайся! – иногда выкрикивала она. Жорик оборачивался, но бега не замедлял:
– Бабушка Сато, вы ждите меня там!
Сатеник сгибалась, упиралась ладонями в колени. Отдышавшись, снова ковыляла за ним.
– Специально небось не взял! – всхлипывала она, теребя в руках перчатки.
Жорик столкнулся с мчавшимся к деревне Марлезоном на полдороге. Завидев его, осел резко затормозил и рванул обратно.
Ованеса, конечно же, спасли.
Пролежал он в больнице два дня. Очнувшись, первым делом спросил про свой колун. Цел или угробили?
– Да цел твой колун! – рассердилась Сатеник. – Ты лучше про Марлезона спроси. Он ведь копытами запертую калитку выбил! И в деревню помчался, чтобы на помощь позвать!
– Против своих принципов пошел, к закрытой калитке подошел! – прослезился Ованес.
Выписавшись, он сразу же вернулся к медовому промыслу. Надежды на то, что аллергия на пчелиный укус – легкопоправимое недоразумение, не терял. И не особо своих пчел остерегался. Смысл остерегаться, если не родился еще в Бочканц-семействе человек, которого можно было бы на лопатки положить!
Дмитрий Воденников
Бедная моя царевна

1
В детстве было скучно, когда дождь. Когда гроза – нет, не скучно: я ее любил. А вот когда зарядит на несколько дней, мелкий такой, то пойдет, то перестанет – вот это скучно. Особенно на даче.
Сидишь, томишься, смотришь в окно. Тикают часы, шелестят старые газеты, бьется муха о стекло, смотрят со стен три медведя с картинки. Придет соседская собака Белка, запахнет в комнатах мокрой псиной. (Мне нравится этот запах.) Но сколько с мокрой собакой поиграешь? Да и она не бескорыстна. “Есть сахар?” – “Нет”. – “Досвидос”.
Выйдешь ее провожать во двор, в заросли сирени или в лесок. Чав-чав, чавкают резиновые сапоги. Кап-кап, капает с сирени или с леска на дождевик. Белка убежала, махнула на прощание хвостом. Прощай, неудачник, у меня таких, как ты, на каждом участке, и у них есть сахар! Ужасная тоска.
А сейчас не скучно.
Это меня всегда удивляло – во взрослых. Сидят в дождь, не мывшиеся целую неделю, лото там раскладывают или чай пьют. Попили чай – поспали. Поспали – телевизор посмотрели, обсудили Брежнева. Как их даже печаль не берет?
Пахнет из старого шифоньера духами “Красная Москва” и “Тройным” (хорошо от комаров), бабушкиной пудрой и тленом. Посидишь в бабушкиной комнате, посмотришь полчаса на плачущий сад за окном, опять пойдешь через мекающего Брежнева во двор. Там траншея. Это только в жаркие дни она траншея, а когда наполняется водой – могила. Вот мышка в ней утонула; если очень повезет, то целая белка. Только уже настоящая. Оскалилась мордочкой, сама жалкая, худая, как и ее смерть, мокрая. Быстрая белка, где твоя юркость?
…Но когда наступали хорошие дни, я выходил с сестрой ловить ящериц. Ну, конечно, это не мы ловили. Двое соседних парней (вообще-то им было лет по тринадцать, но они мне казались ужасно взрослыми) добывали нам с сестрой этих быстротекущих зеленых и черных пресмыкающихся тварей. Ящерицы грелись на залитом солнцем фундаменте, и надо было изловчиться и их поймать. За шею или за туловище. Если схватишь за хвост: раз, она его отбросит – и извивается этот ужасный червяк, вызывая судорогу отвращения, а сама жертва с красным обрубком вместо хвоста уже скрылась в широкой трещине.
Не знаю уж, ненавидели ли нас раненые ящерицы с ампутированными хвостами, следили ли ненавидящими черными глазками за смутными гигантами, бегающими по дорожкам и цветнику, смеялись ли над ними цельносохраненные товарищи, но ящериц мы ловить любили. Даже строили для них замки из песка. Но прежде всего – оборудовали банку.
Если всё живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.
Это одно из самых страшных стихотворений русской поэзии. По ламарковским ненаучным ступеням спускается Мандельштам во тьму, встречая попутно тех же ящериц.
К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.
Моя самая памятная ящерица тоже прошуршала и исчезла. Но сперва банка. Да, для нее была оборудована банка, я говорил. Высокая, из-под венгерских соленых огурцов. Банка была вымыта душистым мылом и сияла на солнце.
Туда, в эту прозрачную тюрьму, было напихано несколько камней, небольших, переливчатых, серых, чтоб ящериной царевне было привольно там жить (как будто может быть привольно жить в тюрьме). Накидано туда веток. Предполагалось, что мы туда будем впускать пойманных мух и комаров. А чтобы они не вылетели и сама принцесса не ускользнула, отверстие банки закрывалось марлей (для воздуха) и обматывалось резинкой. Живи – не хочу!
(Бедная будущая пленница, не успевшая выпустить хвост. Какая печаль тебя ждала. Скрести прозрачный, вдруг затвердевший воздух, видеть траву, землю, спасительный фундамент. Но не прорвать непонятную скользкую прозрачную стену, не вырваться из заточения. Хоть хвост десять раз отбрось.)
Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.
Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.
И вот первую ящерицу поймали. Это для сестры. (Мальчикам она нравилась, понятно, что я тут был довеском. Но я-то свои права знал! “Теперь мне, теперь мне!”) Поймали и мне.
Это было чудовище. Огромное даже для своего отряда, жирное нечто, серого цвета (у Юли была блаженно черная, как Анна Ахматова), и вдобавок с хвостом земляного червя во рту. Он-то, червяк, ее, по-видимому, и сгубил. Сидела она на припеке, жрала червяка, не услышала, как крадется соседний мальчик Андрюша, не увидела боковым зрением, что уже занесена рука, – хвать, и попалась. Прямо с недоеденным обедом.
(Надо было бы проверить: слышат ли вообще ящерицы? И есть ли у них боковое зрение? Но мне сейчас не до этого. Вперед-вперед, печальная история моя! Насекомые с наливными рюмочками глаз уже жужжат в стеклянной темнице, ждут своего дракона.)
И вообще я думаю, это была не “она”, а самец. В общем, принцессой тут и не пахло.
– Поймайте мне другую! – прошептал я. Но дети жестоки. Их ждал обед: вкусная вареная картошка на дачной плите с газовым баллоном, присыпанная “своим”, прямо с грядки укропом, масло на бутерброде, салат из редиски, сарделька и на десерт – только что набранная миска клубники (у соседки Анны Иванны клубника вырастала раньше, она и нас угощала, бледных московских интеллигентов, у которых даже клубника вовремя не покраснеет).
– В другой раз! – сказали злые мальчишки и убежали. А я – остался со своим жирным серым принцем. И червем.
Он сказал: довольно полнозвучья, —
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.
И от нас природа отступила —
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.
И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех…
Всё это, конечно, очень мило, но подъемный мост был не опущен не только для лирического героя стихотворения Мандельштама, но и для нас с ящерицей. И этот провал был сильнее наших сил, это точно. Это как с любовью. Вот ты ждешь ее, всё не находишь, и вдруг она пришла – и вроде взаимно, а вдруг сидишь напротив и понимаешь: зачем я здесь? почему с этим человеком? где я вообще? Мы смотрели друг на друга с пойманной ящерицей и понимали, что вместе нам не быть.
И выход был найден.
Я немного ослабил резинку на банке и приоткрыл марлю. Ящерица-самец судорожно задвигала отвратительными пальцами по стеклу, но открывшийся потолок был слишком высоко. “Рад бы в рай, да грехи не пускают”.
– Меньше надо было жрать! – сказал я в банку.
Тогда я пошел за камнями. Их было много, мой неродной дедушка, который и обеспечил нам эту незаслуженную генеральскую дачу, водил машину (тоже, кстати, редкость была). Вот машина и стояла у ворот, прямо на завезенном для этой стоянки гравии. Машина была “Волгой”, гравия под ней было много. Я набрал несколько камешков и вернулся к ненавистной банке.
“Вшшшик”, – сказал первый камешек и скользнул в темницу. Жирная ящерица в ужасе забилась к противоположному краю.
– Дура! Это путь к свободе!
Почему я просто не перевернул банку? Не знаю.
Наверное, в моей детской голове была мысль, что так нечестно. Почему честнее было добавлять по одному камню, открыв марлю, – для меня загадка. Но было именно так.
“Вшшшик”, “вшшшшик”, “вшшшик”. Скоро банка была полна наполовину.
Тяжело переваливаясь на криво растопыренных лапах, самец ящерицы с неизменным куском червяка во рту высунул морду из банки. Но подтянуться он не мог.
В банку были добавлены еще несколько камней.
Тогда неимоверным усилием ящерица все-таки извернулась, взгромоздилась на ободок тюрьмы и брякнулась прямо на прогретые доски крыльца. Свобода! Только мы ее и видели. Даже хвост в подарок оставлять не пришлось.
– А где ящерица? – спросили меня пришедшие с обеда соседские мальчишки.
– Она убежала, – с трагическим восторгом ответил я.
…Прошли годы. И теперь я сам отлично знал, что делать на даче в дождь. Куда-то идти? – зачем? Вот чай, вот вино, вот пряник. Правда, теперь на каждой даче душ, и “Красной Москвой” никто не пользуется. И “Тройной одеколон” или одеколон “Гвоздика” вполне себе заменили специальные пластины. Вставил их в устройство, всунул его в розетку, все комары ушли в осень, пригласили, так сказать, сами себя на закат.
И черт меня дернул однажды купить таксу. Вообще-то я хотел купить йоркширского терьера. А что, милое дело! Был бы как светская львица (лев). Но йорки стоили дорого, а у меня среди прочих телефонов собакопродавцов затесался и этот. “Милая веселая таксочка ищет хозяина!”
Я не хотел таксу. У моих друзей в Питере жил совершенно сумасшедший кобель, который не слушался даже хозяев. Гостей, как вы понимаете, он вообще не жаловал.
Когда я приезжал в Питер и селился у друзей, слушая шизофренический лай Гуни (а именно так звали пса) и крики “фу, нельзя, отдай!” его хозяев, я понимал, что если заведу себе собаку, то это будет кто угодно, только не такса.
В общем, веселая таксочка была обречена.
Так уж случилось, что мне надо было в этот день поехать на радио. Радио находилось на Ямском Поле, я живу совсем в другом конце Москвы, и вот всё время, пока я ехал и шел, я звонил по двенадцати телефонам с йоркширскими терьерами. Но то там цена была заоблачная, то надо было ехать смотреть щенят за город, то еще какая-нибудь другая напасть. А я уже приезжаю на свою станцию и иду по ярко освещенной родной улице, упадающей в закат. И остался только один телефон. Тот, выписанный непонятно зачем.
И я позвонил.
Так всегда бывает с твоей настоящей судьбой. Тебе ее не миновать. Ты можешь не пойти на ту вечеринку, где богом встречи было заготовлено пересечение с человеком, который войдет в твою жизнь, – значит, тебе подсунут вторую вечеринку, куда ты тоже не собирался, но зачем-то пришел.
Ты можешь всю жизнь бегать от рака и питаться правильно, и вести здоровый образ жизни, и не пить, и не курить, но в определенный срок ты обязательно заболеешь. (Или нет. Хоть обкурись и проваляйся всю жизнь на диване.)
От судьбы не уйдешь. Вот и я не укатился от нее, как обреченный на лису колобок.
– Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, и я не собираюсь покупать у вас таксу! – так начал я разговор, и теперь мне странно, что на том конце несуществующего провода не положили трубку.
– И не надо, – был мне ответ. Так судьба всегда разговаривает, когда она Судьба.
Сияло солнце, мир был полон надежд, но не для меня: – Мы просто вам ее покажем, – опять сказал телефон. “Ты ее уже купил”, – догадалась моя тогдашняя подруга по телефону, и хотя я сказал “мне просто везут ее показать”, как сомнамбула я сходил по вечереющей земле в ветеринарный магазин и купил плошку. Зачем плошку? К чему? Снова загадка.
…Продавцы опоздали. Сперва сказали, что привезут в семь, потом перезвонили, что в восемь, привезли в десять. Я спустился в загустевшее уже лето, в темноту, в фонари, подошел к машине, держа в кармане 11 тысяч. Собачка стоила дорого.
– Извините, мы опоздали.
– Ничего, показывайте собаку.
Из какой-то корзины (кажется, из открывающейся задней части машины, а может, и с последнего сиденья, я не помню) хозяйка достала черную колбасу и показала мне. Я машинально погладил плоскую, как у змеи, голову. И черная колбаса потянулась ко мне.
– Ой, смотрите! Она вас выбрала!
Я знал, что она лжет. Кусок летней темноты (немного, правда, темнее самой темной ночной тени этого умершего уже дня) потянулся ко мне, потому что просто устал. Ехать полдня, копошиться в закрывающейся корзине, пищать. Но я взял этого щенка на руки. С каким-то сомнамбулическим отвращением протянул деньги, попросил пересчитать и ушел.
Когда я вошел в квартиру и поставил щенка на пол, он сразу же написал на паркет.
Начались наши адовые будни.
Я назвал потом таксу, которую поклялся никогда не покупать, Чуней.
Всего лишь одна буква.
Буква разницы.
2
Но сперва имени у нее не было.
“Вы должны помнить одно: собака не должна ни при каких обстоятельствах спать с вами. У нее есть место. Пусть там и спит. Когда вы уходите, щенка лучше всего запирать в клетку. Или, если вы хотите, чтоб у него было больше свободы, в вольер”.
Я не спал всю ночь. В прямом смысле этого слова. Не то что засыпал и просыпался. Я, как оловянный солдатик (только лежачий), не заснул ни на минуту. Нет, безымянная собака в кухне не визжала: я ее убаюкал, огородив тяжелыми коробками, организовав что-то типа манежа. Который она не перескочит, не сможет: она же маленькая. И очень гордился, что такой умный. Даже уже стал писать в уме первые страницы книги “Вы все дураки, а я великий кинолог”, прислушиваясь к могильной тишине через две двери.
Она спала без звука, и вдруг я поймал себя на мысли, что не сплю, потому что считаю: вот еще один час Кузя (или Машка, я еще не знал, что через два дня окончательно остановлюсь на глупом имени Чуня, которое похоже на валенок) благополучно проспала. А вот еще один. Вот у всех в первую ночь собаки кричат, стонут, плачут, и их, сломавшись на втором часу ора, берут в кровать или кладут рядом. На пол. Но у меня не забалуешь. Лежит за стеной и сопит в две дырки. (Наверное.)
Завтра будет ад, но хоть она выспится, – с неприсущим мне не-эгоцентризмом думал я.
Да, я знал, понимал, что часов в пять она меня разбудит утробным – похожим на кошачий вой – плачем. Но сердце у меня замирало от нежности. “Вот и третий час проспала”, – продолжал считать я.
Когда она завопила в пять с чем-то, я злорадно подумал: “А я как будто сплю. Всё равно не выберешься, я же завалил вход коробкой”.
Но всё же встал.
Открыл дверь.
Собака выла на пороге.
Как она перескочила заграждения, я не знаю. На полу желтела лужа. Пеленки, специально переданные мне бывшими хозяевами собачки для этого дела, были девственны.
После чего Кузя ходила за мной по пятам целый час, отказываясь какать и писать, несмотря на все мои мольбы.
И через час я вышел в магазин.
Стояло дивное прохладное летнее утро. Ровно шесть. Было свежо.
А я вдруг стал весь мокрый от пота, потому что при повороте на Егерскую вдруг подумал, что неплотно притворил дверь в комнату, куда Машку не пускаю, а в комнате открыт балкон.
Серьезной рысью я смотался до банкомата и снял все деньги.
Обратно я бежал.
…Теперь бы мне только дождаться десяти, и я куплю настоящий загончик и всё, что нужно. А нужно – многое.
К десяти привезли два манежа – тяжелые, сложные конструкции, типа решетки с четырьмя прямоугольными фракталами вверх. Только кошка на них заберется. Черепашка и собачка нет. Я огородил ими в кухне кухонный стол, придвинутый к стенке: у собаки получился дворец с крышей (там, в коробках, было постелено несколько одеял и даже положена подушка; забегая вперед – эту подушку собака описала в первую очередь) и с оградой. Дворец с решетчатым забором. Живи – не хочу. Кузя не хотела.
Я раньше думал, что ж это такое: “то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя”. Какая такая вьюга? Теперь я знаю, какая.
Чуня ухает, как гиена, кричит, как подкидыш, или рыдает, как Фаина Раневская (когда я ухожу), настолько громко, это слышно даже на первом этаже. И так радуется, когда возвращаюсь, что мне приходится ходить, как стреноженный китаец (боюсь наступить, а она всё мечется, она же маленькая). В общем, теперь я был какое-то бессмысленное, но суровое приложение к этой невротичке. Настолько – что когда во второй день я встречался с замечательной женщиной, продюсером, которая предложила мне два феерических поэтических проекта (ее идеи были совершенно невероятны и при этом в самое яблочко), – я так, видимо, бездарно принимал участие в разговоре, что она спросила меня: “Ты думаешь о собаке?”
– Нет, – слишком быстро ответил я.
Но ограда сторожила собаку крепко. Это я знал точно. И когда я бежал после встречи домой, я знал, что Чуня будет ждать меня на кухне, стоя в полный рост и вцепившись своими маленькими миленькими лапками в решетку.
Я ошибся.
Чуня встретила меня у входной двери. Извиваясь от радости. Но как?
И еще была одна загадка: Чуня не пахла.
Я очень люблю запах псины. И та дачная Белка, и другие собаки, которые жили после Белки у нас, – все они пахли сильно и остро. Чуня же была девственно щенячьей. И дело не в ее возрасте: она выросла и пахнет щенком до сих пор. Объяснение этому удивительному факту заключается в том, что у гладкошерстных такс нет подшерстка (кстати, у йорков его тоже нет), поэтому они до старости пахнут собачьим детством.
Но даже ее ангелоподобная природа не объясняла преодоления барьера, который был выше ее в два раза, даже когда она становилась на задние лапы. Ну не летает же она?