Читать книгу "Свободное падение"
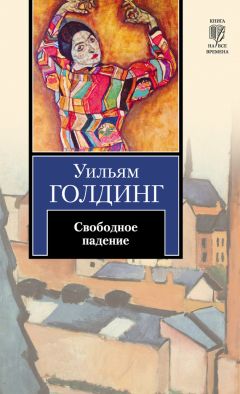
Автор книги: Уильям Голдинг
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Вернее сказать, вылетает, потому как дверь шваркнула о кирпичную стену с такой силой, что слетела задвижка. Мать взирает на Мэгги в хитрой позе: лицо развернуто к плечу, одна ступня перед другой (раз уж выкарабкиваться из узкой будки она способна только боком), ноги напружены, спина сгорблена; словом, облик грозный до жути. Юбки поддернуты и комом сбились у талии, в своих багровых лапах мать сжимает широченные серые подштанники, застрявшие в районе колен. Я вижу ее голос: иззубренный и бронзово-алый, он впивается в воздух и зависает под небесами, покоряя и ужасая – воистину героическое деяние.
– Ах ты драная кошелка! Тащи свой триппер к своим ублюдкам!
Нет, не припомню я иной столь же грандиозной сцены в нашем Гнилом переулке. Даже когда два жирафоподобных фараона сцапали близнецов Фреда и Джо, которые ловко промышляли железным ломом на том конце у деревянных ворот, драма выродилась в полное поражение. У всех на глазах один констебль неспешно направился в глубь переулка, и народ принялся бормотать: «А че это он?». Потом Джо с Фредом выскочили из своего дома и почесали к воротам, но, понятное дело, там их поджидал второй полицейский. Вот в него-то они и угодили: парочка мелких мужичков, по одному в каждую руку. К поджидавшему полицейскому фургону их провели по всему переулку, в браслетах, меж двух темно-синих столпов, увенчанных серебряными шипами. Мы ворчали, орали, издавали рулады, которые, выражаясь деликатно, напоминали треск рвущейся материи и в Гнилом переулке заменяли освистывание. Фред и Джо выглядели бледно, но с гонором. Фараоны приходили, забирали, уходили; неотвратимые как рождение и смерть: три ситуации, в которых Гнилой переулок соглашался на безоговорочную капитуляцию. Появлялся ли на свет лишний рот, «черный ворон» или длинные похоронные дроги, означавшие конец пути, разницы не было. В переулок залезало нечто вроде руки, заграбастывало что ей вздумается, и никто не мог ее остановить.
Мы были мирком внутри мира, а я стал мужчиной, еще не успев достичь интеллектуальной революции в мышлении, позволявшей осознать, что обитаем-то мы в трущобах. И пусть весь наш переулок был ярдов сорок длиной, а кругом зеленели поля, мы были трущобой. При этом слове большинство людей воображает себе многомильное месиво из грязи и дерьма лондонского Ист-Энда или наскоро сколоченные халупы и жердяные пристройки Черной страны[4]4
Бывший центр тяжелой промышленности Англии (каменный уголь, руда, черная металлургия) к северо-западу от Бирмингема.
[Закрыть]. Но мы ведь жили в самом сердце сада английского, светившегося изумрудным хмелем. Хотя по одну руку тянулись кирпичные особняки, школы, пакгаузы, лавки и церкви, по другую сторону раскинулись пряные долины, куда я шел за матерью собирать липкие, чешуйчатые хмелевые шишечки. Впрочем, эта картинка вырывает меня из нашего дома, а хотелось бы пока побыть в нем. Верну-ка я назад почтовые открытки с пляшущими, озаренными пламенем человечками, и заползу обратно под крышку. Впрочем, там и впрямь были костры, реки пива, песни, цыгане и забегаловка, тайком устроенная в куще деревьев и носившая тростниковую кровлю под стать соломенному канотье, надвинутому на глаза. Возвращаться же приходилось в трущобы. У нас тоже была забегаловка. Жили одной кучей. А нынче я очутился средь стылого мира, вдали от жгучего стыда перед лицом небес, и с изумлением вижу, что немало людей готовы пойти невесть на что, лишь бы сбиться в кучу. Может статься, в ту пору я не заблуждался, и у нас действительно имелось что-то стоящее. Мы были постулатом о человеке, образом жизни, данностью.
Средоточием нашей жизни был паб. Облупленная коричневая дверь с двумя окошками матового стекла почти не закрывалась. Круглая, неровно истертая латунная ручка сияла от постоянных прикосновений. Имелись, надо думать, всяческие правила и время суток, когда торговать спиртным запрещалось, но я их что-то не припомню. Дверь я видел чуть ли не с уровня тротуара, и она до сих пор мне кажется великанской. Внутри был устроен кирпичный пол, стояли скамьи с высокими спинками, а в углу, возле стойки, – два табурета. Уютное местечко, теплое, шумливое, загадочное пристанище взрослых. Позднее я заглядывал туда, когда срочно требовалось найти мать, и никто и никогда не говорил мне, что мое присутствие возбраняется. А впервые туда я попал из-за нашего постояльца.
Жил он прямо у нас над головой, пользовался нашей печкой, колонкой и нужником. Сдается мне, что он был той самой трагедией, про которую социологи и экономисты настрочили так много книг в девятнадцатом и двадцатом столетиях. Воссоздать его в уме не так уж и сложно. Начнем с того, что при разглядывании с высоты моего тогдашнего роста – от горшка два вершка – он выглядел коротышкой. Эдакий окурок из ремесленника, потому как был он опрятненький и в каком-то смысле с достоинством. Водопроводчик? Плотник? Но при этом очень старый, его даже было трудно вообразить как-то иначе. Скелетик, который не разваливался только оттого, что был обтянут кожей и синим лоснящимся костюмом из саржи. Носил коричневый шарф, чьи концы подтыкал под пиджачные борта… а вот башмаков я не помню – наверное, потому, что вечно глазел на него снизу вверх. У него были интересные руки: все в узлах, венах и бурых пятнах старческой пигментации. Он никогда не снимал мягкую фетровую шляпу – даже когда сидел у окна наверху, семенил по тротуару, крался в уборную или просиживал у стойки в «Светиле». А усы его были и вовсе примечательными: они смотрели вниз, а своей белизной и мягкостью напоминали лебяжий пух. Усы закрывали ему весь рот – словом, красота да и только. Но еще удивительнее была его манера дышать, шумно и по-птичьи быстро: вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, без остановки, тик-тик-тик, хрупкие часики, вечно куда-то спешащие, боящиеся упустить время, потратить его на нечто иное. Над усами и под нависшими бровями его востроносого лица таращились глазки, озабоченные и испуганные. Мне всегда казалось, что он видит что-то недоступное другим, нечто крайне захватывающее и тревожащее. Тик-тик-тик, с утра до вечера, круглыми сутками. Народ не обращал внимания. Меня это не беспокоило, мать тоже, да и был он нашим постояльцем, держащимся за окурок собственной жизни. Укладываясь на ночь и вставая утром, я через дощатый сосновый потолок слышал, как он там тикает. На вопросы он отвечал словно спринтер, только что отмахавший милю за четыре минуты; он отдувался и отфыркивался, панически заглатывая воздух, будто в третий раз подряд выныривал, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Как-то раз, когда он сидел и смотрел сквозь печку, я подкатил к нему с вопросом. Любопытство заело. Он мне и выдал свой одышливый, наработанный ответ – едва не поперхнувшись словами, поспешно ловя ртом воздух, как иной человек подхватывает оброненную чашку в дюйме от пола.
– У меня… фр-р, уф-ф, тик-тик-тик… в груди… тик-тик-тик… бородавка. – «Фр-ф», «уф-ф» и очередной, отчаянный рывок за воздухом к концу фразы.
В жизни не видел, как он ест; хотя, если призадуматься, он наверняка чем-то питался. Но как? На это не было времени. Сколько суток должно пройти, чтобы организм выработал весь жир и все мясо, полный запас топлива? И как долго душа сможет саму себя поддерживать за шнурки, сосредоточившись лишь в глазах? Тик-тик-тик, и хотя он заглядывал в «Светило» как и все прочие, он не мог много пить, и вот почему обвислая поросль, закрывавшая ему рот, так походила на лебяжий пух. Сдается мне сейчас, что у нашего постояльца был рак; с кислой усмешкой замечаю за собой желание тут же встроить эту скороспелую конъектуру в некую упорядоченную схему вещей. Впрочем, на ум приходит, что все схемы раз за разом разваливались, что жизнь случайна и что зло ненаказуемо. Отчего должен я связывать того мужчину, того ребенка с вот этой нынешней головой, сердцем и руками? При желании я мог бы вызвать в памяти формальное преступление тогдашнего периода, потому что я как-то раз стибрил двухпенсовик у этого старика, купил лакрицы, к которой до сих пор питаю слабость, – и не воздалось мне ничегошеньки. Но то были дни ужасающей и безответственной невинности. Видно, тянет меня на литературщину, коли я слепил свой рассказ, дабы показать, как на мертвые глаза моего духовного зрения легли эти два пенса, раз уж я от них избавился. А зачем тогда я пишу? До сих пор надеюсь на схему? Чего я ищу?
Наша кровать на первом этаже помещалась рядом с комодом – только протяни руку, – и на краю стоял будильник: древний, круглый, на трех куцых ножках, с чашечкой звонка, смахивавшей на зонтик. Он разбивал материн сон, когда ей было нужно засветло отправляться на поденку; мои сонные уши ставили галочку и спали дальше. Если ночь выпадала долгая и глухая, мать сама не обращала на звон внимания или со стоном накрывалась с головой. Тогда часы будили меня. Всю ночь они тик-такали, сдерживая подспудное, упрятанное внутрь безумие – а потом взрывались напруженностью. Зонтик превращался в голову, будильник принимался отчаянно колотить по собственному черепу, трясясь и подскакивая на всех трех ножках, пока сам комод не начинал сочувственно дребезжать в унисон этой припадочной истерике. Вот тогда я тормошил мать и ощущал себя деловитым и благонравным, пока она вздымалась из мрака словно левиафан. Однако если я вдруг просыпался среди ночи или же не мог заснуть, тик-таканье часов всегда было на месте, хотя и разнилось под стать моему настроению. Иногда – вернее, чаще всего – оно было дружелюбным и безмятежным, но когда на меня накатывали редкие кошмары, от них страдал и будильник. Время тогда теряло жалость, все гнало и гнало неумолимо к точке беснования и взрыва.
Однажды около полуночи я проснулся как от толчка, застигнутый опасностью и беззащитный: часы остановились. Мне стало страшно; пришлось искать мать. Я испытывал тот же позыв, что ощущаю и сейчас, перед этим листком бумаги, позыв неосознанный и глубинный. Я выпал из кровати и с плачем пополз на улицу, вдоль и поперек сточной канавы, к задней двери паба. За остекленными филенками ни огонька. Пивная ослепла. Я поцарапался в дверь, дотянулся до латунной ручки и, повиснув на ней, навалился на дверь.
– Мам! Мам!
Латунь в руке провернулась, я как на качелях влетел внутрь. Приземлился на корточки, и там были люди-тени, воззрившиеся на меня сверху вниз, тени, слегка ворочавшиеся в тусклом свете очага. Мать сидела лицом к двери, занимая почти всю скамью, и стеклянная стопка была погребена в ее ладони. Зал протяженный как день. Сейчас-то я знаю, что там сидело с горстку соседей, выпивавших после закрытия, но тогда они показались квинтэссенцией таинства взрослой жизни, вписанной в одну смутную картину.
– Мам, часы остановились!
Я не сумел передать невозможность моего неприкаянного возвращения в немую темноту; я всецело зависел от их понимания и доброй воли. Они высились башнями и что-то бормотали. Словом, компания распалась без особого удовольствия, но все же шумно, так что пару-тройку минут переулок еще дрожал от эха бодрящих голосов. Мать шиканьем погнала меня через канаву и включила нашу голую лампочку. Взяла будильник в одну руку – он утонул в ее ладони почти столь же охотно, как и стеклянная стопка, – и подержала возле уха. Затем грохнула часами о комод и обернулась ко мне с занесенной карающей десницей.
И замерла.
Медленно возвела очи горе, на потолок, где в нескольких футах над моей головой лежал наш постоялец, и стала слушать; слушать в такой тишине, что сейчас я понял свою непостижимую ошибку, ибо теперь-то до меня отчетливо доносилось тик-таканье будильника, спешащего к истерическому припадку – хрупкий торопыжка, до банальности назойливый, тик-тик-тик…
Был ли у нашего постояльца страховой полис на похороны? Помнится, забирать его приехала солидная машина, вот и получается, что его мертвое тело значило для Гнилого переулка больше, чем живое. У нас на смерть смотрели как на ритуал и зрелище, как на время скорби и радости. Отчего же я так и не увидел его тела? Обманул меня наш переулок, или же здесь была какая-то тайна? Как правило, мертвецы пользовались большим пиететом, нежели новорожденные. Их обмывали, распрямляли, приводили в порядок; им отдавали почести как спеленатым и нафаршированным специями фараонам. О смерти в Гнилом переулке не получается думать без эпитета «царственная». В ретроспективе, которая развешивает события согласно их символическим цветам, Гнилой переулок предстает по случаю смерти обряженным в черное, фиолетовое и багряное; он разбухает от предвкушения выпивки и скорби.
Но отчего же я так и не увидел ничьего мертвого тела? Уж не оттого ли, что взрослым людям-теням из уютной пивной была ведома некая теория о моем кошмарном знании? Что, я слишком много знал? У меня имелась особая причина считать себя обманутым. Мне сказали, что у него под шляпой был пух той же лебяжьей белизны; в моем воображении это превратилось в драгоценную вещь, изысканную как шапочка, достойная увенчивать голову Девы-Лебедь. А про лебяжий пух под шляпой я узнал от Иви. Она-то видела тело в ящике. И даже его потрогала – потому что мать заставила. У нас считалось, что после этого ребенок уже никогда не будет пугаться мертвецов. Вот Иви его и потрогала, ткнув правым указательным пальцем ему в нос. «Вот этим пальцем», – показала она. Я пригляделся, пришел в благоговейный трепет и преисполнился восхищением перед Иви. Но сам так никогда его не увидел и не потрогал. Смерть прокатила мимо в высокой черной машине с морозно-узорчатыми стеклами. В тот день, как и всегда, я стоял на тротуаре, в сторонке, понимая далеко не все из происходящего. Зато Иви постоянно находилась в сердце событий. Она была на год-два постарше и вовсю мной помыкала. Разве мог я ревновать к Иви, которая знала так много? И пусть он был нашим собственным постояльцем, и пользовался нашим нужником, а вовсе не сортиром Ивиной матери, я не мог злиться на нее за прикосновение к востроносой смерти. Иви тоже была царственна. К тому же имела на это право. Я же имел право считать себя неполноценным, и так и поступал – потому как мне не достался белый пух, а лишь морозно-узорчатое стекло, медленно катившее по переулку. Желая узнать касание смерти, я вообразил, будто сам бросаю вызов самому жуткому и омерзительному одиночеству. Увы, было слишком поздно. Если нагнуться до коленок, то это время само возникнет перед глазами. Дверной порог вырастет до размеров алтаря, я смогу облокотиться на вывеску, что стоит в витрине лавки, а вот сточную канаву придется преодолевать могучим прыжком с разбега. И тогда прозрачность, имя которой «я», поплывет сквозь жизнь подобно мыльному пузырю, пустотелому, лишенному чувства вины и всего прочего, кроме рефлекторных и неосознанных чувств; щедрый, алчный, жестокий, невинный пузырь. Мать и Иви были моими привратными башнями-близнецами. А жизнь выткалась так, что я оказался недостоин пуховой шевелюры нашего постояльца, этой печати лебяжьей белизны конечного знания.
Да и была ли у него эта шевелюра? Раздумывая над пустым пузырем с высоты коленок, я впервые вижу, что просто поверил Иви на слово. А ведь она была вруньей. Или нет? Фантазеркой она была, вот что. Ростом выше меня, смуглая и тощая, гладковолосая шатенка с короткой круглой стрижкой. Носила коричневые рейтузы, которые морщинились гармошкой под коленями. У нее была куча широченных и ярких лент для волос; я ими восторгался и с безнадежным идиотизмом вожделел. Какой толк от ленточек и бантов, если их не на что повязать? И какой толк от этого символа без королевского достоинства и властности матери и Иви? Когда она, потряхивая головой, принималась разглагольствовать о мире и о том, какими должны быть люди, ее розовый бант колыхался вместе со свешивающимися набок волосами, полный величия и недоступный.
Все же я пребывал в ее руках и был этим доволен. Потому что теперь я был приготовишкой, а ей полагалось меня сопровождать в школу. По утрам я первым выбегал к канаве и ждал, пока она не покажется из своей двери. Она появлялась – и мир заполнялся солнечным светом. Она звала, и я мчался в ее коллекцию. Она умывала меня под водоразборной колонкой, брала за руку и, не умолкая ни на миг, вела мимо «Светила», мимо окна дамы с кожистым зеленым растеньицем, а оттуда на улицу. До школы надо было добираться ярдов триста или чуть больше по прямой, свернуть за угол, пересечь главную улицу и пройти еще по тротуару. Мы то и дело останавливались, глазея на все подряд; объяснения Иви были куда интереснее школы. Ярче всего мне запомнилась лавка древностей. На скошенном подоконнике витрины, чуть ли не вровень с моим носом, шла надпись громадными золотыми буквами, надо полагать, название фирмы. В памяти осталась только одна позолоченная «W». Верно, потому, что я как раз добрался до этой буквы в букваре.
В той лавке имелись любопытные вычурные подсвечники. Стояли они на золоченом столике, и каждый увенчивался коническим колпачком, как наш будильник – зонтиком. Иви пояснила, что колпачок надо перевернуть, налить в него топленого воску, и тогда он будет гореть вечно. Это она видела в доме своей кузины в Америке – даже не в доме, а во дворце. Всю дорогу к школе она разливалась соловьем про этот дом, так что когда меня усадили за лист бумаги и дали цветных карандашей, я нарисовал ее дом – то есть дом ее кузины, с громадным низом, колоссальным верхом и колпачками, где пылало золотое пламя.
В ворохе всяческой мелочи на витрине отыскалась ложечка с черенком длиннее обычного. Иви рассказала, что одному дяденьке из этой ложечки дали отраву – по ошибке, думали, лекарство. Ложечку он тут же прикусил и давай метаться на кровати. Тут-то они и поняли, что влили в него яду, а не монастырского бальзаму, но было уже поздно. Тащат они эту ложечку, тащат у него изо рта, а все без толку. Тогда трое навалились сверху, еще трое ка-ак взялись тянуть, а черенок только удлиняется да удлиняется… и тут Иви припустила по тротуару, коленки ширк-ширк друг о друга, каблуки в стороны; она дергалась, хихикала и сама пугалась своей выдумки, а я несся за ней вслед, выкрикивая: «Иви! Иви!».
В сумрачной глубине магазинчика высились рыцарские латы, полный набор. Иви уверяла, что внутри стоит ее дядя. Вздор, конечно. Доспехи просматривались насквозь по неплотным стыкам. Но я никогда сомневался насчет дяди, ибо вера моя была безупречна. Просто решил, что он – необычное создание, весь в дырках, видать, оттого, что дядя был герцогом. Иви объяснила, что он стоит там, поджидая, когда можно будет ее вызволить. А все потому, что ее выкрали те самые люди, с которыми она сейчас живет, а в действительности она самая что ни на есть принцесса, так что в один прекрасный день он выйдет наружу и увезет ее в своем экипаже с морозно-узорчатыми стеклами… Я сразу понял, что это за машина. Все будут ликовать, уверяла Иви, но я-то знал, что буду стоять в сторонке на тротуаре, а бант Иви исчезнет точно так же, как исчезла белая шевелюра из лебяжьего пуха.
Должно быть, Иви следила за моими вскинутыми, доверчивыми глазами: не мелькнет ли в них искра сомнения, потому что вскоре ее рассказы обрели собственные крылья. Теперь я знал, что удостоился чести видеть распростертую предо мной душу, оказался посвящен в один из местных секретов Полишинеля. Но моя невинная доверчивость была условием, на котором зиждились эти откровения, так что я ничего из них не извлек. Иногда, призналась мне Иви, она становилась мальчишкой. Это она сообщила, взяв с меня клятву молчания, которую я теперь впервые нарушаю. Превращение, сказала она, происходит внезапно, оно болезненное и полное. Без малейшего предупреждения – раз! и готово, – после чего Иви ничего не оставалось делать, кроме как справлять малую нужду стоя – да-да, объясняла она, хочешь не хочешь, а деваться некуда. Приходилось облегчаться точно так, как это делал я. Мало того, после превращения она могла пускать струю выше, чем любой другой мальчишка в нашем переулке, понимаешь, да? Это-то я понимал и трепетал от потрясения. Мысль о том, что Иви отказывается от царственности и красоты своей юбки и натягивает заурядные штаны, стрижет накоротко гладкие волосы, забывает про банты… Ох! Я страстно взмолился: «Не надо, не надо превращаться в мальчишку!». «Так а что ж я могу поделать?» – рассудительно отвечала она. Тогда я с робостью ухватился за единственное утешение: «А можно мне самому превратиться в девочку, носить юбки и ленточку в волосах?». Ну уж нет, сказала она. Такие вещи происходят только с ней. Вновь я оказался в сторонке.
Я обожал Иви. Был убит горем и ужасом. Она же пестовала и лелеяла этот мой ужас как дань реальному положению дел. Когда это случится в следующий раз, пообещала она, я тебе покажу. Но это означало, что она сгинет из моей жизни, потому что я понимал, что никакой мальчишка уже не возьмет меня за руку, чтобы отвести в школу. Разве сумел бы я в целости и сохранности пройти мимо ее дяди и длинной ложки? Я умолял ее не превращаться – зная при этом, что мы бессильны перед лицом столь жуткой вещи, хотя и сохранил веру в то, что уж Иви-то сумеет управиться с нашим миром, даже если это не по зубам всем прочим людям. Я ревниво следил за проявлением симптомов. Если она уходила с игровой площадки в девчачью уборную, я стоял и терзался сомнениями: а что, если она отправилась проверить, как там у нее? Я вертелся под ногами, досаждал и, наконец, ей осточертел. Каким-то неясным мне образом она сама отдалилась. Вот и пришлось мне ходить в школу без присмотра, пересекать улицу, чтобы держаться подальше от дяди и ложечки, нырять в ворота иного мира.
Это был мой первый разрыв с Гнилым переулком, потому что Ивины рассказы связывали его со школой, хотя сам я не ощутил никакого перехода. Однако сейчас Гнилой переулок угодил в географический контекст и перестал был моей ойкуменой. И все же, когда я в научно-популярных журналах натыкаюсь на план раскопок чьих-то жилищ и читаю сухой реферат о гипотетической, реконструированной жизни, я задаюсь вопросом: а как будет выглядеть Гнилой переулок под лопатой археолога лет эдак через две тысячи после того, как в него угодила «Фау-2»? Фундаменты расскажут о планировке зданий и распорядке местной жизни. Они наврут нахальнее, чем Иви, хотя и скучнее. Ибо Гнилой переулок рычал и согревал, был незамысловатым и сложным, неповторимым и до странности счастливым мирком в себе. Он подарил мне две родственные и добрые души, за что я до сих пор ему благодарен: за мать, стоящую на пути мрака прошлого, и за Иви, за трепет от знакомства с ней и мое доверие к этой девочке. Мать по всем статьям была чуть ли не потаскухой, а Иви – прирожденной лгуньей. Ну и пусть; мне хватало лишь того, что они рядом. Я настолько живо помню наши отношения, что меня тянет родить афоризм: возлюбите без корысти, и да минут вас скорби. И тут в памяти всплывает, что случилось дальше.
Итак, я выбрался из-под Ивиной тени и стал обитателем двух сочлененных миров. Нравились оба. Подготовительный класс, где учительницы склонялись над нами как деревца, был местом для игр и открытий. Появились новые занятия, обнаружился высокий звонкий ящик, из которого одно из деревцев извлекало чарующую музыку. Под конец молитв, пока мы еще стояли шеренгами, музыка менялась, превращалась в марши. Нынче, заслышав уличный духовой оркестр, я нарочно сбиваю ногу, отвергая постыдность столь примитивной реакции, но в те дни я печатал шаг и надувал грудь. Я умел шагать в ногу.
Минни не умела ходить строем, да этого никто от нее и не требовал. Грузноватая была девочка. Ее конечности торчали по углам квадратного туловища, а крупное и довольно старческое личико вечно клонилось к плечу. Ходила она, нескладно выбрасывая руки и ноги. Сидели мы с ней на одной парте, и вот почему я обращал на нее внимание больше других. Если Минни хотелось взять цветной карандашик, это у нее получалось где-то с третьей попытки: пока одна рука тянулась к нему как-то сбоку, вторая взлетала в воздух как бы из сочувствия. Добравшись до цели, Минни резкими, судорожными движениями скребла по столу, пока карандаш не попадал ей в ладонь. Временами заточенный грифель оказывался сверху, и тогда Минни начинала корябать по бумаге тупым кончиком. Как правило, в такие минуты над нами нависало деревце и переворачивало карандаш, а однажды все карандаши, лежавшие с ее стороны парты, оказались заточенными с обоих концов, так что жизнь упростилась. Не могу сказать, нравилась мне Минни или нет. Она была явлением, которое полагалось принимать как и все прочее. Даже ее немногословная и косноязычная речь казалась естественной: да, Минни так разговаривает, и точка. Жизнь просто явила свою перманентность и неизбежность в данной конкретной форме, не более того. Развешанные по стенам картинки со зверушками и людьми в странной одежде, глина для лепки, деревянные счеты, книжки, банка на подоконнике с веткой липких каштановых почек – все это вкупе с Джонни Спрэггом, Филипом Арнольдом, Минни и Мейвис составляло неизменную данность.
Пришло время, когда мы почувствовали, что деревца раскачиваются под сильным ветром. Намечалась некая инспекция, и деревца прошелестели новость: дескать, грядет к нам дерево повыше, чтобы выяснить, счастливы ли мы, хорошо ли себя ведем и учимся. В школе вывернули наизнанку все шкафчики, пришпилили особенно удачные рисунки. Мои красовались на самом видном месте, и это, пожалуй, одна из причин, почему я столь живо помню то событие.
Как-то утром на молитве появилась незнакомая дама, а мы к тому дню уже успели дойти до известной взвинченности. Мы прочитали молитвы, довольно дрожащими голосками пропели псалом и принялись ждать маршевую музыку, под которую полагалось идти в класс. Однако порядок вещей переменился. Покамест мы стояли в шеренгах, незнакомая дама вышла вперед и, пригнувшись, начала по очереди спрашивать наши имена. Держалась она ласково и шутила, на что деревца отзывались смехом. Наконец, она добралась до Минни, а та была уже донельзя красной.
Дама наклонилась к Минни и спросила имя.
Нет ответа.
Одно из деревцев поспешило на помощь:
– Меня зовут М-м?..
Ласковая дама поняла. И тоже взялась помогать:
– Мэгги? Марджори? Миллисент?
Сама идея, что Минни могут звать как-то иначе, показалась такой глупостью, что мы захихикали.
– Мэй? Мэри?
– Маргарет? Мейбл?
Минни уделала пол и башмачки ласковой дамы. Она заревела белугой и напустила такую лужу, что ласковой даме пришлось отскочить в сторону. Забренчал звонкий ящик, мы сделали «напра-ВО! на месте шагом – МАРШ!» и гуськом потянулись в класс. Но уже без Минни. И на какое-то время остались без деревьев. Сколько ж было впечатлений и восторгов! Еще бы: наш первый скандал. Минни раскрыла свою суть. Все те странности, что мы принимали как должное и само собой разумеющееся, слились воедино, и теперь мы знали: она – чужак. Это нас тут же облагородило и возвысило. Минни – животное у нас в ногах, а мы занимаем высшую ступень. Позднее тем же утром одно из деревьев увело Минни домой, а мы стояли и глядели, как они идут сквозь ворота рука в руке. Больше мы ее не видели.









































