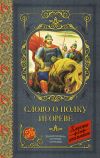Текст книги "Грех и святость русской истории"

Автор книги: Вадим Кожинов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
П.С. Коган, без сомнения, фактически и чисто «логически» совершенно прав. Но если взять за основу чистую логику, пришлось бы заново переписывать всю русскую литературу.
Так, эта литература многократно вершила настолько беспощадный суд над Иваном IV, что скульптор Микешин, создавая в 1862 году памятник «Тысячелетие России», должен был исключить этого царя из числа ста девяти изваянных им фигур выдающихся исторических деятелей. Между тем было бы вполне логично вспомнить, что за одну только ночь на 24 августа 1572 года (между прочим, как раз года отмены опричнины) по приказу короля Карла IX было зверски убито примерно столько же людей, «повинных» лишь в том, что они не были католиками, сколько убили палачи Ивана Грозного за восемь лет опричнины. Столь же уместно было бы напомнить и о том, что по указу другого современника Ивана IV – английского короля Генриха VIII были безжалостно повешены 72 тысячи людей, «виновных» лишь в том, что они стали бродягами в результате «огораживаний», то есть превращения арендуемых ими земельных участков в овечьи пастбища… Или о том, что за годы правления еще одного современника Ивана IV, испанского короля Карла V, были казнены около 100 тысяч еретиков, при этом значительная часть их подвергалась публичному сожжению на костре.[164]164
Когда при Иване III решался вопрос о сожжении нескольких вожаков «ереси жидовствующих», вокруг него, как показал историк Е.Е. Голубинский, шла долгая и острая полемика, причем «между мнениями сторон колебался престарелый государь, желавший очистить церковь от еретиков, но и боявшийся впасть при сем в грех жестокости». В конце концов победило мнение новгородского архиепископа Геннадия, который «знаком был с способами борьбы против еретиков со стороны католической инквизиции… В послании к Зосиме 1490 года он пишет: «Ано Фрязове по своей вере какову крепость держат сказывал ми посол кесарев (Николай Поппель, приезжавший в Москву путем на Псков и Новгород в 1486 году. – В.К.) про шпанского короля, как он свою землю очистил».
[Закрыть]
Но все такие напоминания были бы совершенно бессмысленны и бесполезны. Вся их «бесполезность» с предельной ясностью обнаруживается в том факте, что ведь сам Иван Грозный мучительно каялся и беспощадно осуждал себя за совершенные по его приказаниям казни!
Существо дела с замечательной выразительностью поясняет один эпизод духовной судьбы Александра Герцена. В 1847 году он уехал на Запад, унося в себе, как незаживающую рану, как сгусток боли и стыда за свою родину, память о пяти казненных и ста шестнадцати сосланных в Сибирь декабристах. И вот в июне 1848 года он стал потрясенным свидетелем казни около 11 тысяч восставших парижан, а затем «депортации» еще около 14 тысяч из них на тихоокеанский остров Нука-Ива.
Самосознание Герцена как бы дрогнуло… В его рассказе об этом чудовищном терроре (в «Письмах из Франции и Италии») присутствует сопоставление Франции с Россией (причем дело идет и о судьбе декабристов) – явно не в пользу первой. «Казаки… в сравнении с буржуазией… агнцы кротости…
Французы вообще любят теснить. Вы знаете, как они в прошлом веке «освобождали» Италию и какую ненависть возбудили в Испании – но это ничто перед тем, каковы они в междоусобии: тут они делаются кровожадными зверями, мясниками Варфоломеевской ночи… Нука-Иво далеко превосходит Сибирь. В Сибири климат свирепый, но не убийственный, ссылаемые на поселение (на депортацию)… не принуждены к поурочному труду, как во французских пенитенциарных колониях…»
И Герцен даже склонен прийти к выводу о какой-то патологической жестокости французов вообще. Он напоминает о «междоусобной» войне конца XVIII века: «В Марселе роялисты вырезали, избили всех мамелюков с их женами и детьми. В другом месте католики напали на протестантов, выходящих из церквей; часть их перебили и, раздевши донага, таскали их дочерей голых по улицам… Но разве якобинцы лучше поступали в департаментах? Нет, не лучше. Но это не только не утешительно, а, напротив, это-то и приводит в отчаяние, тут-то и лежит неотразимое доказательство кровожадности французов. С которой бы стороны победа ни была, – «оставьте всякую надежду», они безжалостны и невеликодушны, – они рукоплещут каждому успеху, каждой кровавой мере… Я стыжусь и краснею за Францию…» И тогда же, в частном письме, обращенном к «московским друзьям», бежавший из России Герцен говорит неслыханные слова: «Дай Бог, чтобы русские взяли Париж, пора окончить эту тупую Европу…» (!) – и, предвидя, что эти слова вызовут изумление и возмущение его друзей в Москве, обвиняет их: «Вам хочется Францию и Европу в противоположность России, так, как христианам хотелось рая – в противоположность земле… Неужели вы поверите в возможность такого военного деспотизма и рабства… если б нравы и понятия не делали его вперед возможным?…
Что всего страшнее, что ни один из французов не оскорблен тем, что делается». Итак, Герцен стыдится и краснеет за Францию, а сама Франция (что страшнее всего!) не испытывает никакого стыда… И все же Герцен не изменяет своей позиции: проходит некоторое время, и он обращает к миру свою «Полярную звезду», на обложке которой светятся силуэты пятерых русских мучеников…
Вспомним еще раз слова Достоевского: «Недаром заявили мы такую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев», которая «есть уже сама по себе признак величайшей особенности». И ведь в самом деле: в глазах Запада образ Ивана Грозного или казнь декабристов затмили образы его собственных кровавых королей и его бесчисленные казни. В 1826 году, ровно через неделю после воздвижения пяти тайных виселиц в Петропавловской крепости, в Испании перед толпами народа был сожжен на гудящем и слепящем костре еще один из нескольких десятков тысяч еретиков. Но кто вспоминает об этом и содрогается – так, как вспоминают и содрогаются о декабристах? И уж конечно, никто не «стыдится»…
Еще Иван Киреевский писал об одном коренном различии – о том, что человек Запада, «говоря вообще, почти всегда доволен своим нравственным состоянием; почти каждый из европейцев всегда готов, с гордостью ударяя себя по сердцу, говорить себе и другим, что совесть его вполне спокойна, что он совершенно чист перед Богом и людьми… Русский человек, напротив того, всегда живо чувствует свои недостатки и чем выше восходит по лестнице нравственного развития, тем менее бывает доволен собою. При уклонениях от истинного пути он… даже в страстные минуты увлечения всегда готов сознать его (увлечения. – В.К.) нравственную незаконность».
Впоследствии Достоевский не раз говорил о том же: «…пусть в нашем народе зверство и грех, но вот что в нем есть неоспоримо: это именно то, что он, в своем целом, по крайней мере (и не в идеале только, а в самой заправской действительности) никогда не принимает, и не примет, и не захочет принять своего греха за правду!»
Дело даже не только в «грехе», гораздо позднее, в 1943 году, Михаил Пришвин писал о неотразимом чувстве «стыда за свое русское, чересчур русское… Но мало того что стыда. Я, чистокровный елецкий потомок своего великорусского племени, при встрече с любой народностью – англичанином, французом, татарином, немцем (обращаю внимание: вдруг кто-нибудь не заметит – это написано в 1943 году! – В.К.), мордвином, лопарем – всегда чувствовал в чем-то их превосходство. Рассуждая, конечно, я понимал, что и в моем народе есть какое-то свое превосходство, но при встрече всегда терял это теоретически признаваемое превосходство, пленяясь достоинствами других».
Предваряя дальнейшее, стоит заметить, что безусловное «свое превосходство» как раз и выражается в этой способности «чувствовать превосходство» других…
* * *
Именно коренная способность и неотразимая потребность «самосуда» со всей силой выразилась и в присущей отечественной мысли самокритике искусства. Для Запада точка зрения, позиция, воля искусства есть нечто своего рода высшее и неподсудное.[165]165
Эта позиция может быть по сути своей эстетической, как в творчестве Флобера или, в существенно ином виде, Уильяма Морриса, либо прежде всего этической – как у Диккенса и, по-иному, у Гюго, но во всех случаях позиция эта выступает в качестве высшего, непререкаемого судьи, в качестве «последней инстанции».
[Закрыть]
…Кто холоден к гармонии прелестной,
Тот может быть изменником, лгуном.
С другой стороны, у Достоевского постоянно подвергаются беспощадному сомнению и испытанию правота и абсолютность этического содержания искусства, что особенно наглядно выступает, например, в «Записках из подполья», «Сне смешного человека», «Легенде о Великом инквизиторе». То, что являет собой последнее, уже неразложимое ядро «добра», «свободы», «правды» (в смысле справедливости) в искусстве Диккенса или Гюго, в русской литературе неожиданно предстает как ограниченность, самодовольство, догматизм. Против, казалось бы, навсегда утвержденных, неоспоримых идеалов выдвигаются иные – поистине «запредельные» – идеалы. Достоевский постоянно и резко боролся с мировосприятием, согласно которому «зло и добро определено, взвешено, размеры и степени определялись исторически мудрецами человечества».
Самокритицизм искусства с осязаемой силой выразился в «самосожжении» Гоголя, в безудержном отрицании искусства Толстым и – не столь драматически (или даже трагедийно, как у Гоголя) – в сосредоточении очень значительной части творческой энергии Достоевского на «Дневнике писателя», который доказывает, что воля художника не вмещалась в искусство как таковое.
Эти подчас катастрофические выходы за пределы литературы, конечно, не следует идеализировать или превращать в некую норму. Это крайние, если угодно, экстремистские выражения внутренней творческой воли русской литературы. Ими можно восхищаться как показателями этой самой воли, но нельзя не видеть, что в таких «крайностях» она рискует утратить (и в иных случаях и в самом деле утрачивает) творческий, созидательный характер.
«Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно, – писал Гоголь. – «Не оживет, аще не умрет», говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть».
Но мы знаем, что второй том не воскрес… Есть та мера в самоотрицании, которую нельзя переходить, хотя и соблюсти ее далеко не всегда возможно.
В то же время нельзя забыть, что именно эта беспредельность творческой воли породила высшие ценности русской литературы.
Вспомним гегелевское осознание сущностной основы Запада: «Принцип духовной свободы… был заложен… в душах германских народов, и на них была возложена задача… свободно творить в мире исходя из субъективного самосознания». Это значит, что, будучи раз рожден, Запад призван только развертывать из себя свои возможности. Между тем русское развитие предстает как ряд новых и новых рождений – точнее, духовных «воскресений» после самоотрицания.[166]166
Выше уже не раз заходила речь о христианстве, в русле которого много веков развивалась и русская, и западная культура. Чрезвычайно характерным различием западной и русской традиций является тот факт, что в Европе, безусловно, главный, всеопределяющий христианский праздник – Рождество, а на Руси – Воскресение (Пасха).
[Закрыть]
Это типично и для пути писателя, художника. Его самоотрицание (если, конечно, оно не преступает той грани, за которой уже царит стихия неостановимого разрушения) завершается воскресением искусства, его новым рождением, дарящим высочайшие художественные ценности. Вспомним, что в развитии Толстого «Войне и миру» предшествовало безоговорочное отрицание искусства, выразившееся, в частности, в полном уходе Толстого в педагогическую деятельность.
Но коренное свойство русской литературы, о котором идет речь, воплощается, конечно, не только в «смерти» и «воскресении» искусства – это лишь наиболее общее, так сказать, глобальное проявление существа дела, проявление, которое даже выходит далеко за рамки самого искусства, художественного мира, захватывая собою реальное поведение, реальную судьбу художника (он перестает творить, уничтожает свои творения, в конце концов гибнет сам, как Гоголь…). Слова Гоголя – «прежде нужно умереть, для того чтобы воскреснуть» – имеют прямое отношение и к основному художественному содержанию русской литературы в ее высших выражениях. Так, говоря попросту, герои русской литературы «ведут себя» так же, как ее творцы…
Достоевский, утверждая, что ничто в западной литературе не может «поравняться» с «Анной Карениной», опирается прежде всего на ту сцену, в которой Анна во время родов оказывается на грани смерти.
«…Мелкие, ничтожные и лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми, достойными имени человеческого, – естественною силою природного закона, закона смерти человеческой… Последние выросли в первых, а первые (Вронский) вдруг стали последними, потеряли весь ореол и унизились; но, унизившись, стали безмерно лучше, достойнее и истиннее, чем когда были первыми и высокими».
Это «умереть, для того чтобы воскреснуть» в самом деле определяет глубокую суть русской литературы, начиная со «Слова о полку Игореве», герой которого «умирает» в гибельном позоре плена (об этом уже шла речь выше), чтобы «воскреснуть» в плаче Ярославны и – одной из самых прекрасных во всем творении – сцене побега на Русь: «Прысну море полунощи; идут сморци мглами. Игореви князю Бог путь кажет из земли Половецкой на землю Русскую к огню злату столу…» На стадии высшего развития, в XIX веке, эта существеннейшая направленность русской литературы приводит к тому, что в ее содержании, в образах ее героев надстраивается, наращивается, так сказать, особенный пласт художественного бытия и смысла, не характерный для западной литературы. В сравнении с ее героями основные герои русской литературы обладают, в частности, своего рода избыточным самосознанием.
Можно сказать, например, что Раскольников и Андрей Болконский до какой-то точки, момента своего художественного бытия близки, даже однотипны с героями Бальзака (Раскольников) и Стендаля (Болконский). Но подлинная природа этих героев раскрывается лишь тогда, когда они обретают высшее самосознание, которое как бы обесценивает их предшествующее бытие и сознание (убийство в «Преступлении и наказании» и мгновения на грани смерти под небом Аустерлица в «Войне и мире»).
Речь идет, конечно, не о внешнем, поверхностном «надстраивании», но о громадном углублении образа, о «наращивании» его человеческой глубины. И в то же время герой как бы духовно вырастает над самим собой и с этой высоты оценивает заново себя и свою жизнь (рост этот связан с присущей русской литературе способностью видеть и судить себя «со стороны», глазами мира: герой и в этом отношении подобен своему творцу).
Существует точка зрения, согласно которой западная и русская литературы различаются прежде всего тем, что первая открыла и со всей силой утвердила человеческую личность, а вторая с небывалой мощью воплотила стихию народа. В этом, без сомнения, есть своя правда. Но все же дело обстоит гораздо сложнее. Ведь нельзя не заметить, что именно в русской литературе личность предстала с неведомыми ранее размахом и глубиной; с этой точки зрения образы героев Достоевского, Толстого, Лескова поистине не имеют себе равных. Короче говоря, русская литература развила и, более того, преобразовала оба «предмета» художественного воссоздания – и личность, и народ; при этом обе стороны нераздельно, органически взаимосвязаны.
Здесь опять-таки уместно сопоставить героев русской литературы и личности ее творцов. Творчество Толстого, Достоевского или Лескова ясно свидетельствует о том, что их сознание было полнозвучным воплощением всей целостности своего народа – и это действительно так и было. И именно потому сами личности этих творцов русской литературы (и созданных ими героев) обладают такой грандиозностью и глубиной.
Отличие русской литературы от западной в этом отношении столь существенно, что вполне целесообразно использовать для определения их содержания разные понятия: в западной литературе перед нами предстает индивид и нация (то есть национальная общность людей), а в русской – личность и народ.
Это, конечно, требует пояснений. Понятия «индивид» и «нация» несут в себе прежде всего смысл выделения, отграничения: индивид и нация – это нечто всецело самостоятельное, и это не то что другие индивиды и нации. Между тем в «личности» и «народе» важны не столько их самостоятельность, их отграниченность от других, сколько та их внутренняя глубина, которая заключает в себе всеобщую ценность.
Личность ценна прежде всего не своей особенностью, своеобразием (хотя она, конечно, невозможна без этого!), но богатством содержания и духовной высотой, которые имеют всечеловеческое значение. Точно так же в народе первостепенное значение и ценность имеют не его неповторимые черты (хотя без них он немыслим), но всеобщий, имеющий ценность для всех народов смысл бытия.
Все это имеет многообразные последствия в художественном мире. Так, если в западной литературе идея свободы индивида выступает как центральная и в известном смысле даже самоцельная, в русской литературе идея эта явно оказывается второстепенной, отступает на задний план.
«Не свобода, а воля», – утверждает толстовский Федор Протасов, имея в виду истинную и высшую ценность бытия. Воля личности, как она является в русской литературе, обращена к всемирному, вселенскому бытию, и те «ближайшие» внешние ограничения, которые способны полностью уничтожить свободу индивида, для этой воли оказываются только помехами, трудностями, препятствиями – пусть и тяжкими, но не могущими ее раздавить.
Характернейшим выражением этого может служить сцена из «Войны и мира», в которой пленный Пьер Безухов смеется над французскими солдатами: «Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня, – мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!..»
Высоко в светлом небе стоял полный месяц. Леса и поля, невидные прежде вне расположения лагеря, открывались теперь вдали. И еще дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я! – думал Пьер. – И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!» Он улыбнулся и пошел укладываться спать».
Нельзя не видеть и того, что самая полная свобода индивида ничего не дает воле личности, которая устремлена к бытию и смыслу, лежащим за пределами этой свободы.
* * *
Эти черты русской литературы, конечно же, неразрывно связаны с той ее главной чертой, которая раскрыта в «Речи о Пушкине» Достоевского: «…назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только… стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое…[167]167
В записях Достоевского есть существенное пояснение: «Великое недоразумение, исторически необходимое в просыпающемся русском сознании, но которое, конечно, исчезнет, когда русские люди взглянут прямо на вещи в глаза».
[Закрыть] Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей». Достоевский не раз оговаривал, что пока это глубоко и полно воплотилось только в литературе, но в то же время он неоднократно подчеркивал: «Нельзя же предположить смешную мысль, что природа одарила нас лишь одними литературными способностями. Все остальное есть вопрос истории, обстоятельств, условий, времени».
Достоевский, как и Чаадаев,[168]168
Выше уже шла речь о необоснованности причисления Чаадаева к западникам. Стоит привести и такое его характерное высказывание, смысл которого можно оспаривать, но нельзя спорить с тем, что западник не мог сказать что-либо подобное: «…наступит время, когда своего рода возврат к язычеству, происшедший в пятнадцатом веке и очень неправильно названный возрождением наук, будет возбуждать в новых народах лишь такое воспоминание, какое сохраняет человек, вернувшийся на путь добра, о каком-нибудь сумасбродном и преступном увлечении своей юности».
[Закрыть] по сути своей не был ни западником, ни славянофилом, хотя и его не раз пытались свести (как мыслителя) к славянофильству. На новой, уже осознанной основе он стремился восстановить ту всесторонность мировосприятия, которая была утрачена в послепушкинскую эпоху. Он исходил в своем понимании России не из замкнуто национальной, но из всемирной точки зрения – как и его предшественник Чаадаев, который писал в 1846 году, что после Петра «для нас было немыслимо продолжать шаг за шагом нашу прежнюю историю, так как мы были уже во власти этой новой, всемирной истории, которая мчит нас к любой развязке».
Рядом с этой постановкой вопроса, наиболее глубоко воплотившейся в духовном наследии Чаадаева и позднее, на новом этапе, – Достоевского, и западничество, и славянофильство предстают как «ограниченные» и, так сказать, чрезмерно связанные с восприятием Запада тенденции. Михаил Пришвин писал в 1950 году, что «и западники, и славянофилы в истории одинаково все танцевали от печки – Европы». Относительно западничества это очевидно. Что же касается той тенденции, которую называют славянофильством, то уже Чаадаев говорил о ней: «Страстная реакция… против идей Запада… плодом которых является сама эта реакция».
Необходимо, правда, со всей решительностью оговорить, что духовное наследие всех подлинно значительных писателей и мыслителей, так или иначе принадлежащих к западничеству или славянофильству, всегда было заведомо шире и глубже самих этих тенденций (что можно бы доказать убедительнейшими примерами). И в дальнейшем речь будет идти именно о ходячих тенденциях, но не о том неисчерпаемо богатом содержании отечественной мысли, которое развивалось в творчестве Александра Герцена или Ивана Киреевского.
Западничество как тенденция основано в конечном счете на убеждении, что русская культура (и в том числе литература) – это, в сущности, одна из западноевропейских культур, только очень сильно отставшая от своих сестер; вся ее задача сводится к тому, чтобы в ускоренном развитии догнать и, в идеале, перегнать этих сестер. С точки зрения славянофильства (опять-таки как общей тенденции) русская культура – это особая, славянская культура, принципиально отличающаяся от западных, то есть романских и германских, культур, и ее цель состоит в развертывании своих самобытных основ, родственных культурам других славянских племен. Но это представление об особом славянском существе русской культуры построено, конечно же, по аналогии или даже по модели романских и германских культур, которые уже достигли высшего расцвета; задача русской культуры опять-таки сводится к тому, чтобы догонять их на своем особом, славянском пути, стремясь к равноценному или, в идеале, еще более высокому расцвету.
Кардинальное отличие и западничества, и славянофильства от той мысли, которая воплотилась в духовном наследии Чаадаева и Достоевского, состоит в том, что русская культура в обеих этих теориях не несет в себе непосредственно всемирной миссии.
Национальные культуры Западной Европы в своем совместном, неразрывно взаимосвязанном творческом подвиге уже в XIX веке осуществили совершенно очевидную и грандиозную всемирную миссию. И западничество если и предполагало всемирное значение русской культуры, то только в ее присоединении к этому (уже совершенному!) подвигу; со своей стороны, славянофильство (как тенденция) видело цель в создании – рядом, наряду с романским и германским – еще одного (пусть даже глубоко самобытного) культурного мира, славянского, с русской культурой во главе.
Словом, и в том и в другом случае смысл и цель русской культуры воссоздаются как бы по западноевропейской модели, по предложенной Западом программе. Между тем в мысли Чаадаева и Достоевского русская культура имеет совершенно самостоятельный смысл и цель, а всестороннее и глубокое освоение западной культуры предстает как путь – разумеется, абсолютно необходимый путь – осуществления этой цели и этого смысла (всечеловечности).
Нельзя не сказать и о том, что с точки зрения западничества и славянофильства оказываются, в сущности, как бы ненужными, бессмысленными целые столетия истории русской культуры: для западничества – время с конца XV (ранее к Западу, допустим, мешало обратиться монгольское иго) до конца XVII века; для славянофильства – последующее время. Между тем Достоевский (как ранее Чаадаев) совершенно объективно оценил русское «стремление в Европу».
Но это была только одна сторона дела. В высшей степени замечательно, что Достоевский сразу после «Речи о Пушкине» (где со всей силой и ясностью провозглашено: «для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность…») обратился к теме Азии. В своей последней, предсмертной записной тетради 1880–1881 годов (большая часть ее была опубликована лишь в 1971 году) Достоевский снова и снова возвращается к этой теме: «Азия. Что Россия не в одной только Европе, но и в Азии, и что в Азии может быть больше наших надежд, чем в Европе… Россия хоть и в Европе, но Россия и Азия, и это главное, главное» и т. п.
В самом последнем выпуске «Дневника писателя» («Январь 1881 г.») Достоевский писал: «Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более, чем европейцы. Этот стыд, что нас Европа считает азиатами, преследует нас уже чуть не два века… Этот ошибочный стыд и этот ошибочный взгляд на себя единственно как только на европейцев, а не азиатов (каковыми мы никогда не переставали пребывать) – этот стыд и этот ошибочный взгляд дорого, очень дорого стоили нам в эти два века…»
Из всего контекста мысли Достоевского совершенно ясно, что речь идет не просто о взаимоотношениях с Азией, но и о другой – столь же необходимой – стороне русской всечеловечности.
В XV–XVII веках Россия была гораздо больше связана с Азией, чем с Европой; с конца XVII века Достоевский, как бы подводя итоги интенсивнейшего двухвекового «европеизма», провозгласил необходимость установить своего рода равновесие и «открыть окно» в Азию, оговаривая при этом, что вовсе не следует отворачиваться и «от окна в Европу».
Если вглядеться в развитие русской литературы за предшествующие 1880 году полвека, станет ясно, что мысль Достоевского ни в коей мере не была чем-то неожиданным. Достаточно подумать о чрезвычайно широко и глубоко освоенном русской литературой Кавказе, которому посвятили очень значительную часть своего творчества Пушкин, Лермонтов и Толстой, не говоря уже о целом ряде второстепенных писателей. Лермонтов говорил перед самой своей гибелью: «Зачем нам все тянуться за Европой?… Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания… Там, на Востоке, тайник богатых откровений».
Но дело здесь не просто в обращении к Азии; дело в самом характере этого обращения. С этой точки зрения поистине великолепен эпизод из «Путешествия в Арзрум», рассказывающий о встрече Пушкина с персидским поэтом Фазил-Ханом: «Я, с помощью переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие, но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умною учтивостью порядочного человека!.. Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей папахе и по крашеным ногтям».
Здесь исключительно важны слова «совестно» и «со стыдом», которые показывают, обнаруживают, что сознание безусловного равенства, братства с человеком Азии ни в коей мере не носит формального характера, но идет из глубины личности.
Атмосфера безусловного братства воплощена во всех творениях русской литературы, воссоздающих образы народов Азии, – и в лермонтовском «Герое нашего времени», и в кавказских повестях Толстого (в «Хаджи-Мурате» он со свойственной ему «крайностью» даже как бы переходит границу равенства, выдвигая на первый план черты превосходства горцев над русскими), и в поразительном по силе, явно недооцененном повествовании Лескова «На краю света» (о Якутии).
Здесь невозможно хотя бы даже назвать все произведения русской литературы конца XIX и XX века, связанные с темой Азии. Именно в 1880-х годах, то есть одновременно с осознанием всей важности и необходимости этой темы Достоевским, обратился к Азии – прежде всего к духовной жизни Индии и Китая – Лев Толстой. Глубокое выражение нашла азиатская тема в поэзии Бунина, Блока, Хлебникова, Клюева, Есенина, в повествованиях Лескова, Чехова, того же Бунина, Куприна, Пришвина, Шишкова, Андрея Платонова и т. д.
В этой сфере русской литературы едва ли не наиболее очевидно выявляется ее коренное расхождение с гуманизмом в западноевропейском смысле, поскольку тот основан на «объектном» отношении к другому человеку. Пусть речь идет даже о высоком сострадании к этому другому – все равно оно превращает его именно в объект сострадания, и герои Достоевского непримиримо сопротивляются такому состраданию. Все это глубоко и полно раскрыто в книге М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского».
В западной литературе достаточно много произведений, в которых с позиций последовательного гуманизма изображены люди Азии и Америки. Но это именно такое сострадание, в котором не воплощен дух подлинного братства.[169]169
В высшей степени характерно, скажем, что в американской литературе сочувственно изображаются, как правило, лишь те индейцы, которые мирно сотрудничают с выходцами из Европы; между тем в русской литературе о Кавказе сочувственно изображены как раз «немирные» горцы.
[Закрыть]
В «Герое нашего времени» Печорин отнюдь не проявляет специфически «гуманного» отношения к Бэле, Казбичу, Азамату; он, если угодно, вступает с ними в поединок. Но это поединок, безусловно, равных людей; у обеих сторон есть и свои слабости, и свое превосходство.
Выше приводились проникновенные слова Пришвина о том, что он «при встрече с любой народностью – англичанином, французом, татарином, немцем, мордвином, лопарем – всегда чувствовал в чем-то их превосходство». Это чрезвычайно существенный момент проблемы; дело в том, что равенство народов невозможно, немыслимо как некое тождество. Для подлинного установления равенства и братства необходимо увидеть и признать определенное превосходство другого народа.
Это отнюдь не означает какого-либо умаления своего народа. Тот же Пришвин, выражая неудовлетворенность рассказом Горького «О любви», писал ему: «Это могли бы написать и французы», утверждая тем самым «литературное» превосходство русской культуры. Вместе с тем в своем великолепном «Черном арабе», изображающем Казахстан, или в дальневосточной повести «Жень-шень» Пришвин воплотил дух безусловного братства с народами Азии.
Подлинное превосходство русских и состоит, если уж на то пошло, в способности подлинного братства с любым народом, которая, в свою очередь, опирается на способность (необходимую способность) из глубины духа признать определенное превосходство другого народа, что так прекрасно выразил Пришвин.
* * *
Но обратимся к самой проблеме Азии; глубокое ее осмысление – особенно сложная, важная и насущная задача. Дело в том, что за два столетия самого активного «европеизма» отечественное сознание подверглось очень сильному воздействию западного отношения к Азии, о чем с такой тревогой говорил перед смертью Достоевский. С наибольшей ясностью это выразилось в представлениях, сложившихся в России за XIII–XIX века о татаро-монголах, ставших ядром империи Батыя и его потомков, в вассальной зависимости от которой в XIII–XV веках находилась Русь. В принципе нет кардинального различия между этой империей и, скажем, империей Карла Великого, подчинившей себе европейские земли от Пиренеев до Дуная, народы – от арабов до чехов (можно взять и более поздний пример – империю Карла V). Однако в глазах Европы империя «азиатов» представала как нечто совершенно иное – чудовищное и, более того, «позорное» – именно потому, что дело шло об «азиатах».
Начиная с XVIII века такого рода восприятие азиатов в известной степени заразило и русское сознание. Ранее на Руси отнюдь не было этого специфического отношения к азиатам, в частности и к монголам.
В высшей степени характерно, что даже в пронизанной болью «Повести о разорении Рязани Батыем» образ монгольского вождя не лишен черт человечности: «И сказал царь Батый, глядя на тело Евпатьево: «О Коловрат Евпатий! Хорошо ты меня попотчевал с малой своею дружиною… Если бы такой вот служил у меня, – держал бы его у самого сердца своего». И отдал тело Евпатия оставшимся людям из его дружины… И велел царь Батый отпустить их и ничем не вредить им» (перевод Д.С. Лихачева).
Речь идет, разумеется, отнюдь не о каком-либо оправдании завоевателя. «Повесть о разорении Рязани Батыем» насквозь пронизана пафосом непримиримой борьбы с захватчиками, как и все другие произведения русской литературы XIII–XV веков, касающиеся монгольского нашествия. Но вместе с тем русское самосознание не разграничивало народы на «европейцев» и «азиатов»; любые завоеватели были неприемлемы, будь то немецкие рыцари или монгольские багатуры. Отношение к завоевателям определялось в русском сознании именно тем, что они завоеватели, однако это не вело к враждебности или хотя бы отчужденности в отношении какого-либо народа и его отдельных представителей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?