Текст книги "В. Скотт. Д. Дефо. Дж. Свифт. Ч. Диккенс (сборник)"
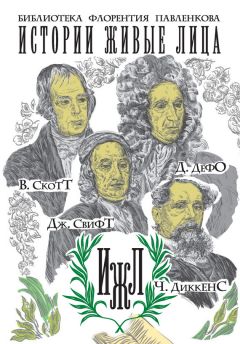
Автор книги: Валентин Яковенко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Глава III
1814–1825
Вальтер Скотт издает первый свой роман «Уэверли» и переходит на новое литературное поприще. – Успехи его как романиста. – Слава и известность. – Жизнь в Абботсфорде
7 июля 1814 года вышел в свет без имени автора первый роман Вальтера Скотта «Уэверли, или Шестьдесят лет тому назад». С одной стороны, ему хотелось, как он сам выражался в письмах, воскресить в форме романа старые исчезающие шотландские обычаи, с другой – его побудил перейти на новый литературный путь незначительный успех его последних поэм. Успех «Уэверли» превзошел все ожидания автора, скрывшего свое имя. Все журналы заговорили о новом литературном светиле; это так поощрило Вальтера Скотта, что он тотчас принялся за новый роман, и через шесть недель был готов «Гай Маннеринг». К такой лихорадочной деятельности его побуждало также расстройство коммерческих дел Балантайна, в фирме которого находились все его деньги.
В то же время он сделал последнюю попытку в области поэзии и написал поэму «Повелитель островов» – произведение, имевшее сравнительно небольшой успех. Что касается «Гая Маннеринга», то издание в две тысячи экземпляров было распродано в два дня, и это окончательно заставило автора бросить поэзию и перейти на новое литературное поприще. С тех пор Вальтер Скотт написал только две небольшие поэмы: «Ватерлоо» и «Гарольд», подтвердившие упадок его стихотворного таланта. Он энергично принялся за свои романы и в течение одиннадцати лет, то есть до 1825 года, издал двадцать один роман в пятидесяти восьми томах. Невозможно подробно говорить о каждом из них, но нельзя не упомянуть о тех, которые английской читающей публикой признаются лучшими. В 1816 году появился «Антикварий». Это было любимое произведение Вальтера Скотта, но сначала оно понравилось менее «Гая Маннеринга», хотя впоследствии пользовалось такою же известностью. О первых трех вышеназванных романах Гёте выразился так: «Все в них прекрасно: материал, исполнение, действие, типы». К концу того же года вышли «Черный карлик» и «Старый смертный». Хотя и здесь Вальтер Скотт не подписался, но все узнали автора «Уэверли». Критика расхвалила «Старого смертного» еще более, чем предыдущие романы. И действительно, он заслуживал подобных похвал. Для «Уэверли» материалом служили юношеские мечты автора, в «Антикварии» и «Гае Маннеринге» он описывал обычаи и типы, лично ему знакомые; что же касается «Старого смертного», то ему пришлось изучать целые библиотеки старинных хроник, чтобы воскресить отдаленную историческую эпоху. «Черный карлик» и «Старый смертный» составляют первую серию «Рассказов моего хозяина». Во вторую вошли «Роб Рой» и «Сердце Мидлотиана», появившиеся в течение следующих двух лет. Оба были очень популярны. Во втором из них выведены типы шотландского простонародья, которому Вальтер Скотт весьма сочувствовал; он вообще высказывал мнение, что в добрых простых людях из народа лучше виден характер нации, чем в представителях высших слоев общества. Третья серия «Рассказов моего хозяина» заключает в себе «Ламермурскую невесту», которую Вальтер Скотт диктовал во время тяжелой болезни; замечательно, что, выздоровев, он ничего не помнил из своего романа, кроме главных эпизодов, знакомых ему с детства, так как рассказ был основан на истинном происшествии. Гладстон, говоря с величайшею похвалою о «Ламермурской невесте», обращает особенное внимание на искусство, с которым Вальтер Скотт сумел наряду с глубоким трагическим элементом представить веселый юмор и комизм, выраженные в личности Калеба Бальдерстона, одного из лучших созданных автором типов. Третья серия «Рассказов моего хозяина» включает еще одну повесть – «Легенду о Монтрозе».
В 1820 году вышел «Айвенго», который многими считается величайшим произведением Вальтера Скотта – как по историческому значению, так и по художественности исполнения. С его появлением литературная слава автора достигла своей высшей точки. Изданные затем «Монастырь» и «Аббат» имели гораздо меньший успех – может быть, вследствие того, что автор ввел в них фантастический элемент. «Замок Кенильворт» и «Квентин Дорвард», однако, подняли репутацию Вальтера Скотта на прежнюю высоту; последний роман особенно читался во Франции, так как в нем изображена эпоха Людовика XI. Остальные романы, вышедшие до 1825 года, гораздо слабее; «Судьба Пейджеля» и «Певерил Пик» относятся к истории Англии, «Обрученница» и «Талисман» – к эпохе Крестовых походов; в «Пирате» мы находим картины быта Шотландских островов, а «Редгонтлет» и «Сен-Ронанский источник» описывают современную автору жизнь. В «Редгонтлете» много любопытных сведений о юности автора. Прибавим, что читатели приняли очень холодно два последних романа.
Популярность Вальтера Скотта была неслыханная. Ни один автор романов до того времени не пользовался подобною славою, и, несмотря на это, он сумел на некоторое время сохранить тайну своего имени. В предисловии к общему собранию своих романов автор объясняет, почему сделал это: во-первых, он сначала боялся пошатнуть свою поэтическую известность неудачною попыткою в новой литературной отрасли, во-вторых, считал несовместным звание романиста со своим общественным и служебным положением и к тому же не терпел разговоров о собственных литературных трудах. Нужно сказать, что интерес, возбужденный таинственным автором «Уэверли», был настолько велик, что вызвал появление множества статей и целых сочинений, занимавшихся рассмотрением вопроса о том, кто такой «великий неизвестный». Называли то брата автора, Томаса Скотта, то товарищей его, Эрскина и Элисса, то критика Джеффрея и многих других. Между тем на континенте имя его уже появлялось на переводах его сочинений.
Литературная деятельность В. Скотта в этот период его жизни не ограничивалась одними романами. Он издавал различные исторические материалы, писал критические статьи в журналах, давал обзоры современных исторических событий в «Эдинбургском ежегоднике», принимал участие в «Британской энциклопедии», составил биографию Смоллета, Стерна и других английских писателей и сочинил две драмы – «Голидонская гора» и «Макдуфский крест», за которые восторженные поклонники превозносили его, между тем как даже Локгарт находил их плохими. Под названием «Письма Павла к родственникам» Вальтер Скотт описал свою поездку во Францию в 1815 году после сражения при Ватерлоо. Письма эти отличаются безыскусным откровенным тоном и были сначала адресованы жене и друзьям. Хотя автор являлся в них односторонним англичанином-тори, они тем не менее изобилуют интересными историческими анекдотами и местами весьма юмористичны.
В течение описываемого в «Письмах Павла» пребывания Вальтера Скотта в столице Франции союзные государи и их полководцы оказали ему большое внимание, и он впоследствии любил рассказывать о своем свидании с императором Александром I. Он был представлен государю на обеде у лорда Каткарта и там же познакомился с атаманом Платовым, который, хотя и не мог объясняться с ним ни на одном языке, но тем не менее очень его полюбил и приглашал выехать с ним на следующий парад, обещая дать ему самую смирную украинскую лошадь.

Иллюстрация к роману «Ламмермурская невеста», который был опубликован в 1819 г.
Чарльз Роберт Лесли. 1886 г.
Блюхер тоже оказал ему большие любезности, но это не помешало Вальтеру Скотту очень насмешливо отзываться о пруссаках. Вообще, в этот период своей жизни Вальтер Скотт мог назваться вполне счастливым человеком. Помимо самых благоприятных семейных обстоятельств, на его долю выпали почет, слава и, наконец, давно желанное богатство.
Как секретарь уголовного суда он получал тысячу триста фунтов стерлингов, как шериф – триста и выручал за свои сочинения не менее десяти тысяч фунтов стерлингов в год. Давно лелея мечту основать особую отрасль древнего рода Скоттов и достигнуть положения средневекового вождя шотландского клана, он стал скупать разные поместья, покинул скромный Ашестьель и переселился на берега Твида в имение, которое назвал Абботсфорд (то есть Брод аббата) в честь соседнего брода на Твиде и Мельрозского аббатства. Мало-помалу Вальтер Скотт скупил все соседние земли у мелких собственников, которые, пользуясь его добротою и щедростью, продавали ему голые пустыри за баснословные цены. Он с любовью устраивал свое новое жилище, которое, по словам Локгарта, сделалось чем-то вроде литературной Мекки, куда стекались принцы, аристократы и литераторы – английские и иностранные.
В 1818 году принц-регент пожаловал романисту титул баронета и тем отчасти удовлетворил его феодальные мечты. Абботсфорд до настоящего времени сохранился без всякого изменения. Это замок с бесконечными шпицами, башенками и балконами; вокруг стоят роскошные леса, посаженные поэтом в дотоле бесплодной местности. Все внутри дома сохраняется потомками Вальтера Скотта в том виде, в каком было при нем: оружие и картины остались в прежнем порядке, книги стоят на тех же местах в библиотеке, заключающей до семидесяти тысяч томов. В бывшем рабочем кабинете поэта, в нише под стеклянным колпаком, хранится одежда, которую он носил перед смертью: широкий зеленый сюртук с большими пуговицами, клетчатые панталоны, тяжелые башмаки, шляпа с большими полями и толстая трость. В Абботсфорде Вальтер Скотт проводил большую часть года, и жизнь семьи здесь была такой же, как и в Ашестьеле, то есть носила вполне семейный, патриархальный характер.
Знаменитый американский писатель Вашингтон Ирвинг, сочинения которого Вальтер Скотт высоко ценил, посетил Абботсфорд в 1817 году и так описывает свою поездку: «Шум моего экипажа нарушил спокойствие усадьбы. Раньше всех выскочила стерегущая замок черная борзая и, вскочив на камни ограды, подняла свирепый лай. Эта тревога вызвала наружу целый бешено лающий собачий гарнизон. Вскоре показался сам хозяин. Я сразу узнал романиста, так как видел его портреты. Он, прихрамывая, шел по песчаной аллее, опираясь на большую трость, но двигаясь быстро и энергично. Около него шла большая охотничья собака стального цвета; она вела себя совершенно степенно, не принимала участия в шуме, производимом ее собратьями, и, видимо, считала, что должна поддержать честь дома и вежливо встретить меня. Еще не доходя до ворот, Скотт крикнул мне радушным голосом приветствие и осведомился о Кэмпбле (давшем Ирвингу рекомендацию к Вальтеру Скотту). Подходя к дверце экипажа, он крепко пожал мне руку и сказал: “Подъезжайте же скорее к дому, вы как раз поспели к завтраку, а после вы увидите все чудеса Мельрозского аббатства”. Я отказался было идти за стол на том основании, что уже завтракал. “Нет, нет, постойте, – перебил Скотт. – Утренняя поездка по шотландским холмам дает полное право завтракать во второй раз”. Меня быстро подвезли к дому, и через несколько минут я уже сидел за столом. Не было никого, кроме семьи Скотта, состоявшей из госпожи Скотт, старшей дочери Софии – красивой девушки лет семнадцати, Анны, моложе ее на два-три года, подростка Вальтера и Чарлза, веселого мальчика одиннадцати или двенадцати лет. Я скоро почувствовал себя как дома и от души счастливым благодаря радушию хозяев. Мне хотелось просто сделать утренний визит, но скоро стало ясно, что меня отпустят не так быстро.
“Вы не должны думать, что осмотреть наши окрестности так же легко, как просмотреть утром газету, – сказал Скотт. – Они требуют нескольких дней изучения от наблюдательного путешественника, питающего известную слабость к старосветскому хламу. После завтрака вы посетите Мельрозское аббатство; мне нельзя пойти с вами, так как у меня есть кое-какие хозяйственные дела, но я поручу вас моему сыну Чарлзу: он глубокий знаток всего, что касается старой развалины и ее окрестностей. Он и мой друг Джонни Бауэр скажут вам всю правду о ней и еще очень многое, чему вы не обязаны верить, если вы не истинный и ни в чем не сомневающийся антикварий. Когда вы вернетесь, мы пойдем с вами побродить по окрестностям. Завтра мы осмотрим Ярроу, а послезавтра съездим в Драйбургскую обитель, прекрасную старую развалину, стоящую осмотра”. Одним словом, Скотт еще не успел окончить изложения всех своих планов, как я уже обещал остаться на несколько дней, и мне казалось, что я сразу очутился в заколдованном царстве романтизма».
После завтрака, в то время как Вальтер Скотт, по всей вероятности, писал главу из «Роб Роя», Ирвинг в обществе Чарлза осмотрел Мельрозское аббатство и долго разговаривал со стариком Бауэром, сторожем его, который с удовольствием делился своими сведениями с друзьями шерифа. «Он иногда приходит сюда, – рассказывал Джонни, – в обществе важных господ и тотчас зовет: “Джонни, Джонни Бауэр!” – и когда я выхожу к ним, я наверно знаю, что он встретит меня шуткой и ласковым словом. Он будет стоять и болтать со мной и шутить не хуже деревенской кумушки – и подумайте, это ведь человек с таким страшным знанием истории!» По возвращении из аббатства Ирвинг нашел Вальтера Скотта уже готовым к прогулке.
«Когда мы пошли, – пишет он, – все собаки поместья явились, чтобы сопровождать нас. Домашние животные Скотта были его друзьями. Все, что его окружало, исполнялось видимой радостью в его присутствии. Когда мы пришли на холмы, откуда видна была значительная часть окрестностей, Вальтер Скотт сказал: “Теперь я привел вас, как странника в «Путешествии пилигрима» Беньяна, на вершину гор наслаждения, чтобы показать Вам все эти прекрасные места…” Я некоторое время смотрел вокруг себя с немым изумлением, могу сказать, почти с разочарованием. Все пространство, которое мог обнять мой взор, состояло из непрерывного ряда волнистых холмов; вся местность была однообразна и совершенно безлесна.
Я не мог не выразить своих мыслей вслух. Скотт что-то пробормотал про себя и серьезно взглянул на меня… “Это, может быть, упрямство с моей стороны, – сказал он наконец, – но я продолжаю утверждать, что, на мой взгляд, эти серые холмы и вся эта дикая порубежная страна обладают своеобразною красотою. Я люблю саму безлесность этой местности; она открыта, сурова и уединённа. После того как приходится пропутешествовать несколько времени среди прекрасных окрестностей Эдинбурга, похожих на роскошные сады, я начинаю тосковать по моим убогим, серым холмам; и, если бы я не увидел вереска хоть раз в течение года, мне кажется, я бы умер”».
Время от времени в Абботсфорде устраивались сельские праздники, куда собирались окрестные жители и все члены фамилии Скоттов, от поселянина до герцога. Среди увеселений первое место занимала Абботсфордская охота, происходившая ежегодно в день рождения старшего сына. В ней тоже принимали участие все соседи, и за стол садились не менее тридцати или сорока человек; время проходило в шумном веселье, в котором сам хозяин принимал живейшее участие. Еще веселее были праздники после жатвы, справлявшиеся по всем правилам древнего феодального этикета. Бывали там и аристократические празднества по поводу приезда каких-либо знаменитостей, например принца шведского Густава Вазы, принца Саксен-Кобургского и других, но настоящий бал дан был только один раз, по случаю окончательного устройства Абботсфорда и помолвки старшего сына сэра Вальтера Скотта. В Эдинбурге Вальтер Скотт, несмотря на свою славу и богатство, вел такую же жизнь, как и прежде: ревностно исполнял обязанности секретаря уголовного суда, занимался литературой, а свободное время посвящал обществу. В числе его друзей были его издатели Балантайны и Констэбль, но круг его знакомства не ограничивался одними литераторами, сослуживцами и родственниками. С ним старались сблизиться представители самых высших слоев общества. Так, во время своей поездки в Париж он познакомился с герцогом Веллингтоном, который всегда затем оказывал ему дружеское внимание. Что касается Вальтера Скотта, то он, как горячий патриот-тори, чуть не поклонялся великому полководцу. Точно так же принц-регент, впоследствии король Георг IV, очень ценил Вальтера Скотта и предложил ему титул поэта-лауреата (придворного поэта) с жалованьем в четыреста фунтов стерлингов, но романист отказался от него ввиду стесненного материального положения многих других литераторов и предложил на эту должность поэта Саути. В числе известных писателей, бывших друзьями Вальтера Скотта, нужно назвать Крабба, Вордсворта, Мура и Байрона. Сначала Скотт и Байрон были соперниками и даже вели между собой литературную полемику, но впоследствии они познакомились в Лондоне и весьма близко сошлись, несмотря на то что один был добродушным оптимистом, а другой – страстным и желчным пессимистом. Впоследствии друзья всегда отзывались друг о друге с симпатией и уважением.

Вальтер Скотт в саду.
Эскиз Дж. Слейтера
Последнюю поездку свою в Лондон Вальтер Скотт предпринял в 1821 году по случаю коронации принца-регента. Эта церемония была совершена с величайшим феодальным великолепием и порадовала сердце потомка древних рыцарей. Когда Георг IV приехал в 1822 году в Эдинбург, Вальтер Скотт был главным распорядителем блестящей встречи, устроенной для него жителями. Писатель в течение всей своей жизни относился с величайшим уважением и преданностью к своему королю, и по мере того как король становился консервативнее, можно было наблюдать такое же усиление консерватизма и в романисте. Прибавим, что Вальтер Скотт вообще мало занимался политикой, а если ему и случалось касаться ее, то он всегда высказывался как крайний консерватор.
В 1825 году старший сын романиста, поступивший на военную службу, женился и переехал с женою в Дублин, где стоял его полк. В июле того же года Вальтер Скотт с дочерью Анною и Логкартом, уже несколько лет женатым на старшей его дочери Софии, поехал в Ирландию с целью посетить сына и проехаться по некоторым из живописных ирландских графств. Два месяца, проведенные им в Ирландии, были, по его собственным словам, нескончаемой овацией, особенно в Дублине, где все, от лорда-наместника до последнего лавочника, наперерыв старались выразить уважение и симпатию великому английскому романисту.
Глава IV
1825–1830
Банкротство Балантайна и Констэбля. – Разорение Вальтера Скотта. – Семейные печали. – Смерть леди Скотт
Путешествием в Дублин оканчивается счастливая эпоха в жизни Вальтера Скотта. Все его богатство, все его феодальное величие как главы Скоттов оказалось основанным на песке и рухнуло вследствие страшного коммерческого кризиса, разразившегося в Англии в 1825 году. Прежде всего обанкротились агенты Констэбля, книгопродавцы Герт и Робинзон; затем – Констэбль и Джеймс Балантайн (Джон Балантайн незадолго до этого умер). Это было сильным и совершенно неожиданным ударом для романиста, который сначала, однако, еще надеялся на счастливый исход дела. Мы приводим ниже выписки из его дневника, что лучше всего покажет, каким образом он отнесся к собравшейся над его головою грозе. 14 декабря 1825 года он занимает еще десять тысяч фунтов стерлингов под поместье и отдает их фирме для поддержания ее дел, надеясь этим все поправить и получить возможность спать спокойно.
«18 декабря. Если дела пойдут дурно в Лондоне, то жезл чародея выпадет из рук неизвестного. Его тогда поистине назовут “слишком хорошо известным”. Сказочный пир фантазии исчезнет вместе с чувством независимости, у него отнимется радостная уверенность, что утром он может просыпаться с веселыми мыслями и спешить передать их бумаге; ему невозможно уже будет подводить каждый месяц итог этим мыслям, как средствам для насаждения лесов и покупки пустырей, заменяя сказочные мечты другими мечтами о будущих прогулках по глухим рощам к уединенным источникам и местам, которые дороги влюбленным. Этого больше не будет; но я могу заняться степенным хозяйственным делом, то есть писать историю и тому подобное. Такие труды не встретят прежнего восторженного отношения; вообще мое мнение таково: если узнают, что автор принужден писать для зарабатывания куска хлеба или, во всяком случае, для улучшения своего материального положения, то это унизит его и его произведения в глазах публики. Ему уже не станут оказывать прежнего уважения. Это – горькая мысль, но если она вызывает слезы, то пусть они льются. Мое сердце связано с созданным мною поместьем – едва ли есть там хоть одно дерево, которое не я бы посадил. Что за жизнь была моя! – Полуобразованный, почти совершенно предоставленный самому себе, я набивал свою голову всяким вздором, и товарищи долго ценили меня меньше, чем я того стоил. Затем я пошел вперед, и меня считали смелым и умным малым, вопреки всем тем, кто видел во мне только мечтателя; в течение двух лет страдал я душою и хотя потом излечился, но старые раны будут отзываться до могилы. То богач, то нищий, накануне разорения я открыл почти неиссякаемый источник богатства. Теперь, на вершине гордости, я разбит и почти совершенно обезоружен, – если не получится хороших известий, – и все только потому, что Лондону угодно волноваться… И вот в свалке буйволов и медведей бедный кроткий лев не знает куда деться.
Чем это кончится? Бог один знает – другого ответа нет. В конце концов, никто по моей вине не потеряет ни одного пенни – это мое утешение. Люди подумают, что гордость по справедливости наказана. Пусть они в своей гордости утешаются мыслью, что мое падение сделает их выше или даст им возможность хоть казаться выше. Мне же будет служить удовлетворением мысль, что мое благосостояние принесло выгоды многим, и надежда, что хоть некоторые простят мне мое временное богатство за чистоту моих намерений и за искренность моего желания делать добро бедным. Многие сердца опечалятся в коттеджах Абботсфорда. Я наполовину решил никогда не возвращаться туда. Как могу я войти в мой дом после такого унижения? Как жить запутавшимся в долгах бедняком там, где я был некогда так богат и уважаем? Я должен был вернуться туда в субботу, веселый и счастливый, и хотел принимать там друзей своих. Мои собаки напрасно будут ждать меня. Это ребячество, но мысль расстаться с этими бессловесными тварями более расстроила меня, чем все только что записанные печальные размышления. Бедные животные, нужно подыскать им хороших хозяев! Может быть, найдутся люди, которые, любя меня, будут любить и моих собак за то, что они были моими. Но мне необходимо покончить с этими мрачными предчувствиями – или я потеряю то душевное настроение, с которым человек обязан встречать горе. Мне кажется, что я чувствую, как моя собака кладет мне лапу на колено, мне слышится вой, с которым она ищет меня повсюду. Это вздор, конечно, но добрые твари проделали бы все это, если бы могли понимать настоящее положение вещей. Мне приходит в голову странная мысль: когда я умру, будет ли вынут дневник этот из роскошной конторки в Абботсфорде и прочитан с удивлением, что богатый баронет когда-то испытал страх такого удара, или его найдут в какой-нибудь бедной меблированной квартирке, где обедневший потомок рыцарей повесил свой герб и где два-три старых друга грустно посмотрят один на другого и прошепчут: “Бедный человек с добрыми намерениями… Враг только самому себе… Надеялся, что у него неиссякаемый источник… Зачем только он принял этот глупый титул?” Кто может ответить на этот вопрос? Бедный Билль Лэдлоу! Бедный Том Пурди! От таких известий заболит сердце у вас и у многих других бедняков, которым мое благосостояние давало насущный хлеб… Балантайн поступает так, как того можно было ожидать, и меньше думает о своих потерях, чем о моем разорении. Я старался обогатить его – а теперь, теперь все пойдет прахом. Но у него останется журнал – это утешительно. Наверное, им не найти лучшего издателя. Им, – кто будут эти они, эти неизвестные новые заправилы, которым будет дано право располагать как им будет угодно всем, что мне принадлежит. Какой-нибудь сухой банкир – кто-нибудь из этих обладателей миллионов! Я попытался отделаться от этих печальных мыслей, записывая их; я успокоюсь еще больше, принявшись за “Историю французского Конвента”. Благодарю Бога, что могу работать с разумным спокойствием. Как-то Анна перенесет это несчастье? Она горяча, но тверда в серьезных обстоятельствах, хотя раздражительна в мелочах. Мне приятно, что Логкарт и его жена уехали. Не могу сказать – почему, но я рад, что мне придется переживать мое горе в одиночестве и что никто не расстроит меня соболезнованиями, как бы искренни и нежны они ни были.
Половина девятого. Я закрыл эту тетрадь в ожидании грозящего мне разорения. Через час я открываю ее (благодаря Бога) с надеждою, что все устроится благополучно и честно в коммерческом смысле. Каделль приехал в восемь и прочел письмо от Герста и Робинзона, извещающее, что они выдержали грозу…
19 декабря. Балантайн был здесь перед завтраком. Он с доверием относится к вчерашним новостям. Констэбль зашел и просидел с час. Старый джентльмен тверд как скала. Он хочет на будущей неделе ехать в Лондон. Надо, однако, сесть за работу.
22 декабря. Я написал вчера шесть мелко исписанных страниц, что составит около двадцати четырех страниц печатных. Но всего лучше то, что они удачны… Напев одной народной песни звучит у меня сегодня целый день в ушах, и я перед обедом написал стихи для него… Интересно было бы знать, хороши ли они… Ах, бедный Вилль Эрскин, ты мог бы мне сказать это и сказал бы… Не знаю, что могло заставить меня совершить нечто столь необычное для меня за последние годы, а именно по собственной воле написать стихи. Я думаю, что это свершилось по тому же импульсу, по которому птицы поют, когда пройдет гроза.
24 декабря. У Констэбля новый план: издать сочинения автора Вэверлея более роскошно. Он говорит, что может заработать на этом до двадцати тысяч фунтов стерлингов, и щедро предлагает мне какую угодно долю в барышах. Я не имею особенных прав на них, так как мне придется написать только примечания, что не особенно трудно; в то же время получить несколько тысяч было бы хорошим делом…
14 января. Получено странное, таинственное письмо от Констэбля, уехавшего в Лондон на почтовых. Оно похоже на одно из тех писем, которые люди пишут, когда хотят намекнуть на грозящую неприятность, но не высказываются о ней прямо. Я думал, что он две недели тому назад был в Лондоне, чтобы распорядиться имуществом для уплаты по обязательствам, как и должен был сделать. Хорошо, я принужден быть терпеливым… Но этот страх очень томителен… Балантайн в своем письме упоминает о поездке Констэбля, но не выражает особенных опасений. Он хорошо знает Констэбля, видел его перед отъездом и не сомневается в том, что тот сумеет разобрать все, что бы там ни было запутанного. Поэтому я не стану беспокоиться. Я уверен, что сумею не поддаться тревоге. Я не вижу, почему с Божьей помощью нельзя отогнать тревожные мысли, предвещающие зло, но не исправляющие его!»
В Лондоне Констэбль не мог ничего сделать. Герст и Робинзон были не в состоянии выдержать, несмотря даже на помощь Констэбля, который бесился, бросался из одного банка в другой за ссудой под издания и просил Вальтера Скотта занять для него в Эдинбурге двадцать тысяч фунтов и переслать их в Лондон. Но раньше еще, чем эта просьба дошла до романиста, компаньон Констэбля откровенно признался ему, что дела фирмы окончательно и безнадежно расстроены.
Мистер Скин рассказывал потом Логкарту, что в тот вечер, когда Вальтер Скотт узнал о несостоятельности Герста и Робинзона, он обедал у него и находился в своем обыкновенном расположении духа, причем вел веселую, непринужденную беседу о разных предметах; но при прощании романист прошептал хозяину: «Скин, мне нужно кое о чем переговорить с вами; будьте столь добры и загляните ко мне завтра, когда будете отправляться в парламент». На следующий день, в половине десятого утра, Скин заехал к Вальтеру Скотту и застал его за работою в кабинете. Он встал при входе гостя и сказал: «Друг мой, пожмите мне руку – руку нищего».
Вальтер Скотт рассказал ему также, что Балантайн только что был и сообщил о полном и неминуемом их разорении; затем он прибавил: «Не думайте, что я засяду дома и в бездействии буду горевать о том, чему нельзя помочь. Я работал над “Вудстоком”, когда вы вошли, и тотчас же снова возьмусь за перо, как только вернусь из суда. Я намереваюсь опять обедать с вами в воскресенье и надеюсь сообщить вам, что моя работа подвинулась». И действительно, в течение следующих дней он написал почти полкниги.
Когда подвели итоги долгам фирмы Балантайна, то оказалось, что сумма их дошла до ста семнадцати тысяч фунтов стерлингов, при этом ответственным лицом являлся один только Вальтер Скотт, так как Балантайн не имел никакого состояния. Констэбль оказался должным еще большую сумму. Если бы Вальтер Скотт согласился поступить чисто коммерческим образом и объявить себя несостоятельным, то после продажи его собственности кредиторы получили бы гораздо больший процент, чем кредиторы Констэбля; сам романист освободился бы от всяких долгов и мог бы опять нажить себе большое состояние. Но Вальтер Скотт не мог никогда забыть, что он прежде всего «джентльмен», поэтому он решил заплатить все, до последнего гроша, и только попросил кредиторов дать ему несколько лет отсрочки. Со всех сторон ему предлагали денежную помощь. Старший сын и невестка отдавали ему все свое состояние; эдинбургские и лондонские банкиры также высказали готовность помочь романисту; неизвестное лицо открыло ему кредит в тридцать тысяч фунтов стерлингов. Глубоко тронул бедного поэта мистер Пуль, учитель музыки его дочери, который принес ему все свои сбережения, равнявшиеся пятистам фунтам стерлингов. Но как бы там ни было, Вальтер Скотт не принял ни одного из этих предложений и на все давал один и тот же ответ: «Я не возьму в долг ни одного пенни, а уплачу все – или умру за работой». Кредиторы, со своей стороны, уже через несколько дней начали высказываться в смысле благоприятном для должника, и Вальтер Скотт ожил при мысли, что его предложение будет принято. Дневник его за это время содержит весьма трогательные страницы, посвященные воспоминаниям о жизни последних лет. Не одно теплое слово сказано о служащих и о простом народе, с которым как землевладелец он постоянно имел дело. Не раз упоминает он также об отраде и успокоении, доставляемых ему работой.
«24 января. Я сегодня в первый раз (после того, как узнал о своем разорении) отправился в суд, и мне казалось, что все заняты только мною и моими бедами. Без сомнения, многие думали обо мне и все, по-видимому, с сожалением; некоторые были, очевидно, огорчены. Замечательно, как различны способы, которыми люди стараются выразить мне свое сочувствие. Иные улыбались, здороваясь со мною, точно хотели сказать: “Не думай об этом, друг мой! Мы совершенно забыли обо всем”. Другие приветствовали меня с тою напускною серьезностью, которая так противна на похоронах. Самые благовоспитанные – все они, видимо, сочувствовали мне – просто пожали мне руку и ни о чем не распространялись. Если меня будут теснить и примут судебные меры, я должен буду употребить все средства законной защиты и объявить себя несостоятельным. Во всяком случае, это ход дела, который я посоветовал бы клиенту. Но на суде чести я за такой поступок заслужил бы потерю своих баронетских шпор. Нет, если они только согласятся – я готов быть их вассалом на всю жизнь и добывать из рудника моего воображения драгоценные камни не для собственного обогащения, а для того, чтобы уплатить по моим обязательствам. И это не потому, чтобы я питал отвращение к эпитету “несостоятельный” – мне его, по всей вероятности, уже дают, – но потому, что не хочу лишить моих кредиторов тех материальных выгод, которые могу доставить им с помощью еще сохранившихся у меня умственных и литературных сил».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































