Текст книги "Вопрос о вещи. Опыты по аналитической антропологии"
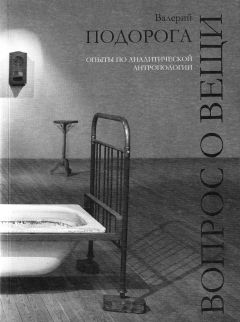
Автор книги: Валерий Подорога
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
40. Человек-маска
Роман известного японского писателя Кобо Абэ «Чужое лицо» был создан по образцам театра Но, а точнее, на основе почти тех же принципов использования маски. История такова: молодой человек, страдающий редким заболеванием кожи лица, решается изобрести для себя особую маску и тем самым устранить хотя бы то явное и омерзительное уродство, которое лишает его возможности «нормально» существовать. Он посещает один из музеев театра Но, где находит удивительные маски, изучает их и приходит к выводу, что они могут послужить ему моделью для его будущего нового лица. Маска должна не просто скрыть его старое лицо (поражённое болезнью), защитить от чужих любопытных взглядов, но стать вторым лицом, т. е. единственным. «Второе лицо» должно стать первым, но привыкнуть к этому не так просто… когда начинаешь носить маску. И вот что-то не заладилось, и с этого момента начинается отделение маски в самостоятельного персонажа, настоящего двойника. Маска становится живым персонажем, со своими необходимыми правилами и условиями существования, которые она пытается навязать своему создателю.
Обратимся к опыту ношения и изготовления древних масок.
Японский театр Но может послужить примером превращения человека в то, что он собирается представлять на сцене (прежде всего – тактика и искусство актёрской игры, и, конечно, ношения маски). Первоначальная связь с маской – это её изготовление и отделка, она изготавливается и, следовательно, получает первые характеристики того, из чего сделана. На первый план выходит тактильный опыт. Сработанная мастером маска рождается из множества касаний, устанавливающих форму её индивидуального подобия; она вся в близости с тем, кто её касается, кто её «делает». Ощущаемость материала, вещность вещного привносится и ощущается в маске79. В ней не может быть ничего самопроизвольного, её бытие чисто тактильно, касанием её воспринимают в качестве не мёртвой вещи, а живой, точнее, ожившей. Размер, материал, тяжесть, гладкость или мягкость, цвет, освещение, теплота или холод. Ощупывание, паутина касаний, отделка и прочее исподволь вводят игровой момент и за ним, естественно, обширное поле первобытного символизма. Правда, игровой момент, вероятно, был бы невозможен без временной отмены сакральных качеств (запрета на касание). Десакрализация как сближение с тем, с чем нельзя сближаться. Это моя маска, другая маска – это другая, не моя. Маска – это моё Божество.

Маски театра Но
Куклы раскрашиваются, покрываются знаками, превращаясь в могущественные тотемы и фетиши человеческого бытия.
41
Древнейший, если не первоначальный запрет на касание: не трогай, не касайся, не подходи! Запрет на касание мёртвого (мёртвое заражает и убивает). Это и запрет на зрение, т. е. на отношение к видимому, ведь главное – это та внутренняя духовная жизнь, которая должна быть представлена на сцене в движении актёра. А он должен двигаться и «видеть» вопреки ограничению и даже отсутствию зрения: «В театре Но “чувство сцены” имеет почти ту же природу, что и восприятие мира слепыми людьми. (Парадоксально, что маски слепых имеют самые большие прорези для глаз!) Актёр учится не только носить маску, но и воспринимать в ней сцену и зрительный зал, поскольку, надевая её, он иначе ощущает сценическое пространство. Отключая зрение, человек острее чувствует, что он пребывает в пространстве, в космосе, и что он должен скоординировать свои действия, чтобы пребывать в нём. Эти пространственные ощущения необходимо пережить актёру Но, исповедующему идею слияния с космической жизнью. Способность к перевоплощению возникает у актёра Но в тот момент, когда он достигает идеально свободной ориентации на сцене, ощущая почти вслепую каждый её сантиметр, когда он вступает в мистическое общение с пространством, когда он сосредоточивается до полного самозабвения на персонаже-маске и всё же не утрачивает контроля над собственными действиями»80.
Мастер-актёр, изготавливающий маску, охранён от заражения мёртвым. На переходе маски в символическую функцию запрет на касание вновь вступает в силу, он оживляет маску, теперь смысл придаётся актёрским движениям, позам и позициям, которые вновь упорядочиваются, затем сакрализуются, – каждое самое незначительное движение должно быть доведено до автоматизма удивительной куклы. Но здесь маска древняя актёров театра Но не играет роль истинной или подлинной маски, это Маска как таковая. Возможно, именно та, о которой мы говорили как о кантовской вещи в себе, недоступная и непостижимая, она принимает актёра, но как временного носителя, который должен ей полностью соответствовать, телесно раствориться в ней, не быть больше собой.
42
Первый же опыт героя романа по изготовлению маски приводит его к заключению, что эта маска должна стать лицом, – «моим лицом». Изготовление нового лица (похоже на современные пластические операции) приводит его к выводу, что за лицом следует совершенно иное отношение к себе, – отношение как к Другому. У нас три лица: одно, которое мы имеем, и его видят только другие, я бы назвал его лицом-в-себе (к нему мы никогда не получаем прямого доступа). А если бы и имели, то это должен быть полный контроль над каждым изменением и волнением его поверхности, над каждой тенью, которая по нему вдруг пробегает… Есть и внутреннее лицо, или лицо-для-себя, т. е. лицо как образ нас самих, которому мы следуем, никогда толком им не овладевая, но с убеждённостью, что на этом внутреннем экране сознания отражается наше истинное лицо. И ещё добавлю: лицо-для-себя – это лицо, в котором помещаются многие наши представления, ценности, рефлексии, отношение к другому и прежде всего к себе. Это лицо – возможно и есть наша душа. И наконец, есть ещё одно наше лицо, которое мы часто «замечаем» в зеркале, пытаясь рассмотреть себя, и оно шокирует, поскольку не совпадает с внутренним чувством наших собственных лицевых реакций. Такое лицо, а это лицо-для-Другого, – оборотная сторона того лицевого образа, который мы назвали лицом-в-себе. Именно постоянный конфликт между тем, как мы себя представляем, и тем, кем кажемся со стороны, порождает в нас убежденность в существовании третьего лица, лица-в-себе, – недоступного и следящего за нами взгляда Другого. В эксперименте, который предлагает Кобо Абэ, ставки слишком высоки: не только создать новое лицо, но и жить в нём…
43. Возвращение Чаки. Игрушка – как воспитатель и убийца
За современным путём игрушек легко наблюдать тем, кто имеет детей (или помнит, как сам был ребёнком любящей матери). Набросаем маршрут вовлечения американского ребёнка в мир игрушек во времени: от 2–4-х лет образы детских кошмаров (в большинстве случаев это Динозавры), они рисуются ребёнком то в агрессивной манере, то в расслабленной и даже дружественной. Но здесь свои особенности. Фокус страха и интереса смещается от открытой пасти, как явной и беспощадной угрозы, к размеру: от динозавров-хищников к невероятным по величине диплодокам, уже травоядным, громадным многотонным животным, и словно лишённым пасти («она больше не открывается, и у неё больше нет острых клыков»). Этот период ребёнком интенсивно переживается, поскольку он только учится манипулировать запретами и наказаниями, которые на него налагают. Ведь каждый запрет побуждает к тому, чтобы испытать страх перед его нарушением, но и удовольствие… И тем не менее ребёнок вполне может побороть «свой» страх в фантазийной игре с самыми кровожадными хищниками, каких только можно представить. Безжалостный хищник подвергается манипуляциям, «укрощению» в бесчисленных рисунках, изгоняется в отдельный рисуночный образ, – там он больше не опасен. Возможно, что на этом переходе формируются какие-то изначальные противоположности, по которым ребёнок ориентируется в окружающем его враждебном и неизведанном мире. Идея защиты от собственного страха проектированием вовне «страшных» и «враждебных» образов оказывается вполне успешной. Потом наблюдается резкий переход от этого типа игрушек-образов к героике (приключениям), идентификация себя с возможностью стать сильным, большим, бесстрашным – стать Героем (сказок и мультфильмов). Сюда же относятся и новые формы психической защиты, которые предлагаются ребёнку чутким рынком мировой игрушки (и на которые он с интересом откликается). Увлечение механическими игрушками, сохраняющее элементы прошлого переживания, но переходящее в иную фазу развития: управление собой – полный контроль над тем, что является продолжением тебя, что теперь тебе принадлежит, – это Трансформеры (Рыцари, Супермены, Киборги). Далее наступает стадия конструктивного поведения, и это время высвобождения фантазии и между тем удержания её в норме – это сборная игрушка Лего. Некая конструкция (будет ли это «подъёмный кран», «корабль», «дом» или что-то другое), рассыпанная на множество деталей, навязывает определённые правила сборки, которые нельзя произвольно менять (это что-то похожее на составление пазла, только в трёхмерном пространстве). Тут уже включается пространственная интуиция позитивно-созидательного свойства, и ребёнок оказывается способен творить всё, – и как будто из ничего.
Эти этапы становления детской игрушечной жизни я наблюдал в середине 90-х годов в США. Важен сам переход от острого страха и уязвимости ребёнка ко всё большему овладению собственным телом, его возможностям, игрушка выполняет функцию такой модели телесного навыка, который осваивается уже не на дистанции (пускай короткой) рисования, а через трёхмерную плотную конструкцию, которой можно манипулировать, восхищаться и разрушать. Её можно, и это главное, ощупывать, манипулировать ею, т. е. мыслить игрушку руками, и так, что руки постепенно начинают формировать и себя самих и последующие привычки поведения. Неудачи или промахи, неуклюжесть или ловкость, быстрота реакций, первое знакомство с собственной силой – всё проходит через руки, которые получают наряду с разумностью доминирующее положение. Стоит обратить внимание и на факт разрушения. Ребёнок играет, чтобы разрушать, и это право сильного, самоутверждение его господства над миром.


Кадры из фильма «Потомство Чаки». Реж. Дон Манчини. США, 2004

Культовый магазин игрушек FAO Schwarz на 5-й Авеню (закрылся в 2015)

В одном из американских магазинов игрушек в день распродажи
На День Благодарения мы собрались поездить по магазинам, каково же было наше удивление, когда магазин детской игрушки, возможно, самый большой в нашем районе, оказался полностью опустошённым. Ненасытные приобретатели товаров, американские домохозяйки, отцы и матери, бабушки и дедушки смели в одночасье всё, что там было. Позднее я наблюдал, как две молодые женщины с трудом тащили тележки, наполненные коробками с игрушками высотой метра в полтора. Оказывается, на День Благодарения или в Рождество бывает так, что старые игрушки, уже изрядно «поднадоевшие», сбрасываются могущественными родителями в подвал, а вместо них покупаются новые, более «лучшие» и более «необходимые», потому что «новые». Никаких любимых игрушек. Детское ТВ руководит всем процессом обновления рынка игрушек, навязывая диктатуру нового и новейшего образа (всё по-взрослому). Что может быть ближе ребёнку, чем «любимая» игрушка, которая выполняет в его жизни незаменимые функции: ускоряет развитие его индивидуальности, связывает отношение к другим и самым близким с чувством любви, благодарности, доверия. Игрушка – посредник, и она не просто оживлена, т. е. уже не просто вещь, но и нечто большее. Повседневное взаимодействие с ребёнком переводит её в иной статус, она получает место ближайшего друга и помощника.
Только тогда я понял, что происходит, и почему в США так много триллеров, посвящённых мести брошенных игрушек, «преданных» и «одичавших», вставших на путь преступления, неожиданно приобрётших навыки маньяков-садистов. Брошенная игрушка – это вещь, которая способна мстить.
IV
Во славу руки!
…хорошо сделанная вещь – вот что главное…
Р.-М. Рильке
44. Рука хватающая. Быть или иметь?
Передо мной две руки, это мои руки. Одна чуть больше другой, одна – левая, другая – правая. Большая часть моего воздействие на мир идёт через, посредством и с помощью рук. Я что-то воспринимаю, принимаю, ощущаю, руки мои всегда впереди меня, и только благодаря им я обладаю вещами мира. И у них несколько иная функция, чем у щупальцев беспозвоночных, когтей хищников или тончайших усиков насекомых. Мои рука и глаз (а точнее, направленный взгляд), образуют нерасторжимый союз. Что это за явление антропологии человека, не имеющее аналогов в животном мире? Это достаточно гибкая корреляция между хватательным рефлексом и направлением взгляда (бинокулярное зрение). Хватать – не дарить, здесь пересекаются и парная формула человеческого существования: быть/иметь?81 Эти сливающиеся интенции могут вступать и в конфликт. Если «хватательно» присваивающий рефлекс – иметь – предполагает движение от условной цели (жертвы) к себе, то быть – это совсем другое положение, которое определяется степенью близости и открытости миру. Именно первый инстинктивный и ударный захват создаёт возможности для формирования основ Эго-сферы. Быть же – это чему-то принадлежать, от чего нельзя освободиться, что нельзя оспорить, и это то, что мы не знаем о себе, или то, что существует само по себе, не требуя ни оправдания, ни оценки, ни признания. Итак, одно движение руки означает иметь, а другое – быть, в одном случае – «хватать» и присваивать, в другом – отдавать, дарить и одаривать, тогда самое бытие есть Дар, и в нём ты только дарящий и получающий дары.
Итак, рука не для того, чтобы брать, захватывать, ударять, или разрывать, а для того, чтобы дарить и одарять, отпускать и приглашать. Другими словами, мыслят тогда, когда осуществляют дар, отдают, не берут; а не мыслят те, кто готовится к захвату или отпору, тот, кто устремлён к господству над вещью, к её присвоению, не её дарению. Этого же различия придерживается Ж. Деррида. Вот, например, какой ход размышления он допускает: «Нерв аргументации, на мой взгляд, в первую очередь и в первом приближении может быть объяснён очевидной оппозицией geben (давать) и nehmen (брать): рука человека даёт и даёт себя – как мышление или как то, что дано для мышления, и как то, что мы ещё мыслим; тогда как орган обезьяны или человека как просто животного, пусть даже как animal rationale (разумного животного), может лишь взять вещь, схватить её, овладеть ею»82.
45
Рука вытягивается в сторону объекта, выбранного для захвата, и готовится его захватить… Мы досылаем себя туда, куда доходит наш направленный взгляд. Декарт считал, что зрительный луч действует подобно посоху, и им мы, словно слепые, ощупываем всё, что попадается нам навстречу. Постепенно сформировалось представление о зрении как дистанционном обладании, то, что Ницше называл пафосом дистанции. Итак, видеть – это обладать на расстоянии (М. Мерло-Понти). В живописи и архитектуре Возрождения прямая перспектива была средством захвата вещей с превращением их в подчинённые взгляду, «послушные» объекты. Современная техносфера – это необозримый парк дистанционных орудий, чья задача – присвоение/обладание видимым миром.
Рука, всегда открытая к захвату, разрушает, искажает, деформирует вещи, вырывая из них то, что не может быть восполнено, – их вещность. Вещь перестаёт быть вещью. Оставляется лишь то, что не может быть присвоено, что отбрасывается за ненадобностью. Вокруг этого извечного «хватательно-истребительного» рефлекса нарастает масса использованного, ненужного, разрушенного, омертвевшего – мусор и отбросы, чьё повторное потребление невозможно. Здесь мы находим всё, что нисходит к смерти, болезням и мёртвому, что подстрекает безумие.
Мы хорошо сегодня знаем, что рука хватающая, рука – как орудие обладания – опирается на развитое бинокулярное зрение. Так, «хватание» соотнесено у млекопитающих с определённым положением глаз аналогично тому, как у рыб положение глаз «коррелировано» с наличием плавательного пузыря и способностью к свободному движению83. Но только у человека «направление, в котором он показывает рукой, всё время контролируется и корректируется обратными сообщениями о положении конечности, которое наши глаза устанавливают намного точнее, чем это способны делать проприоцепторы нашего чувства глубины»84. Тесное взаимоотношение между глазом и рукой и тем телесно-тактильным опытом, накопленным веками упражнений, настолько закрепился в качестве протофизиологической нормы, что расстроить эту могущественную функцию организма просто невозможно. Живопись знает этот глаз, нацеленный на мир как у хищника, он долгое время был и эстетической нормой видения: «…глаз движется вдоль границ и как бы ощупывает края предметов», глаз стал линией, которую ведёт рука к самим вещам: «…твёрдое и ясное ограничение тел сообщает зрителю уверенность: он как бы получает возможность ощупать тела пальцами, и все моделирующие тени так тесно связываются с формой, что прямо-таки вызывают осязательное ощущение»85. Позднее живопись начинает переход от статичных предметов и тектонических композиций к изображению движения, намного более сложного качества реальности. Отсюда усиление восприимчивости к зрительности, к тому, что на нас обрушивается в качестве мерцающего, скользящего, вибрирующего, петляющего, светящегося образа, неподотчётного древней машине живописи, где глаз/тело/рука овладевают бытием вещей, поглощают их, присваивают. Рука и глаз разводятся по обе стороны от возникающего образа, и он высвобождается настолько, что кажется неким пассивным ощущением (переживанием), которое больше никому не принадлежит…
46. Кисть – (Вещь) – Резец
Движения руки, творящей образы «вещи», иногда разделяются и противостоят друг другу. Одно идёт от свойств материала (поверхности), другое, напротив, вторгается в материал, преобразует его, режет, распределяет по выделенным границам образа жёсткими штрихами. Одно движение «отталкивается» от поверхности, другое, напротив, пытается пробиться сквозь материал, в одном случае – пассивность руки в ожидании образа, в другом – опора на волю, решимость, на силу активного вторжения. В одном случае – образ взывается к жизни, его надо освободить и открыть, а это значит быть внимательными и чуткими к явлениям на поверхности (ведь она может оказаться и стеной, и камнем, деревянной или медной доской, и холстом); в другом – рука ничто не оберегает и не хранит, она «пробивает» поверхность любого материала, цель – преодолеть его сопротивление и правильно нарезать/разрезать его.
Художественная практика знает эти «руки». В одном случае мы имеем дело с рукой живописца и его кистью, которая лишь касается поверхности, чтобы тут же уклониться от неё и дать жидкой, сверкающей субстанции краски начать себя проявлять – «стечь на образ». В другом – с рукой гравёра, который должен располагать достаточной волей, чтобы утверждать силой разреза и давления заранее найденный образ. Одухотворять любую материю, развёртывая образ прямо по следу проводимой линии: «Энергия мечты, с её страстью и тайной, находящая выражение как в металлической борозде, так и в тончайшей линии, заключена в руке»86. Эти два движения нам понятны, поскольку первое движение невозможно без особого орудия – резца, а второе целиком находится во власти кисти (мазка), которая не проникает внутрь, а напротив, проявляет саму поверхность, её фактуру и общую значимость для образа. Рука нападающая и касающаяся, ласкающая, поглаживающая, чуть трогающая, чуть-чуть задевающая. Кисть, нанося мазок, возбуждает чисто чувственное телесное переживание, которое не может быть подавлено и «объективировано» – это чисто «сенсуалистское пятно» (несущее на себе цвет и свет).
Настоящая гравюрная линия есть линия абстрактная, она не имеет ширины, как не имеет и цвета. В противоположность масляному мазку, пытающемуся сделаться чувственным двойником если не изображаемого предмета, то хотя бы кусочка его поверхности, гравюрная линия хочет начисто освободиться от привкуса чувственной данности. Если масляная живопись есть проявление чувственности, то гравюра опирается на рассудочность, – конструируя образ предмета из элементов, не имеющих с элементами предмета ничего общего, из комбинаций рассудочных «да» и «нет»87.
Если икона, то движение идёт не от руки, а от стены или доски (на которой икона и должна «явить» себя). В отличие от ренессансно-протестантской гравюры, где сила, ловкость и искусность руки определяют мастерство художника тех эпох. На образ слой за слоем ложится тактильная пелена, в которой начинает формироваться подобно кокону то, что мы называем вещью. Икона пишется на свету, она про-являет себя, но не рука мастера здесь руководит, не она усиливает свою власть над онтологическими основаниями западной живописи. Как можно со-полагать рядом икону и гравюру? Одно искусство принадлежит великой древней традиции иконописи, а другое – порывает с христианской иконографией и полностью погружается в исследование секулярных эстетических норм индивидуальности. Да, «самолюбование», да, нарциссизм, да, движение в сторону «обожествления» субъективности, – но это другая традиция, модерная, которая несовместима с той, какую с такой исследовательской страстью отстаивал Флоренский. Можно сказать и совсем просто, эти традиции несравнимы, более того, ни одна из них не имеет преимущества в «споре» (если бы он был возможен), они разделены во времени и в пространстве (и прежде всего «церковно» и музейно)88.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































