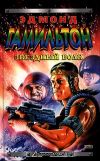Читать книгу "Охота на волков"

Автор книги: Валерий Поволяев
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Тут ты хорош, – Бобылев ткнул пальцем в снимок, – как минимум, бутылку оприходовал.
– Медаль только что получил. «За отвагу». Из Баграма в Кабул нас специально привезли на вертолете. Пятеро нас было. Каждому сделали такой снимочек и налили по стопке спирта-ректификата. В Кабуле мы купили пять бутылок водки и наелись так, что стоять на ногах не могли.
– Пятеро таких здоровяков да по бутылке на нос не осилили? – Бобылев с сомневающимся выражением в глазах покачал головой.
– Дело в том, что это была не просто водка, а водка, в которую было напихано множество всяких пилюль – анальгина, стрептоцида, пургена, тетрациклина, еще какого-то хренина, смесь получается просто оглушающая – намостырились дуканщики по этой части. А некоторые вообще «коньяк» делали – добавляли в водку отвар табака. Устоять против такого зелья никто не мог, даже боевая машина пехоты. На что уж крепкая штука – железная, бронированная, а и то гусеницы теряла… В общем, в Афганистане я всякой гадости попробовал, пил все, что было способно пролезть в стакан, а потом переместиться в горло, и норму свою выпил, – он попилил себя по шее ладонью, – даже более – переполнился… Но когда выводили войска, пересекли, значит, границу, в Ташкенте выпили в последний раз. После этого я завязал узелок и затянул его покрепче. Вот и все.
– Ты, Леха, как относишься к нынешней власти? – Умеет же Бобылев задавать неожиданные вопросы.
– К демократам?
– Ну!
– А кто к этим педикам относится хорошо? Нахапали миллионы, деньгами уже объелись – понос от обжорства не прекращается, – а о людях забыли. Люди с голоду мрут как мухи. Дали бы мне автомат – вспомнил бы Афганистан, пошел бы против них, всех бы полил свинцом… От краснодарского мэра до небожителей, окопавшихся в Кремле.
– А к коммерсантам разным, палаточникам, бизнесменам как относишься?
– Точно так же.
– Значит, мы с тобою одинаково мыслим. Два сапога – пара.
– Интересная хренотень, – Пыхтин засмеялся, – и чего ты предлагаешь?
Он словно бы что-то почувствовал, двухметровый афганец Пыхтин, нюх у него был хороший, знал он, что чем пахнет и откуда доносится запах – Афганистан действительно научил его многому.
– Что делают с ворьем, если его развелось слишком много?
– Трясут.
– Правильно. Пыль столбом должна стоять до небес. Так, чтобы облаков не было видно. Вот это я и предлагаю сделать.
– Дельная мысль, но ее трэба разжуваты.
– Могу разжевать.
– Я не про то. Разжевывать ничего не надо, и без того все понятно, а вот время, чтобы идея в брюхе, в желудке, улеглась, необходимо.
– Ладно. Ну а в целом, в главном ты это дело как, поддерживаешь?
– В целом – одобрям-с! Тряхнуть современных ворюг – что может быть лучше для бывшего душмана!
– Жди меня через пару дней, – Бобылев сдвинул рукав куртки вверх, обнажая циферблат часов, – в это же время.
Машина закрутилась, колеса ее сделали первые обороты, механизм залязгал, загрохотал, задымил… Бобылев напористо взялся за дело – он сколачивал боевую группу, добывал оружие, искал подходы к местной воинской части, к прапорщикам здешним, чтобы обзавестись стволами помощнее; Шотоев не отставал от него – занимался юридическим оформлением нового «товарищества», – и тоже, как и Бобылев, преуспел в этом.
От Бобылева Шотоев, как и обещал, отвел кинжалы горцев – два мрачных молодых человека на следующий день после его встречи с аксакалами рассчитались за комнату, которую снимали в частном доме на улице Красных Партизан, – сохранилась в кубанской столице и такая улица, несмотря на суматошные веяния времени и страсть новых хозяев жизни к переименованиям, сели в старый, чадящий сизым дымом жигуленок и отбыли домой.
Как это удалось сделать Шотоеву, неведомо никому – то ли он знал неведомое волшебное слово, то ли откупил Бобылева деньгами, хотя горцы – не те люди, которых можно взять деньгами (значит, к деньгам было добавлено еще что-то, очень весомое), то ли надавил на родственников убитого через своих родственников – никому это, кроме Шотоева, не было ведомо. Может быть, только Аллаху – богу Шотоева.
– Спасибо тебе, брат, – узнав об этом, благодарно и растроганно пробормотал Бобылев, сжал обеими руками руку Шотоева, – спасибо! Век не забуду. Умирать стану – обязательно вспомню об этом с благодарностью. Я – твой должник.
Шотоев внимательно и спокойно поглядывал на него, пошевеливал густыми бровями, похожими на маленькие шкурки свирепого дикого зверька – содрали их с неказистых хищников, хорошенько высушили и прилепили на лоб Шотоеву, – и ничего не говорил. Так он ничего и не сказал Бобылеву, хотя тому очень хотелось узнать, сколько он стоит и вообще почем ныне свобода на Руси для таких бедолаг, как он?
Кроме фельдшера городской больницы Семена Лапика и красавца Лехи Пыхтина, Бобылев нашел еще хорошего водителя – бывшего автогонщика, взявшего однажды призовое место на всесоюзных соревнованиях в Риге, но потом поломавшегося на тренировке Диму Федорчука, а Шотоев привел в создаваемое товарищество своего двоюродного брата Казбека Сараева – Кешу, как он называл его.
Посидев над списком, повидавшись с людьми – для этого собрали специально вечеринку в ресторане, расположенном в живописном месте, у воды, с белоснежными мазанками, крытыми соломой, обнесенными плетнем, на колах которого красовались глиняные горшки, крепко выпили – кроме, естественно, афганца, насмешливо поглядывавшего вокруг, – ему нравилось быть в пьяной компании трезвым, – и Шотоев, удовлетворенно кивнув, сказал Бобылеву:
– Ну что… С таким народом дело можно уже начинать.
– Не мало ли нас? Может, еще пару человек подыщем?
– Конечно, подыщем, но для начала хватит и столько. Дальше видно будет. По ходу дела будем, в общем, расширяться.
– Ладно, начинать, так начинать. – Бобылев вытянул жесткими, азартно подрагивающими пальцами сигарету из пачки, небрежно брошенной на стол Шотоевым, взял два фужера, один налил до краев, другой наполовину, тот, который был налит до середины, придвинул к Шотоеву, полный взял сам. – Ладно…
Шотоев сощурился насмешливо, в синих глазах его замерцал холод.
– А мне чего налил только половину?
– На полном не имею права настаивать. Наливать полный стакан – это сугубо русская традиция.
– Ну, горские традиции – тоже не такие усеченные. – Шотоев взял бутылку, наполнил фужер водкой, край в край, ровно.
– Прошу прощения, – виновато проговорил Бобылев.
– Это я на будущее, – сказал Шотоев, – чтоб знал.
– Водка всклень – на штаны пролить можно.
– Не путай меня с гимназистами подготовительного класса. – Шотоев пожевал твердыми губами, аккуратно подхватил фужер за пятак ножки, потянулся за четвертушкой лаваша – мягкой, очень свежей лепешки, обернул ею болезненно-хрупкий хрустальный стоячок ножки, пробормотал: – Водку на штаны? Никогда. Теперь… теперь можем выпить.
Пить он умел действительно мастерски, по-гусарски лихо, ни одна капля не пролилась у него из фужера на скатерть, потом смачно поцеловал донышко и поставил посудину на стол.
– Так, например, пил русский человек, гусар Денис Давыдов.
Глава третья
Осень на Кубани выпадает всякая: бывает, она мало чем отличается от лета – такая же жаркая, звонкая, с растекающимся на добрую половину неба солнцем, с птичьим гомоном и рядами крупного, дразняще аппетитного винограда, глядящего на дороги из-за плетней; бывает и грустной, очень похожей на подмосковную, когда увядание природы происходит на глазах и голые деревья обязательно вызывают озноб и боль, как вызывает боль всякое умирающее существо, по ночам долго не спится, в голову лезут разные тяжелые мысли, но потом снятся светлые детские сны, рождающие горькое чувство; бывает осень и черная, резкая, с ветрами и секущими разбойными ливнями…
Тогда по ночам на небе пропадают звезды, словно их кто-то ворует, и очень низко, задевая за деревья и оставляя на них лохмотья неряшливой плоти, носятся облака, мокрые тополя, кряхтя от ветра и ревматических болей, сбрасывают на землю целые дожди – если попадешь под порыв ветра, то мигом сделаешься мокрым, от макушки до пяток…
В черную безрадостную ночь группа Бобылева вышла на первое дело – решили тряхнуть торговца турецкими дубленками – ростовского грека, имевшего связи не только в Турции, но и у себя на исторической родине, и в Ливане среди тамошних армян, и в Израиле. Заелся торгаш, «мерседес» трехсотой модели купил себе – вызывающе серебристого, с жемчужным отливом цвета, жена его ездит на «форде», дочка на новеньких «Жигулях» девятой модели… Совсем охренел мужик!
– Из этого грека пора сделать лобио с подливкой из собственного сока, – угрюмо проговорил Бобылев, рассматривая продукцию Семена Лапика – австрийский пистолет, стреляющий теперь патронами от малокалиберной винтовки, с длинным, мало чем отличающимся от заводского глушителем, навернутым на ствол… Потом взял в руки ракетницу, которую Семен переделал не под ружейный, а под боевой автоматный патрон. Автоматные патроны и достать оказалось легче и были они убойнее всякого гусиного или утиного заряда. – от охотничьих же патронов только дыма да грохота было много, а пользы мало… – Либо превратить грека в гуляш, – добавил Бобылев прежним мрачным тоном, – это тоже будет неплохо.
Бобылев сам пристрелял новоиспеченный малокалиберный пистолет – прилепил к забору клочок газетной бумаги и дважды навскидку выстрелил в него. Оба раза попал. Похвалил работу Лапика:
– Молодец!
Лапик вообще имел золотые руки – мог из гвоздя сделать отмычку для сложного сейфа, из скрепки – циркуль, из ржавой полоски железа и двух мутных стекляшек – вполне сносный бинокль, из старого ножика – «шестеренку», убойное, очень грозное оружие воровского мира – финку о четырех лезвиях и так далее. Рукастый человек Лапик присутствовал при процедуре приемки.
– Я рад, что ты рад, – произнес он довольно: понравилось, что его похвалили… Поэт! А может, он говорил не как поэт, может, поэты говорят по-другому, этого Бобылев не знал. Ничего не сказал в ответ, промолчал.
К греку поехали втроем: Пыхтин, Бобылев, за рулем – Федорчук. Федорчук совершенно не был похож на гонщика, какого-нибудь Сенну или Шумахера, – невысокого роста, хлипкий, с узкой грудью и узкими плечами, из породы тех, кто до самой старости остаются мальчишками, щенками, – но машиной, рулем владел на «пять». Конечно, надо было бы взять с собой четвертого человека, шотоевского кузена, но тот отбыл в Среднюю Азию и пока еще не вернулся, Бобылев поиграл желваками, – недоволен был – и сказал тихо и жестко:
– Поедем втроем. Понять, что к чему, как надо действовать, мы сумеем и втроем.
– В тусклом свете фар плясал дождь – крупный, неприятный, от асфальтовых выбоин, в которых вода не задерживалась, стекала в уличные решетки, поднимался желтоватый грязный пар, с тополей и лип ветер сдирал последнюю листву, та тяжело шлепалась на землю, сверху сыпались обломки черных сгнивших веток, улицы были пустынны, не ходили даже полуночные трамваи, которые, казалось, вообще не имели привычки отдыхать, в эту хмурую осеннюю ночь все живое забилось в теплые углы, затихло, попряталось там.
– Ну и погода, – не удержался от реплики Федорчук, он все молчал, аккуратно объезжал лужи, боясь угодить в скрытую водой яму, сейчас не выдержал, заговорил, покачал удрученно головой.
– Хорошая погода, – отозвался на это Бобылев мрачным тоном. Он сидел рядом с водителем, подняв воротник куртки и посасывая чинарик «Примы» – родной отечественной сигареты, которую ценил выше заморских «кэмелов», «кентов» и «мальборо»; с крепкой, сводящей скулы «Примой» ему легче думалось, и вообще он чувствовал себя с этими сигаретами человеком, не то что с разным хваленым американским дерьмом (он так считал и так говорил – «дерьмо», так и больше никак), у которого нет ни крепости, ни вкуса. Недовольно шевельнул плечами: – Самый раз погода для наших дел.
– На гонках в такую погоду часто разбиваются, асфальт превращается хрен знает во что – он будто бы маслом бывает намазан, – сказал Федорчук и, поняв, что сказал не то, втянул голову в плечи.
Торговец дубленками по фамилии Попондопуло жил хоть и в центре, но в районе глухом – рядом находился завод, обнесенный бетонным забором, жилые дома стояли друг от друга далеко, так что, если грек и захочет позвать на помощь, подмога придет нескоро.
Жил грек на втором этаже – это тоже было удобно, – и шмотки нетяжело таскать, и скорость они в деле не потеряют, – на все про все они имели ровно семь минут, как подсчитал Бобылев, восемь минут уже были критическими, а десять – завальными.
Въехали прямо во двор. Двери подъезда выходили на детскую площадку, парадные, выводящие на улицу, были наглухо заколочены. Остановились под большим развесистым деревом – старым грецким орехом, чей толстый черный ствол промок, кажется, насквозь.
В доме не горело ни одного окна, спал дом целиком, с первого этажа по пятый, хотя, если приглядеться потщательнее, в последнем подъезде, под самой крышей, слабо светился ночничок, окно мерцало таинственно и, наверное, поэтому его так яростно захлестывал дождь, старался залепить грязью, сделать слепым.
– Картина Репина «Не ждали», вот как это называется. – Пыхтин ухмыльнулся.
– Картина Репина «Приплыли», – поправил его Бобылев, повернулся к водителю: – Развернись носом на выезд, мотор не глуши, пусть крутится на малых оборотах.
– Все, бригадир, будет, как велишь, – успокоил Федорчук старшого, – не тревожься.
– Пошли! – скомандовал Бобылев Пыхтину. – Помни только – у нас есть семь минут, понял? – Первым вошел в подъезд, скудно освещенный тусклой пятнадцатисвечовой лампочкой.
Хоть и теплилась жизнь в лампочке едва-едва, а и ее слабенький свет показался Бобылеву лишним, рукояткой ракетницы он стукнул по лампочке. Лампочка хлопнула слабенько, еле слышно, со звоном просыпалась под ноги и в подъезде все стало мрачным, черным, еле различимым, темнота дома слилась с темнотой улицы.
Бесшумно поднялись на второй этаж, где жил богатый грек Попондопуло. Тут также горела лампочка-пятнадцатисвечовка. Бобылев глянул на нее, словно бы не понимая, откуда она тут взялась, провел пальцем по двери квартиры – дверь была хлипкая, чуть перекошенная внизу, и Бобылев, не удержавшись, поцокал языком: богатый человек Попондопуло на деньгах сидит, на деньгах лежит, одеялом, сшитым из денег, накрывается, а вот железную дверь себе что-то не удосужился поставить.
Ошибочку допустил товарищ Попондопуло, и эта ошибка в его жизни будет последней. Бобылев выразительно глянул на Пыхтина:
– Лех-ха!
Тот молча наклонил голову, отошел от двери на два шага – ровно настолько позволяло узкое пространство лестничной площадки, и, оттолкнувшись ногой от противоположной стены, совершил резкий прыжок вперед, врубился плечом в дверь квартиры Попондопуло.
Дверь с треском оторвалась от петель, из пазов вывернулись два замковых языка, один, отлитый из порошкового сплава, переломился пополам, дверь влетела в прихожую квартиры и шлепнулась на пол. Пыхтин влетел в квартиру следом за дверью. Бобылев также шагнул в прихожую, включил свет – под потолком загорелась богатая хрустальная люстра, звякнула своими сверкающими висюльками, или, как их лучше назвать, – бирюльками?
В ту же секунду из комнаты выметнулся хозяин – маленький, лысый, с торчащими неряшливо, будто мочалки, в обе стороны остатками волос, в цветных, ниже колен, трусах, прокричал визгливо:
– Чего надо?
Пыхтин опередил Бобылева – выстрелил в грека первым, пуля всадилась хозяину в горло, он удивленно распахнул глаза – до сих пор не понял дядя, что происходит, притиснул к шее обе руки, крепко сдавил, перекрывая самому себе воздух, и тихо, всем телом, пополз вниз, на пол.
Сквозь пальцы брызнула кровь, через мгновение хлестнула струей, Попондопуло сжал рану еще сильнее, дернулся на полу раз, другой, и тогда Пыхтин, обрывая страдания грека, нагнулся и выстрелил ему в рот, резко отшатнулся назад, чтобы не испачкаться в крови.
Собственно, это был не тот выстрел, что обрезает мучения, это был контрольный выстрел – не дай бог, если в этой квартире останется кто-нибудь в живых. Это будет свидетель, а свидетелей оставлять ни в коем разе нельзя.
Попондопуло дернулся еще раз, скорчился на полу, как ребенок, и затих.
– Леха, быстро в левую комнату! – свистящим шепотом скомандовал Бобылев. – Я – в правую! – Увидел, что из-под двери справа пробилась полоска электрического света, только что было темно, а сейчас зажглась полоска, – метнулся туда, ногой ударил по двери, засек, что с кровати поднимается тонколицый, с круглыми девчоночьими глазами мальчишка лет десяти, выстрелил в него из ракетницы.
Автоматная пуля, выпущенная из ствола, обладала большой убойной силой, снесла мальчишке половину головы – только что с кровати поднимался живой мальчик, таращил испуганно глаза на незнакомого дядьку, и вдруг через какие-то считаные миги его не стало, вместо него на кровати сидела безголовая окровавленная кукла. Бобылев мельком глянул на куклу – тут контрольного выстрела делать уже не надо, потянул за низ тонкий, набитый пухом матрас и накрыл им безголового мальчишку – нечего на нервы действовать!
Увидел видеомагнитофон, рядом – полтора десятка кассет с фильмами, выдернул шнур магнитофона из розетки. Видеомагнитофоны – товар ходовой, надо взять, глянул на марку: машина японская, «хитачи». Услышал за спиной два негромких хлопка – кого-то из домочадцев грека пристрелил Афганец.
Молодец Леха, ни секунды не раздумывает, когда надо стрелять, автоматически нажимает на спусковой крючок – этому его научила война, не то ведь есть люди, которые, прежде чем нажать на курок, маются, потеют, прикладываются губами к иконе, просят прощения и только затем, потные, с дрожащими руками и коленями совершают выстрел. Бобылев презирал, более того, он ненавидел таких людей.
В детской комнате дорогих вещей быть не может и уж тем более не может быть денег, а у грека дома должна быть хорошая сумма в долларах, деньги, как правило, хранятся там, где обитают взрослые. Держа магнитофон в одной руке, ракетницу в другой, Бобылев метнулся в соседнюю комнату.
Посреди комнаты стояла на коленях старая, с седыми космами женщина и моляще протягивала к Афганцу руки, бормотала что-то, но что именно, понять было невозможно, слова от страха у нее слипались друг с другом, путались, сливались в нечленораздельное мычание, старуха сделала на коленях один шажок к Пыхтину, потом другой, потрясла руками. Тот засмеялся негромко, мотнул головой:
– Ты лучше покажи, где у вас золото лежит, тогда мы сможем разговаривать, а так… Так – нет.
На полу, откинутая выстрелом к стене, лежала еще одна жещина, не такая старая, как та, что стояла на коленях, но и не такая молодая, чтобы на нее можно было польститься. Из-под байковой рубашки выглядывала полная, с синеватыми венами, нога. Бобылев понял – это дочка грека.
– Ну где, бабулька, золото? – ласковым тоном спросил Пыхтин. Улыбнулся широко, обнадеживающе, старуха всхлипнула, сделала на коленях два крохотных шажка и потыкала пальцем в книжную полку. Пыхтин, не отводя пистолета от бабки, отступил чуть назад и запустил руку в полку, в довольно глубокое нутро, набитое книгами и сине-белыми фарфоровыми поделками, среди которых находилась гжельская сахарница. – Очень хорошо, – пробормотал он одобрительно.
Пыхтин уже понял, что золото находится в этой сахарнице, одним пальцем сковырнул с нее крышку, запустил внутрь пальцы.
– Ну что? – спросил Бобылев.
– Есть! – радостно вскричал Пыхтин. – Есть желтизна, любимый металл проклятых империалистов. А баксы, бабка, где? Где они? Не заставляй нас искать, иначе мы все это, все, – он обвел рукой забрызганную, пахнущую кровью квартиру, – перевернем вверх дном. Тебе ведь, бабка, убирать придется!
Про то, что здесь уже лежат трое убитых, а квартира больше напоминает цех по разделке мяса, чем жилье, тут пахнет свежей кровью, пороховым дымом, смертью, разорванными пулями внутренностями, еще чем-то, очень дурным, Пыхтин не говорил, он словно бы не видел ничего этого.
– А баксы где? – вторично вскричал Пыхтин.
Бабка снова сделала два крохотных шажка на коленях, подняла плоское, размазанное страхом лицо с торчащими во все стороны космами волос, промычала что-то невнятно. Глаза у нее наполнились слезами.
– Она не знает, что такое баксы, – догадался Бобылев.
– Ну доллары, доллары, американские рубли, бабка… Понимаешь? Зелененькие такие, цвета щавелевого супа. Где они? – Пыхтин затряс одной рукой, соображая, как же изобразить долларовую бумажку, ее цвет, ничего путного не придумал и прорычал грозно: – Не придуряйся, бабка, тебе хорошо знакомо, чего это такое и с чем их едят – баксы…
Старуха размазала слезы по щекам, всхлипнула и показала пальцем на тумбочку.
– Тут? – Пыхтин так резко дернул дверцу тумбочки, что чуть не оторвал ее. Бабка оказалась права: в тумбочке, в полиэтиленовом пакете лежали доллары, много долларов, несколько пачек, перетянутых цветными резинками. – Ого! – воодушевленно воскликнул Афганец. – Здесь целый клад баксов, тысяч двенацать, не меньше.
– Время! – напомнил Бобылев.
– Еще где деньги? Где деньги? Ну! – Пыхтин громко щелкнул курком, металлический звук этот отозвался в глазах бабки страхом, полыхнули там далекие темные огоньки и угасли, старуха еще по годам войны знала, что такое оружие, щелканье курка и выстрел в упор – а с такого расстояния мозги веером выносит на стенку. – Наши где деньги, русские? Мани!
Закусив вставными зубами беловатый сморщенный язык – у старухи плохо работал желудок, – бабка ткнула пальцем в другую полку, Пыхтин проворно подскочил к ней, старуха всем корпусом развернулась за ним следом, промычала что-то слезное, молящее. Бобылев не разобрал, что она там изобразила, а Пыхтин разобрал, махнул раздраженно рукой, останавливая бабку, вытряхнул с полки десяток книг, лицо его исказилось. Вторую половину полки занимала фотография лысого пряника, который выскочил к ним в прихожую; наклеенная на картонку, она входила в полку враспор, очень плотно и была отодвинута от стенки к стеклу. Пыхтин, не поняв фокуса, зло повернулся к бабке, рявкнул:
– Ты что, старая ведьма, вздумала нас за нос водить?
Та испуганно мотнула головой, замычала безъязыко и показала пальцем на фотоснимок.
– Здесь? – Пыхтин с неверящим видом выдернул из полки картонку, швырнул ее на пол. За картонкой аккуратным штабельком, в банковской бумажной перевязи, лежали пачки денег. – Молодец, бабулька! – похвалил старуху Пыхтин, постарался ухватить столько денег, сколько их могло вместиться в руку. – Ты заслужила легкой смерти, старая, мучать тебя не будем.
Афганец вопросительно глянул на Бобылева, тот в ответ кивнул согласно и тяжелым неторопливым движением поднял ракетницу. Бабка не видела его – Бобылев стрелял ей в затылок. Нажал на спусковой крючок, поморщился от резкого, с железным запахом дыма, вымахнувшего из ствола, пуля отбила бабку к отопительной батарее, ткнулась старая головой в металл, вывернула из-под себя крючковатую натруженную руку с искривленными ревматическими пальцами и в агонии потянулась к Бобылеву. Тот поспешно отскочил, выругался:
– Вот сука! Мертвая, а с собой живого утащить хочет.
Афганец легко перемахнул через тахту, рядом с которой лежала женщина помоложе, спросил у Бобылева:
– Может, добить?
– Чего тратить патроны, Леха? И без нас сдохнет, если еще не сдохла. Всё, уходим. – Тут лицо у Бобылева неожиданно дернулось, он вспомнил, что нарушает собственную же инструкцию, и проговорил глухо, словно бы одной половинкой рта: – А ты прав, Леха, контрольный выстрел никогда не помешает. Добивай ведьму и – уходим!
Афганец выстрелил в голову женщине, потом выстрелил в бабку, в коридоре Бобылев выстрелил в хозяина, с лица которого так и не исчезло испуганно-удивленное выражение – это был третий выстрел в грека; кроме видеомагнитофона они взяли с собой японский телевизор, два приемника «грюндик», один побольше, другой поменьше, Бобылев заскочил в детскую комнату, из стопки видеокассет выдернул четыре штуки, глянул на названия, поморщился: две кассеты были с детективами – это годилось, на одной было написано «триллер», Бобылев не знал, что такое триллер, и решил узнать – а вдруг что-то стоящее? К четвертой кассете была приклеена фабричная полоска бумаги «Ну, погоди!». Бобылев выругался, швырнул кассету на пол – мультфильмы он не любил, от разных рисованных гадостей у него болела голова, а на зубах возникало нехорошее свербение, – ударом ноги загнал «Ну, погоди!» под кровать.
Глянул на часы, стоявшие на столе – время, время! Выругавшись, выскочил на лестничную площадку, скомандовал хрипло:
– Леха, ты выше меня ростом, кокни лампочку!
Афганец потянувшись тюкнул лампочку рукояткой пистолета, та гулко хлопнула, обрызгала людей стеклянным дождем. Пыхтин выругался.
– Время, Леха! – напомнил ему Бобылев. Первым рванулся по лестнице вниз, неся с собой видеомагнитофон и два приемника, Афганец двинулся следом, перешагивая сразу через три ступеньки, – в темноте он ориентировался по-кошачьи точно, видел, как на свету, – аккуратно неся в руках японский, с большим экраном телевизор.
В машине он поставил телевизор на заднее сиденье, с кряхтеньем разместился рядом.
– Напшут, как говорят поляки, – пробормотал он довольным тоном, – что означает: на большой скорости вперед!
Федорчук рванул с места, едва Бобылев хлопнул дверцей, забуксовал на грязной проплешине, несколько метров проехал боком, нырнул в узкий проход, соединяющий противоположный конец двора с улицей, осветил фарами шатающуюся, насквозь промокшую фигуру ночного гуляки, бредущего по выщербленному асфальту, ловко объехал глубокую, с пузырящейся водой рытвину и дал газ – ему хотелось как можно быстрее покинуть место, о котором, вполне возможно, завтра заговорит весь город.
– Не торопись, – неожиданно мягким тоном, приводя водителя в чувство, произнес Бобылев, – за нами никто не гонится. – Добавил, невольно усмехнувшись: – Пока не гонится.
Гулко сглотнув слюну, Федорчук потряс головой, показывая старшому, что все понял, и сбавил скорость.
– Я думаю, милиция туда до утра вообще не заявится, – знающе проговорил Пыхтин, – жильцам до сих пор снится шум дождя, на грохот в подъезде они не обратили никакого внимания, так что вряд ли кто из них будет вызывать мусоров.
– Не скажи, не скажи, – покачал головой Бобылев, – советские жильцы – самые бдительные жильцы в мире.
– Ага, Россия – родина слонов, пингвинов и баобабов.
Впереди мигнул синий маячок милицейской машины, Бобылев мигом подобрался, выдернул из кармана ракетницу, вложил в ствол патрон. На щеке у него – левой, которую видел сидевший сзади Пыхтин, – задергался крупный желвак.
– Не спеши, Дима, – предупредил Бобылев водителя, – главное – не привлекать внимания ментов. Это – обычный патруль.
Милицейская машина медленно проехала мимо.
– А чего это они с мигалкой разъезжают? – поинтересовался, ни к кому не обращаясь, Пыхтин. – Хотят, чтобы их видели издалека?
– Опасаются. Боятся в случайную разборку попасть. Предупреждают, чтобы все разбегались. Нас вот предупредили…
– Да мы ничего и не сделали.
– Вот именно. Тихо-тихо постреляли, тихо-тихо смылись, а все остальное – не в счет.
– Как прошла операция, шеф? – Водитель почтительно назвал Бобылева шефом. – Как оцениваете ее?
– На три балла.
– Чего так мало? Вроде бы все в порядке.
– В порядке-то в порядке, да не очень, – Бобылев неожиданно сдавил зубы, желвак не замедлил вспухнуть под кожей левой щеки – мускулистый, крупный, неровный, – во-первых, мы никого не поставили на лестничной площадке на стреме – это ошибка, нас любой школьник с детским ружьецом мог взять на арапа… Во-вторых, внизу тоже надо было поставить человека, чтобы прикрыл нас, ежели что, а в-третьих, нужны две машины, одной мало. На одной только куриные ноги возить, А если бы мы разжились богатым хрусталем, на чем бы мы его везли? А если бы телевизоров было не один, а шесть? А видаков… – он стукнул пальцем по видеомагнитофону, лежавшему у него на коленях, – видаков штук двенадцать? А? Что в таком разе делать? Везти трофеи на трамвае?
– Ты прав, надо расширяться, – сказал Пыхтин.
– Я об этом намекнул Шотоеву – он не понял меня.
– Но как бы там ни было, почин сделан, – аккуратно пригибаясь, боясь головой всадиться в крышу тесного сумрачного жигуленка, проговорил Пыхтин.
– Да, почин сделан, – согласился с ним Бобылев, – и за это стоит выпить. Доберемся до хазы – накроем поляну. Не гони, не гони, – вновь предупредил он Федорчука. – Когда человек нервно гонит машину – сразу видно: с дела едет. Ты думаешь, менты – не хитрые? Это очень хитрые люди. Так что, кумекай, Дима, работай черепушкой! Это еще никому не мешало. – Бобылев сделался необыкновенно говорлив, ни Пыхтин, ни Федорчук раньше его таким не видели и не сразу поняли, что старшой их (а он и характер имел покруче, чем они, и внутренней стали накопил побольше, и годов на жизненном счету у него было немало) – такой же уязвимый человек, как и они. Состоит из такой же плоти, что и все, из тех же мышц и костей, имеет такие же, никуда не годные, донельзя расшатанные нервы.
Пыхтин первым сделал это открытие и понимающе улыбнулся; Федорчук, догадавшийся об этом чуть позже, лишь неопределенно приподнял одно плечо – совсем не думал он, что в мрачном жилистом Бобылеве может оказаться что-то бабье…