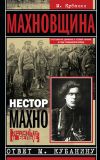Читать книгу "Нестор Махно"

Автор книги: Василий Голованов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Василий Ярославович Голованов
Нестор Махно
От автора
Я хотел бы сказать несколько слов об этой книге. В годы юности, когда я порой ощущал себя мухой, завязшей в смоле, – из-за невыносимой неподвижности окружающего мира, словно бы остановившегося времени, словно бы омертвевшего языка и навеки застывшего казарменного пейзажа за окном, – в воображении моем стал появляться образ. Это был образ отряда, нарушающего мертвенный покой времени, разбивающего его, взламывающего его огненной энергией взрыва. Я видел так: блестит река. Разбрызгивая сверкающую на солнце воду, ее переходят кони. Люди верхами. Широкие спины, потные, вылинявшие гимнастерки, ремни портупей, сабли, винтовки. С грохотом скатываясь с кручи, к реке спускаются тачанки. Одновременно голова колонны выходит на противоположный берег. Виден одинокий всадник, над головой которого полощется черное знамя.
Это отряд Махно.
Временами, особенно в тех случаях, когда из привычного мне мира я попадал в совершенно иной мир, соприкасающийся с отправлениями Власти, – скажем, после очередного визита в начальственный кабинет, после какого-нибудь тягостного, бессмысленного, лживого разговора, – я понимал, что хотел бы оказаться на одной из тачанок отряда. Ложь Системы была слишком самоуверенной, слишком наглой. Зло ее казалось абсолютным и незыблемым, поэтому бунт против нее казался естественным и, возможно, единственным способом сохранить самоуважение и чувство собственного достоинства. По сравнению с заплесневелой бумажной жизнью Системы, жизнь переходящего реку отряда казалась мне чрезвычайно подлинной, подлиннее окружающей бредовой реальности – хотя нас с отрядом разделяло непреодолимое время. Я чувствовал: эти люди полны силы и отваги. В их руках настоящее оружие. А главное – в них есть решимость, перед которой, я знал, Система не устояла бы. Ее надменные чиновники валялись бы в пыли у конских копыт, лживо вымаливая прощение, их трусливые, жестокие стражи разбежались бы, их наглые слуги предали бы их. Это было бы торжество справедливости. Кратковременное, быть может, но торжество. Собственно говоря, торжество не может и не должно слишком затягиваться.
Я честен с читателем и потому открыто исповедуюсь в юношеском чувстве, из которого родилась эта книга. Тогда я почти ничего не знал о Махно. Интерес к нему был, пожалуй, не более чем символическим протестом против мертвечины тех лет, которые верно, в общем-то, поименованы периодом застоя. Но, как всякий интерес, он по крупицам притягивал к себе факты. Постепенно их стало много, возникло желание их систематизировать. Мне захотелось рассказать самому себе, кем же, собственно, был Махно. На систематизацию и восполнение пробелов в знаниях ушло лет пять. На раздобывание редких сведений и шлифовку не вполне чистых от налипшей грязи истории фактов – еще пять. Так появилась эта книга.
За эти годы случилось слишком многое, чтобы образ человека, стоящего в центре повествования, не претерпел изменений. Время утратило неподвижность и понеслось вперед, порой даже слишком ходко. Мы стали свидетелями маленьких революций и немалых подлостей, зрителями и современниками крушения грандиозной коммунистической Системы и создания на ее месте новой Системы.
Это позволило многое понять. Поэтому то, что я написал, – не только биография Нестора Махно. Это книга о мистике истории. Об обреченности революционера-романтика, идущего на любые жертвы за народное дело. Поначалу этот образ казался мне привлекательным. Потом выяснилось, что это – образ убийцы, и с этим пришлось смириться, ибо революция – кровавое и страшное дело, в котором меньше всего значат что-либо благие намерения. Все, кто в 1917–1918 годах взял в руки оружие с решимостью пустить его в ход, делали это с сознанием своей исключительной правоты, во благо Родины, во имя человека. Война не оставила камня на камне от этого пафоса. Романтики оказывались кровавыми злодеями, патриоты России – ее предателями, добро и зло слились в какой-то невероятный сплав, который и не снился средневековым алхимикам.
Старая Россия, Россия, о которой мы порой бесполезно жалеем, в прежнем своем виде гигантской империи, простирающейся от Польши до Дальнего Востока, не могла, конечно, сохраниться: в ней много было ценного и живого (что, к несчастью, погибло), много гнилого и мертвого (что как раз не выгорело, а уцелело) и слишком много оставалось неизжитых обид, слишком много сосуществовало культур и времен (от XV века до XX), чтобы быть спокойным за ее существование. Вступив в мировую войну, страна вошла в поле такого жуткого напряжения, что не выдержала и разломилась. Я убежден, что если бы Россия не вступила в войну, не заразилась окопным ожесточением, все изменения совершились бы иначе. Но у ожесточения есть своя жуткая логика. Оно разрушило империю. Потом революция истребила уничтожителей империи. А на следующем витке – и уничтожителей уничтожителей.
Иногда кажется странным, что столетние поиски «правды» в России завершились – после взрыва революции – колоссальной ложью большевизма. Крушение которого, в свою очередь, вызвало к жизни новую ложь. Я сам был свидетелем трехдневной революции в августе 1991 года, когда в Москве – в очередной уже раз – возводились баррикады. В какой-то ничтожной степени я был даже участником этих событий. Я знаю, что людей, которые строили баррикады, объединяли святые чувства – вернее, одно сложное чувство, которое очень трудно понять, не пережив его: чувство свободы, достоинства, обретенной правды. Это были дни острейшего переживания подлинности бытия. Отряд все-таки перешел сверкающую солнцем реку…
Но этими чувствами воспользовались совсем другие люди. Так бывает всегда. К каким последствиям это приведет, мы не знаем. Мистика истории заключается в том, что иногда лучше проиграть, чем выиграть. Кое-кто из революционеров понимал это. Махно не понял. Он хотел выиграть, и в этом его трагедия. История сжалилась над ним и из революционера сделала его бандитом. Политический бандитизм – подспудное, «внепарламентское» сопротивление крестьянства диктаторскому режиму партии Ленина – в конечном счете дал стране отдушину нэпа, а большевизму – шанс, который он не использовал. Трагедия большевиков в том, что они победили всех. И, как в русской народной сказке, за это право победы заплатили всем живым, что было в революционном движении: окаменели сначала по колена, потом по грудь, потом по самую макушку головы – самим мозгом окаменели.
Еще эта книга о живых людях. О правде, которую носят в себе они. О том, что в реальном, живом человеке желание правды, желание полнокровной, полноценной жизни никогда не угасает. Иначе существование теряет всякий смысл. Если бы это был роман, героем его я сделал бы семнадцатилетнего комсомольца 1919 года Женю Орлова, который, будучи уже глубоким стариком, встретился мне и очень помог в работе. Может быть, именно тем, что сохранил в себе азарт, чувство жизни, кипучей силы ее, романтизм революционной эпохи…
Мы плохо понимаем, к сожалению, какими тайными тропами чувства правды, подлинности бытия и свободы ходят по земле в самые жестокие, огнеомраченные годы, почему они не разлагаются в болотном гниении умирающих режимов. Но именно на этих слабых – по сравнению с силой материального, вещного мира – чувствах и держится, как кажется мне, единственная надежда современной цивилизации, которая подошла к опасной черте стирания человеческой индивидуальности, чем, вероятно, готовит гибельные последствия для себя.
В этом смысле Махно во всей чрезмерности своих благих порывов и злодейства, во всей отвратительности и привлекательности своей – безусловно, фигура яркая и знаменательная. Если взглянуть на бунт как на особую культуру и представить себе посвященную этой культуре «Всемирную энциклопедию бунтарства», то имя Нестора Махно, конечно, должно быть вписано туда одним из первых.
Я хотел написать эту книгу, как средневековую хронику – устранив авторское «я», изложить читателю факты в их хронологической последовательности. Это не вполне удалось. Стройной и строгой хроники не получилось. Получилась книга, архитектурно представляющая собой почти чудовищное построение. Но так уж вышло. Зато мне, кажется, удалось другое: представить события того времени наглядно, как в кино, показать время в страшных терзаниях и противоречиях его, которые не могли и не могут быть осуждены однозначно.
Да и нужно ли судить? Ведь, возможно, единственная цель книги, которую я написал, состоит именно в том, чтобы передать читателю образ отряда, переходящего реку на пути к свободе…
Чемодан тамбовских булок
Заглянем сначала в Москву, в промозглый, дождливый июнь 1918 года. В это время здесь завязываются узелки драмы, которая до последнего времени будет оставаться одной из самых кровавых и темных страниц революции и Гражданской войны. Чтобы разглядеть завязи дальнейших исторических потрясений, нам придется обойти стороной партийные споры и правительственные декреты, по которым так искусительно легко пишется официальная история. Интересующие нас люди слишком далеки от высших сфер, где решаются судьбы народа. Они пока что на периферии истории, в массовке, и лишь подготавливаются для исполнения сольных партий на исторической арене.
Итак – Москва, июнь 1918-го. Еще остается месяц до возмущения левых эсеров. Еще несколько дней до декрета о комбедах. Еще несколько дней не будет ясно, что недоразумения с продвижением чехословацкого корпуса в Поволжье и Сибири означают начало невиданной по масштабу междоусобицы. Вторжение немцев с Украины на Дон вызвало вспышку белого пламени, но и это, по сути, было только офицерской увертюрой к драме совсем иного порядка… Москва жила дурными предчувствиями, однако жизнь в ней была хоть и скверная, но вполне еще мирная. Убийства. Грабежи. Карточки на табак. Из школьной программы изъяты Закон Божий и основы вероучения. Погиб под трамваем знаменитый актер Мамонт Дальский, анархист и пьяница, – тело отпели в церкви Рождества Христова в Кудрине, а хоронить повезли в Петроград.
Происходили уплотнение квартир «буржуев» и национализация Третьяковской галереи. Случился также угон прямо из гаража автомобиля немецкого посла графа Мирбаха. Напечатан декрет Троцкого о мобилизации в Красную армию. В газетах регулярно публикуются сводки о продуктах, подвозимых в Москву. Объявлено, что нарком просвещения Луначарский с вооруженным отрядом и восемнадцатью вагонами ходового товара отправляется в «хлебную экспедицию» в Вятскую губернию. Эта акция должна была стать как бы визитной карточкой новой продовольственной политики советской власти.
Тридцатипятилетие освящения храма Христа Спасителя праздновали в тяжелые для церкви дни: патриарха Тихона, 8 июня служившего в храме торжественную литургию, вызывали повесткой в ревтрибунал. Он не явился, чувствуя, что дело клонится к его аресту. Действительно, ряд священнослужителей были арестованы безо всяких повесток. Вообще, со времени обнаружения в конце мая заговора «Союза защиты родины и свободы» репрессии власти чрезвычайно усилились. Одно за другим следуют мероприятия: аресты членов кадетской партии. Регистрация офицеров. Аресты и обыски в Петровской сельскохозяйственной академии. Дело земцев. Дело анархистов. Дело Щастного.[1]1
Командующий Балтфлотом адмирал А. М. Щастный был вызван из Петрограда в Москву и здесь неожиданно приговорен только что созданным Верховным революционным трибуналом Советской республики к смертной казни за контрреволюционное намерение захватить власть. Настоящих улик против него не было. Тем не менее приговор был приведен в исполнение. Это был первый смертный приговор ревтрибунала, в свое время вызвавший бурные, хотя и безрезультатные протесты демократических кругов.
[Закрыть] Лихорадило Звенигород. Трясло Клин. С начала июня Москва, вследствие «обнаружившейся связи» московских заговорщиков с белыми мятежниками в Сибири и на Дону, объявлена постановлением Совнаркома на военном положении. Вскоре режим военного комендантства избрала и близлежащая Кострома «в связи с упорно циркулирующими слухами о предполагавшемся расхищении продовольственных грузов и разгоне губернского совета распределения» (68, 5 июля 1918 г.).[2]2
Все цитаты приводятся с сохранением орфографии и пунктуации оригиналов, без исправления грамматических ошибок и опечаток. В скобках приводятся номер источника по списку, страница или дата.
[Закрыть]
Впрочем, мирная жизнь еще тлела. В Художественном театре представляли «На дне», в студии Художественного – «Двенадцатую ночь», в театре Незлобина – историческую драму «Царь Иудейский». Народный кинематограф в цирке Саламонского шокировал зрителя картиною «Месть женщины – чудовищная месть». В Московском университете, как сообщала интеллигентная «Свобода России» (5 июня 1918 г.), «И.А.Ильин защитил диссертацию, представленную им на соискание степени магистра государственного права на тему „Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека…“. Во вступительном слове диссертант говорил о своеобразном нечувственном опыте философского познания».
А левоэсеровское «Знамя труда» (11 июня 1918 г.) в день принятия декрета о комбедах опубликовало есенинский «Сельский часослов», который, как током, искрит смертным смятением и тоскою: «Где моя родина?» Где моя Родина, где Русь, что с ней случилось, что над нею сделали? – начался есенинский стон отныне и до смерти. О, как хотел бы видеть он Сына русской девы, укрытого от гибели в «синих яслях» Волги, чтобы, возросши, мог он возвестить миру новую истину! Но Сын ли приидет, или родина со свиньею вместо солнца вынырнет из купели гибели? Нет уверенности ни в чем, нет, нет! И оттого – будто плач:
Гибни, край мой!
Гибни, Русь моя,
Начертательница
Третьего
Завета…
В эти самые дни в город на поезде прибыл человек. Несмотря на заградотряды, которые отлавливали мешочников, человек этот привез с собой чемодан тамбовских белых булок, ибо слыхал, что в Москве голод, а дело его было тонкое – добиться знакомства с авторитетами революционного движения и уяснить себе, что же все-таки происходит с революцией и насколько далеко зашло размежевание между различными конфессиями октябрьской веры. По сохранившейся фотографии 1918 года видно, что человек этот был мал ростом, субтилен, узкоплеч, коротко острижен. Одет, по моде того времени, в гимнастерку с портупеей и кирзовые сапоги. Можно с уверенностью сказать, что занятая собою Москва не заметила этого человека: никого особенно не интересовал этот провинциальный революционер, бежавший с Украины от немцев, ибо подобные ему обретались тогда в столице во множестве. Через полгода он заставит надменные большие города считаться с собой.
Звали этого человека Нестор Махно.
По ту сторону мифов
В истории революции едва ли сыщется другая, столь же противоречивая и туманная фигура, как Нестор Иванович Махно. Впрочем, точнее было бы говорить о противоречивости образа, созданного советской исторической наукой и породненными с Клио музами искусств. В случае с Махно мы вновь сталкиваемся с грандиозной фальсификацией, разработку которой десятки лет осуществляли и официальная историческая наука, и литература, и кино, преследуя одну, по сути своей прикладную, задачу: оправдать безраздельное политическое господство партии и ее историческую правоту.
Нет ничего удивительного в том, что в отношении Нестора Махно советская история предпочитала фигуру умолчания: за всем, что связано с махновщиной, стояла такая ужасающая правда о Гражданской войне, что лучше было ее просто не трогать. К тому же он пробивал свой путь в революции и, как всякий независимый революционер, подлежал забвению. Сам Махно понимал это. Поэтому он пытался перехватить инициативу и незадолго до финала своей борьбы просил соратника Петра Аршинова пробраться за границу и во что бы то ни стало написать и издать книгу о махновщине. Аршинов сделал это: «История махновского движения» появилась в Берлине в 1923 году. Но в СССР, в отличие даже от мемуаров многих стопроцентных белогвардейцев, она оставалась запрещенной, ибо касалась очень больного для коммунистической власти вопроса – взаимоотношений с крестьянством, которое лишь к 1922 году было окончательно усмирено и политически обезглавлено.
Советский опыт доказал, что умолчание – наиболее эффективное средство против исторической памяти. Конечно, вытравить из этой памяти образ «батьки» интерпретаторам истории было не под силу: Махно был слишком одиозной фигурой. Но зато можно было наполнить этот образ новым содержанием. Решающая роль в этом деле принадлежит, конечно, массовой культуре – литературе и кино, без которых подобные идеологические операции просто невозможны.
Интереснее всего то, что в воспоминаниях о Махно и махновщине позволительно говорить о жутких сторонах русской революции. Сюда, в махновщину, в повстанчество, вытесняются все застарелые комплексы большевизма и угрызения партийной совести. Повстанчеству приписывается то, в чем люди честные и совестливые в свое время обвиняли самих большевиков: неоправданная жестокость, ставка на силу, на инстинкты и амбиции масс, политическая безапелляционность, бестолковая, разрушительная революционность, непонимание законов функционирования цивилизованного общества, в том числе и роли государства.
Разве матросы с «Авроры» взломали винные погреба Зимнего? Нет, это махновцы вылакали винные погреба в Бердянске! Разве большевики обкладывали контрибуциями буржуазию, чтобы залатать финансовые дыры в расстроенных бюджетах городов? Нет, махновцы, махновцы! Разве Саенко – харьковский чекист и отпетый палач – был проклятием Украины? Нет, живодером мог быть только Левка Задов из махновской контрразведки. Разве большевики уничтожали сложившего оружие противника? А вот махновцы расстреливали пленных юнкеров по-над берегом Азовского моря.
Махновцы – не свои, поэтому они могут быть и плохими, и страшными. Народ Ленина хорош. Народ Махно темен, жесток, раздираем поистине самоубийственными противоречиями.
Другой момент: Махно был всегда особенно ненавистен советской власти как вождь и вдохновитель крестьянской войны. Отсюда и вполне определенная тактика «понижения» его образа – упор на примитивность Махно, отношение к нему свысока как к провинциалу. Причем провинциализм его двоякого рода. С одной стороны, Махно – политический провинциал, приверженец анархизма, так и не понявший «передового» марксизма, неизбежного торжества и благородства большевистского дела, а заодно и чести, которая была ему оказана. С другой стороны, он провинциал по происхождению, сын кучера, неуч, деревенщина. Каким бы демократизмом ни отличалась советская мемуарная и художественная литература, в отношении Махно позволительны брезгливо-аристократические нотки. Он примитивно, зримо жесток. Примитивно, зверообразно хитер – именно этой врожденной хитростью, а не военной одаренностью Махно и его командиров и объясняются военные успехи махновцев.
Примитивизация Махно и его окружения стала настолько устойчивой традицией, что даже в книге 1990 года советский историк В. В. Комин (и, что примечательно, за ним другие) в очередной раз повторяет историю о разговоре Махно с рабочими железной дороги, которая всплывает всякий раз, когда надо засвидетельствовать, как мало Махно понимал в жизни и экономике современного ему общества. Когда повстанцы в 1919 году захватили Екатеринослав, железнодорожники обратились к Махно с просьбой выдать им зарплату, задержанную при белых. Махно якобы ответил: «Повстанцы разъезжают на тачанках, им ваши железные дороги не нужны. Пусть же кто катается в поездах и расплачивается с вами» (33, 47). Известно, что свой ответ железнодорожникам Махно напечатал в повстанческой газете «Путь к свободе». И текст его известен. Никаких слов о тачанках и ненужности железных дорог там нет. Откуда же тачанки? Это, так сказать, чистый пропагандистский фольклор начала двадцатых годов. А наш современник просто не смог удержаться от искушения показать, что Махно, дурачок, не понимал такой малости…
Но самых выдающихся успехов достигло художественное слово.
Советская власть никогда не простила Махно ни первой любви, в которой, казалось, выявилось столько единодушия, столько воистину родственного, ни своеволия, которое он противопоставил диктату обеих столиц. Со злобой уязвленного самолюбия – словно капризная, властолюбивая женщина, находящая особое удовольствие в шельмовании отвернувшегося от нее любовника, – она с помощью всех доступных ей средств постаралась представить его образ в издевательском, карикатурном виде.
Заглянем на минутку в творческие мастерские двух крупных советских писателей, стараниями которых лишенный исторического контекста образ Махно вновь обретал плоть и кровь. Итак, Всеволод Иванов, роман «Пархоменко», 1939 год. По-своему уникальный пример трактовки событий Гражданской войны с точки зрения сталинских исторических ориентиров. Махно здесь нарисован с убедительной, конкретной зримостью. Это жестокий, патологически вероломный, бандитствующий атаман, по поводу которого неясно только одно – почему советская власть до сих пор его не прихлопнула? В публикуемом ниже отрывке речь идет о якобы имевшем место визите к Махно атамана Григорьева, который, восстав против большевиков, был разбит и кинулся спасаться к Махно, хитренько схоронившемуся в стороне от ссоры.
«…Махно встретил его на крыльце. Он стоял, расслабленно выставив вперед живот, прогнув поясницу и склонив набок голову с длинными волосами, мелкими глазками и зубами. Стараясь не глядеть в лицо Махно, атаман Григорьев вылез из брички и, схлопывая пыль с сапог, подошел к крыльцу.
– Кто против вас шел? – спросил Махно.
– Ворошилов.
Махно, накручивая волосы на палец, спросил:
– А на Екатеринослав кто наступал?
– Наступал Пархоменко, – ответил Григорьев.
– Большой волк вырос, – сказал Махно и, посторонившись, добавил: – Пожалуйте, атаман, в хату, будем совещаться.
Совещание было краткое. Восстановить разговор двух друзей вряд ли кому удастся. Махно считал вредным давать кому-либо объяснения своих поступков. Только когда на звук выстрела в комнату его вбежал адъютант, он сказал, указывая на труп Григорьева:
– Поспорили, – и пошел к Ламычеву».
Ламычев – посланец от большевиков. Подойдя к нему и опять начиная накручивать волосы на палец, Махно говорит:
«– Мятежник, атаман Григорьев, мною казнен. Есть доказательства, что я подчиняюсь советской власти? Передай, на каких условиях я получу оружие…» (25, 386–387).
Для читателя, незнакомого с историей Гражданской войны, в этом отрывке все правдоподобно, хотя в нем нет ни слова правды. Но уж такова сила художественного слова, что для неспециалиста ничего подозрительного в этом батьке Махно нет. Нормальный батька. Вполне доброкачественный. Хотя, надо признать, образ отделан грубовато. Важнейшей и по существу единственной характеристикой, сразу отличающей Махно от положительных персонажей, являются его длинные волосы. Это не только знак принадлежности к чуждому политическому течению – анархизму, но и символ более глубинной, почти биологической инаковости. Особенно отвратительным автору представляется жест накручивания волос на палец. Эта деталь – видимо, намек на изломанность, «женственность», непоследовательность, коварство – с особой значительностью повторяется им дважды. У Багрицкого в «Думе про Опанаса» Махно охарактеризован также через прическу:
«…У Махна по самы плечи волосня густая…»
Тут уж не поймешь, в самом ли деле человек перед нами или уже зверь, – столько поистине животного в этой «волосне». Та же зверскость, звероподобность вычитываются, в конце концов, и у Всеволода Иванова, который наделяет Махно повадками уходящего от погони волка: «Виляя, спотыкаясь и иногда выскакивая в поле, иногда прячась в лес и всегда переодетый крестьянином, уже свыше тысячи километров скакал Украиной патлатый батько Махно» (25, 591). Лохматы и сподвижники Махно, например, «батько Максюта, коренастый мужик с длинными сальными волосами, с серьгой в ухе, похожей на запонку, бывший конокрад и вор» (25, 357).
Суммируя впечатления, мы должны будем признать, что перед нами – выродки. Политические характеристики их предельно упрощены. У Багрицкого смысл махновщины выявляется в поступке Опанаса, убившего комиссара Когана. Вс. Иванов совсем лаконичен: «Бей жидов и грабь буржуев» (25, 361).
Гораздо тоньше сработан Махно Алексеем Толстым в «Хождении по мукам». Сам Махно Толстого интересует, по-видимому, сравнительно мало. Махновщина, которая, несомненно, была глубоко отвратительна сердцу русского барина, каковым автор трилогии был до революции и с успехом оставался после нее, занимает Толстого только как экзотический фон, на котором разворачиваются перипетии романа. Но, несмотря на личную неприязнь и идеологическую скованность, писатель все же дает понять, что фон этот глубоко драматичен.
У Иванова Махно – только выродок, тварь. У Толстого – внушающее ужас порождение того самого народа, о пробуждении которого так долго мечтала русская интеллигенция и которое само по себе оказалось так ужасно. Кого же породил народ, кто стоит во главе его? Злой карлик, бес, оборотень. Вспомним, как Рощин впервые повстречал Махно по дороге в Гуляй-Поле: «Навстречу ему ехал человек на велосипеде, вихляя передним колесом. За ним верхами – двое военных в черкесках и заломанных бараньих шапках. Маленький и худенький человек на велосипеде был одет в серые брюки и гимназическую куртку, из-под околыша синего с белым кантом гимназического картуза его висели прямые волосы почти до плеч» (76, 154). Рощин не может знать, что этот зловещий гимназист со сморщенным желтым лицом и высоким, «застревающим в ушах» голосом – оборотень, сам Махно, обладающий опасной для противника способностью менять свои обличья.
Оборотничество – черта бесовская. Изображаемый Толстым Махно – безусловно, бесовского племени. Он обладает рядом качеств, отличающих его от простых смертных. Даже пьет и пьянеет Махно иначе, чем обычные люди. В момент, когда Рощин оказывается в штабе Махно, тот стоит на распутье. С одной стороны, приехал делегат от большевиков матрос Чугай, чтобы договориться о совместном походе на Екатеринослав. С другой – прибыл посланник анархистской федерации «Набат» Лев Черный, чтобы отвадить от союза с большевиками. «Армия ждала. Делегат Чугай и мировой анархист из Харькова ждали. Махно пил спирт, не теряя разума, нарочно чудил и безобразничал – глаз его был остер, ухо чуткое, он все знал, все видел. Злоба кипела в нем» (76, 60). Злоба Махно такой нечеловеческой интенсивности, что перед нею клубком сворачивается жестокая душа палача и пытателя Левки Задова. Эта злоба – как судьба, с которой ни сам Махно, ни окружающие его люди ничего не могут поделать: «Махно гулял. В добытой после налета на Бердянск гимназической форме колесил на велосипеде напоказ всему городу, или вместе со своим адъютантом Каретником пел песни под гармонь, или появлялся на базаре, злой и бледный, ища ссоры, но все от него прятались, зная, как легко у него из кармана штанов вылетает револьвер» (76, 159).
Исторической правды ради можно, конечно, отметить, что никакой матрос Чугай на переговоры в Гуляй-Поле не приезжал, так же как и «мировой анархист» Лев Черный, введенный в повествование, похоже, только для того, чтобы высказывать блистательные глупости именем анархии; Левка Задов не был палачом – о чем отдельно. Не случился еще и налет на Бердянск, да и вообще про Екатеринослав совсем не так договаривались. Однако все это отнюдь не снижает жизненности образа. Именно таким батька Махно десятки лет представлялся большинству наших соотечественников.
Но сегодня и эта мастерская литературная работа нас абсолютно не устраивает. Не так все просто – чувствуем мы. Мы достаточно уже много знаем о революции, чтобы верить, будто все дело в этом злобном существе с мальчишеской фигуркой… Или попробуйте объяснить, как он выдержал три года на ринге Гражданской войны, когда в одночасье погибали между тектоническими плитами двух воюющих станов крутые и бывалые атаманы, что ходили до самого Киева. Здесь трагедия иного масштаба. Слышите, набат гудит, кони ржут, бряцает железо? Это деревня собирает своих хлопцев, выставляет на фронт свои полки. Это происходит то, о чем еще Михаил Бакунин мечтал, как о лучшем средстве покончить с мерзостью российской жизни, – народный бунт, который, как огнем, вычистит всех паразитов с тела земли, чтобы на ней, удобренное их пеплом, широко, свободно раскинулось плодоносное древо народной жизни. Наивный был человек Михаил Александрович, раз верил, что без господ, без паразитов прекрасно все устроится и такой благодатью разольется народный дух…
А взбунтовавшийся народ избрал своим вождем Нестора Ивановича Махно, которого с таким чувством описал нам пролетарский писатель Алексей Толстой. Хотя и не надо представлять Махно монстром, чтобы выявить трагизм ситуации. Махно не выродок, он персонаж народной войны, выдвиженец и боевая душа народа, его ненависть – вот где узел, не распутав который, нам никогда не разобраться в ситуации. Он в точном смысле слова народный герой, прошедший через все злодеяния и все подвиги восставшего народа. И сколько бы мы ни упрямствовали в своем беспримерном народолюбии, придется признать, что вождь, в общем-то, был адекватен своему народу.
Когда В. Г. Короленко в письме к А. В. Луначарскому сказал о Махно как о «среднем выводе украинского народа», он имел в виду как раз то, что его личность вполне соответствовала крестьянским представлениям о вожде: грамотный (но не интеллигент), умный (но неискушенный в политике, дипломатии, экономике), хитрый (но недальновидный – отличный тактик, скверный стратег), неприхотливый, не терпящий болтовни и казенщины, прежде всего полагающийся на силу, на пулеметы, на «рубку». Даже власть, которой, как ни грешно это было для анархиста, Махно тешил себя, тоже привлекала его именно вещными, чувственными, зримыми атрибутами: коляской, обитой небесного цвета сукном, ладно пригнанной портупеей, хлебом-солью, с поклоном поднесенным на рушнике, самим титулом – «батька».[3]3
В украинском языке слово «батько» является ласково-почтительным обращением к отцу, а в другом своем смысле значит – военачальник, командир. Накладываясь друг на друга, эти смыслы составляют единство, которое по-русски передается лишь несколько устаревшей аналогией – «отец-командир». Вот почему, даже будучи красным комбригом, Махно неизменно продолжал подписывать приказы – «комбриг батько Махно».
[Закрыть]
Обязательно нужно сказать, почему народный герой оказался смертельным врагом «народной власти», которую представляли большевики, почему их классовая теория на Украине не сработала и почему она, в принципе, не может сработать иначе, чем с эффективностью топора в хирургической операции. Но мы о другом.
Когда Ленин незадолго до октября 1917-го в «Государстве и революции» мечтательно (и даже как будто веря в это) пишет о знаменитой кухарке, которая вечером, после работы, будет управлять советским государством, предполагаемым как совершеннейшая форма демократии, он немногим отличается от Бакунина, полагавшего, что народу, в принципе, никаких советов давать не надо, поскольку народ сам располагает рецептами обустройства справедливой и свободной жизни…
Что ж, в новейшей истории редко встречались примеры столь полного осуществления народовластия, как в России в 1917–1918 годах и на Украине в 1918–1919 годах. Махновщина, например, – самое что ни на есть полное, самое искреннее воплощение этой идеи. И когда позднее идеологи большевизма пытались доказать, что ничего общего с «истинным» народовластием махновщина не имеет, это была ложь, для части из них бессознательная, но частью – хорошо осознаваемая. Махновщина была поистине хрестоматийной попыткой «до основания» разрушить старый мир, а затем своею собственной рукой воздвигнуть новый. Говорю это совершенно серьезно: попытка была действительно самоотверженная. К сожалению, мы знаем о ней слишком мало, так же как и о том, во что она обошлась самому народу…