Читать книгу "Мания встречи (сборник)"
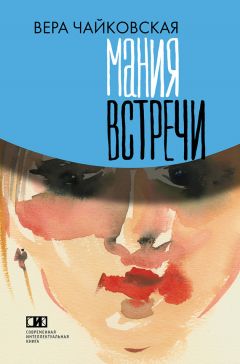
Автор книги: Вера Чайковская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Вера Чайковская
Мания встречи (сборник)
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)
© В. Чайковская, 2014
© ООО ТД «Современная интеллектуальная книга», 2014
* * *
Повести
Шармарская Венера
Глава IЖурнальные фотографии
Некто Иван Тураев, личность, на взгляд здравомыслящих современных горожан, малоинтересная и даже чем-то подозрительная, обнаружил себя однажды утром лежащим на диване в своей захламленной московской квартире, куда сквозь форточку проникал очень несвежий городской воздух. На столике возле дивана беспорядочной кучей были свалены книги. Обрывки страниц и куски плотных переплетов валялись на полу. Тураев припомнил, что вчера вечером в приступе не то отчаяния, не то ярости стал рвать книги. С наслаждением, с остервенением, со страстью. Вложил в это дело все мускульные силы, так что даже сейчас ощущал боль в руках! Ему показалось, что именно книги во всем виноваты.
Книги были главной его жизненной привязанностью. Но в результате они скрыли от него реальную жизнь. Долгие годы он провел, как крот в своей норе, в общении с ними. И что? Эти годы можно было вычеркнуть как нежизнь! И вот открыл он это только теперь, в годы перемен. Прежде сам воздух вокруг словно бы говорил: сиди в своей норе. Там тускло, а здесь, на улице, еще тусклее. Теперь же Тураеву из форточки повеял пусть и загазованный, но словно бы какой-то совсем другой воздух. Это был уже ветер, движение, натиск каких-то внешних сил, которые требовали ответа сил внутренних, ответного движения навстречу. И меньше всего для этого ответного движения годились книги. Они-то требовали сидения, вживания, раздумий. А время желало действий, причем резких, отчаянных, новых! Иван Тураев прекрасно понимал, что его отторжение от книг совпало с общим потоком, что было по меньшей мере странно и немножко даже стыдно. В общем потоке он никогда не оказывался – всегда на отшибе, в уголке, в сторонке, на краю. Но сейчас! Сильный сквозняк новых времен помог ему выбраться из пещеры и присоединиться к новым варварам. Что это варвары – он почти не сомневался. Но они были живые, они жили! И он тоже хотел жизни, реальных, а не вымышленных событий, реальных чувств! А книги? Их теперь читали редкие чудаки. В особенности книги «ученые». Тома по философии, истории науки и искусства обернулись «музейным хламом». А всем музейным он был сыт по горло – даром что прослужил в музее более тридцати лет.
Вместе с тем бурлящая за окном жизнь его безумно пугала. Но и притягивала тоже безумно. Он прислушивался к шумам бесконечного строительства невдалеке от их дома, к грохоту нескончаемых машин по их тихой некогда улочке с недоверием и жадностью – словно в этом шуме, трескотне, грохоте таился залог того, что и ему что-то удастся, что и он может хотя бы попробовать что-то иное, не похожее на прежнее.
Смешно сказать, но Тураев пристрастился читать иллюстрированные глянцевые журналы. Вот уж, с точки зрения прежнего Тураева, кладезь всяческой пошлости, вульгарности и банальности! Но теперь его привлекали люди действия, решившиеся поплыть в неизвестность и завоевать неподатливое мировое пространство. Кто-то хитрыми и не всегда честными сделками, кто-то накачанными бицепсами, кто-то красивым телом, сильным голосом, деловыми мозгами. У всех героев этих журналов, победительно глядящих на него с цветных фотографий, было чем похвастаться. И та грубая, брутальная и, в сущности, достаточно примитивная энергия, которой веяло от всех этих лиц, была Ивану Тураеву сейчас совершенно необходима. Она напоминала о чем-то смутном, задавленном, о силах, которые в нем бродили, не реализованные, мучительно сдерживаемые…
Все это бесконечно отличалось от его музейного прозябания. От его научных занятий. Он занимался всю жизнь установлением фактов ушедшей степной культуры: с помощью сохранившихся памятников быта, надписей, надгробий пытался воссоздать прошлое. Какое мифотворческое, призрачное занятие! Ведь и его собственная жизнь, задокументированная всевозможными бумагами и документами, не укладывалась ни в какие факты, проскальзывала мимо всех свидетельств, была неуловима и иррациональна! Тут все можно было подвергнуть сомнению, что наводило на размышление об истинности многих исторических «фактов» и их «научных» комментариев. Факт его собственного существования подтверждался лишь хронической болью в правом боку и тоже ставшей уже хронической жаждой любви. Очень смешной в его годы.
Одиночество, одиночество, столько лет одинокой жизни в квартире, в музее, в скорлупе своего «я», безумно надоевшего.
После ранней смерти родителей – отец был профессором-лингвистом, а мать – профессором-литературоведом, они и преподавали в одном институте, и умерли пусть не в один день, но в один год – Тураев дома общался почти исключительно со своей девяностолетней няней, еще бодрой, происходившей из рязанской глубинки и жившей в «профессорской» квартире уже лет шестьдесят. Жизненные передряги помешали ей учиться в школе, ее семья была сослана как «кулацкая» в голую степь, она бежала, где-то работала по найму, добрела до Москвы и устроилась у родителей Тураева, давших ей приют. Кое-как Ваня научил ее читать, ему было тогда лет шесть, и сам он с увлечением постигал эту науку, которая взрослой няне давалась с великим трудом. Няня всю жизнь читала одну и ту же затрепанную и разодранную книгу, обернутую в старую газету. Это был старинный сборник молитв, каким-то чудом к ней попавший. При этом няня очень многое понимала и еще больше интуитивно чувствовала – в особенности то, что касалось ее Ванечки. Ее пожизненной любви. Видимо, другой у нее не случилось. Ей Тураев мог что-то важное о себе сказать, пожаловаться, возмутиться и даже иногда при ней расплакаться. Как-то нелепо и глупо все складывалось. Ведь теперешняя жизнь, которая его так манила, требовала, как он стал все отчетливее понимать, вчитываясь в журнальные страницы, каких-то таких качеств, которых у него начисто не было! Положим, он совершенно не ощущал в себе коммерческой жилки.
Ее не было и у древних шармарских племен, которыми он всю жизнь со страстью занимался. Эти племена были разбросаны на границе со степной Русью и после возникновения Киевского государства очень ему досаждали. Впрочем, были и мирные периоды, когда и создавалась истинная шармарская культура. Но дело было даже не в культуре, дело было в вольной, радостной, свежей жизни, напоенной степными ароматами и горьким запахом ночных догорающих костров. Тураев в последнее время не столько искал каких-либо новых «фактов», сколько представлял в мечтах эту жизнь – нерасчлененную, ускользающую, таинственную, как любая жизнь, даже и его собственная. Но еще – полную степной поэзии, стихийной свободы, природных откровений – того, чего у него давно уже не было. Да и было ли вообще когда-нибудь?
И вот, представляя себе эту жизнь так отчетливо, словно сахарно-сладкий арбуз, поднесенный к губам, он и набросился на свои и чужие ученые фолианты. Измышления кабинетных умов.
Ивану Тураеву, как уже приходилось констатировать в начале повествования, захотелось живой жизни. Глядя на разбросанные по полу, растерзанные книги, он не без изумления вспомнил, что паспортная дата его рождения (некий несомненный «факт», которым так дорожат ученые) возвещает всему миру, что он, Иван Тураев, уже года два как пенсионер. Правда, своей пенсии он все никак не мог оформить. Пугали околичности – безмолвно-покорные очереди в слабо освещенных коридорах, безграмотные наглые чиновницы и чиновники. Он был горд.
И еще кто-то в музее обмолвился, какого размера пенсию ему предстоит получить. Это было существенно меньше даже его сегодняшней скромной музейной зарплаты. Так стоило ли торопиться из-за таких крох? Однако денег катастрофически не хватало. Об этом с сокрушением в голосе говорила ему старая нянька Феня. За ученость в нынешние времена денег не платили. Может быть, и правильно делали? Ату их, этих «архивных юношей», незаметно ставших «архивными старичками»! Кому и зачем они нужны? Самого себя Тураев в «архивных старичках» не числил. И вообще ощущал себя как-то подозрительно молодо. В нем кипели какие-то бурные, юношеские чувства, так и не изжитые в многолетнем музейном затворничестве.
Он порылся в журналах, которые, в отличие от книг, сваленных в кучу или разбросанных по полу, лежали на столике аккуратной стопкой. И сразу нашел среди них тот, который вчера, перед взрывом ярости и отчаяния, привлек его внимание. Нужная страница открылась тоже сразу, словно наэлектризованная его чувством.
Он уставился на фотографии женщины, запечатленной то на экзотическом пляже с пальмами за спиной, то верхом на мудро глядящем верблюде, то на людном горном курорте в костюме, напоминающем скафандр. Она была маленькая и хилая, в открытом купальнике ключицы так и торчали! Но дело было не в ее хилости, скорее согревающей его сердце (сильным должен быть мужчина!), а в лице. А вот лицо было совершенно невыразительным. Его особенные черты скрыли косметологи и визажисты.
И все же – вот странность! – сквозь эту улыбающуюся ровными и невероятно белыми зубами маску словно проступало ее настоящее лицо, которое он таинственным образом прозревал. Он видел в ней едва ли не свою соседку по дому, в которую он школьником был долго, неотступно, тайно и поэтому (или не поэтому?) совершенно безнадежно влюблен. Пожалуй, это была самая сильная и упорная его влюбленность. Всех последующих женщин, привлекших в разные годы его внимание, он сейчас уже совершенно не помнил и не смог бы узнать на улице, даже если бы время оставило их прежними. Конечно, Тураев понимал, что эта женщина и та его соседка не могут совпасть и сделаться одной и той же личностью. Соседка была его ровесницей, даже года на два старше, а эта крошка из журнала сияла глянцем здесь и сейчас. Соседка давно уже превратилась в старушку и жила где-нибудь в Люберцах, а может быть, и в Бостоне, вызванная туда детьми или знакомыми. Нынешние судьбы – Тураев это остро ощущал – складывались часто головокружительно и неправдоподобно. Но как бы они ни складывались, соседка не могла превратиться в нынешнюю журнальную диву. И все же Тураев, лишенный долголетнею службой в музее чувства времени, даже от этой безумной мысли не отказывался. А вдруг? Почему его так поразило это похожее на маску лицо? Что он мог в нем найти? Что ему эта особа?
Вот странность! Словно из десятка совершенно одинаковых глянцевых красоток он выбрал почему-то именно эту, как ту единственную, настоящую, долгожданную, которую находят герои народных сказок под ложными, неразличимыми или подставными обличьями. Ведь угадал же Иван Царевич в лягушке Царевну – еще одна сказочная подстановка! И мало того, что Тураев ее выделил, он еще представил ее маленькой и когда-то им любимой. В незапамятные годы. У той были веснушки на носу и звонкий голос, когда она что-то кричала подружкам из окна во двор.
В какой-то момент разглядывания этих фотографий вся современная жизнь представилась Тураеву незримой борьбой фантомов, пустышек, симулякров – смешное заимствование, очень точно выражающее суть явления! – с редкими подлинниками. Но подчас и подлинникам приходилось скрываться, подделываться под общие вкусы, выдавать себя за нечто менее драгоценное, зато блестящее. Не это ли произошло с ней?
Под одной из фотографий, вероятно, хорошо оплаченных каким-нибудь спонсором, если не самой моделью (Тураев знал уже словечко «пиар», мелькающее в журналах то там, то сям), он прочел, что красотка – концертирующая певица. Ее жанр определить было трудно. В репертуаре назывались как классические оперные арии, так и арии из оперетт и даже современные песенные шлягеры. Тураеву хотелось думать, что она все же оперная певица, которая иногда умеет «пошутить». Но было ли это так? Далее говорилось, что ей приходилось выступать с крупнейшими мастерами «оперного бизнеса» (так выразился журналист!) для многотысячных толп в Германии и России. Многотысячные толпы – тоже ему не понравились. Ангажировалось выступление певицы на каком-то громком московском концерте в самое ближайшее время. И Тураев внутренне решил обязательно на него попасть. Хотя он и понимал, что сделать это для него почти невозможно. Наверняка все билеты распроданы, да и где их искать? И сколько тысяч за них платить? Впрочем, меньше всего он думал о деньгах – как-нибудь выкрутится, что-нибудь продаст из домашнего серебра. Главное – попасть на концерт! Приняв это важное и почти не осуществимое решение, Тураев рывком поднялся с дивана, быстро оделся, выбросил в мусорное ведро кучу бумажного мусора – макулатуру, как называли этот хлам в пионерском детстве, и, наскоро выпив чаю с хлебом и медом, отправился в музей.
Глава IIСтранные сближения
Тураев вошел со служебного входа, впрочем, парадный вход был с некоторых пор закрыт, и посетители, по российскому обыкновению, входили через «боковушку». В громадном холле, поделенном пополам и частично сдаваемом внаем, благодаря чему музей кое-как держался на плаву, проходила очередная конференция по экономике. Одна группа экономистов доказывала другой, «как дважды два», что все предложения оппонентов – сплошная чушь. Экономика же вела себя, как хотела, совершенно не слушая ни тех, ни этих ученых мужей.
Тураевское место службы находилось невдалеке от Кремля – на самом скрещении московских культурных путей. И как на грех или просто в силу того, что все значительное или мнящее себя таковым пытается на Руси присвоить себе «веселое имя» Пушкина, поблизости находилось сразу три музея с именем поэта в названии. Литературный и художественный носили это славное имя давно, а вот историко-этнографический, в котором со дня его основания служил Тураев, стал так называться с приходом нового директора, подхватившего идею тотальных переименований. Самое забавное, что все они столпились на небольшом пятачке, окруженные несколькими свежевыстроенными башнями, где некоторые пронырливые живописцы разместили свои галереи. Башни словно бы охраняли это «пушкинское гнездо». Происходили курьезы. Туристы, рвавшиеся увидеть пушкинские реликвии, забредали в тураевский музей, где при входе их встречало чучело громадной гориллы, обросшей шерстью и с камнем в руке. Гориллу часто принимали за какого-то далекого «африканского» предка Пушкина и продолжали осмотр, все более испуганно тараща глаза.
Любители живописи тоже нередко попадали прямо в объятия зловещей гориллы с густой зеленоватой шерстью на груди. Внизу, где трое дюжих охранников проверяли сумки, стоял непрерывный возмущенный гул. Разъяренные посетители выясняли, «кто виноват». Виноватым, как всегда, оказывался Пушкин. Впрочем, хотя Тураев и доказывал директору необходимость сменить название, имя Пушкина невольно его радовало. Он миновал охрану и по витой лестнице поднялся на второй этаж. Тут шел какой-то непрерывный ремонт, все более масштабный. Директор лелеял планы построить в музее единственный в мире мемориальный ресторан, где будут подаваться кушанья давно исчезнувших народов. В частности – древних шармарских племен. Некоторые их кулинарные рецепты перевел с шармарского сам Тураев. Но затея ему казалась подозрительной даже и теперь, когда его захватила энергия новой жизни. Энергия энергией, но он не был готов смириться с бездарностью и мелким жульничеством. А именно этими милыми качествами отличался новый директор, немолодой, совершенно лысый и грузный не то армянин, не до азербайджанец (его национальная самоидентификация зависела от конъюнктурных обстоятельств). В музейном деле он ничего не понимал. Образование у него было, конечно же, экономическое, причем и за этот диплом, как догадывался Тураев, было некогда хорошо заплачено. Сидевший многие годы тихо и по макушку занятый шармарскими древностями, Тураев неожиданно для себя ввязался с директором в бесконечный конфликт. Он отстаивал столь очевидные вещи, что это было даже скучно и как-то не по-тураевски. Но остальные сотрудники смирялись с любой нелепостью – с рестораном в музее, с экономистами в музейном холле, с путаницей из-за названия. Впрочем, главный предмет конфликта был в другом. Все уперлось в некую раскрашенную куклу, которую директор хотел сделать гвоздем готовящейся большой выставки древнешармарского искусства.
Это был каким-то чудом сохранившийся в нише древней постройки и откопанный современными археологами глиняный «болван» – голова с намеченной шеей и плечами, с углублениями глаз и выпуклостями губ, когда-то, должно быть, умело раскрашенная.
«Болван» был обнаружен на месте древнего шармарского поселения. Находка вызвала шум в прессе, а директору захотелось сделать из нее громкое шоу. Он тут же отдал ее на реставрацию в какое-то «свое», весьма сомнительное место и через короткое время получил то, что хотел. Идолище вышло на славу – с черными зрачками веселых и наглых, как бы подмигивающих глаз, в черном зверообразном парике, заказанном директором еще в одном «своем» месте. В этом исполнении «болван» обернулся весьма эффектной и смахивающей на современную модель молодой женщиной. Музейные дамы подобострастно восхищались отреставрированной находкой и называли ее не иначе как Шармарской Венерой. Возмущался один Тураев, которому привелось видеть находку до ее, с позволения сказать, реставрации.
Но так как Тураев был главным музейным специалистом по шармарским древностям, он должен был поставить свою подпись в документах, удостоверяющих доброкачественность реставрации. Подпись он ставить отказывался. В сущности, не в подписи было дело – Тиграну Мамедычу не впервой было обходить существующие правила. Но директору безумно хотелось заполучить подпись именно «главного эксперта» по шармарам, а не самозваных знатоков, готовых расписаться под любым фальшаком, разумеется не бескорыстно…
Не успел Тураев явиться и открыть дверь своего малюсенького кабинета, как секретарша тотчас вызвала его к директору. Нервно вздрогнув и не поглядевшись в зеркало, зачем-то висевшее в его кабинете, а следовательно, не поправив задравшегося воротника серенькой с длинными рукавами рубахи, он поплелся к начальству.
Кстати, уж скажем, что тураевская внешность… ну да, эта самая внешность была предметом самого пристального внимания и обсуждения сотрудников музея, в особенности сотрудниц. Да ведь и мужчин там было не густо, только Тураев с директором да два молодца-охранника. В сущности, он был очень красив даже сейчас и сейчас, возможно, красивее, чем в юности. Необыкновенно красивая голова с густыми, легкими, взлетающими седыми волосами, живые темные глаза, широкие плечи при высоком росте, тихий голос приятного вибрирующего тембра. Дело портила чудаческая конфузливость, сутулившая плечи и заставляющая одеваться в незаметные серенькие тона, сливающиеся с домами, переулками, сереньким московским дождиком. Его любовь к «серенькому» музейные дамы давно заметили и с неостывающей насмешливостью много лет обсуждали.
Новый директор, Тигран Мамедыч, напротив, любил все яркое и встретил Тураева в желтой рубашке с фиолетовой поперечной подписью на сравнительно недавно расшифрованном и реконструированном Тураевым шармарском языке. Тураев машинально перевел: «Лови момент!» На всех языках и во все времена определенный сорт людей выбирал в качестве ориентира этот призыв и с бо́льшим или меньшим успехом его осуществлял.
Тураев медленно, с оглядкой, так как ожидал от директора любых подвохов, подошел к большому «начальственному» столу, чтобы сесть в кресло напротив Мамедыча (хотя тот ему сесть не предложил), но вдруг заприметил на столе глянцевую полоску пригласительного билета, частично закрытую бумагами. Однако лицо той самой певицы, какая-то новая ее фотография в огромной нелепой шляпе, выглядывало из-под бумаг.
Тигран Мамедыч мгновенно перехватил его взгляд и, обладая какой-то звериной интуицией, прямо-таки просиял от радости.
– Хотите, дам билетик? Купить нельзя. Не продаются, а распространяются… Прежде, бывало, по партийной номенклатуре, а теперь – коммерческой и элитной. Хотите или нет? Быстрее!
– Х-хочу.
Тураев сделал шаг к необъятному директорскому столу и протянул руку за билетом. Директор с жадностью схватил эту руку и горячо пожал.
– Ах вы, мой родной! Тоже любите нашу Танечку? Мне даже кажется, что в ней есть что-то от нашей шармарочки!
Директор быстро, как фокусник, вытащил откуда-то другой длинный глянцевый билет. На этот раз это было приглашение на музейную выставку. На обложке красовался раскрашенный глиняный болван с густой черной шевелюрой. И Тураев вынужден был признать, что обе «дивы» просто безумно похожи друг на друга и даже их подведенные глаза подмигивают сходным образом, точно те «умельцы», которые подхалтурили Шармарскую Венеру, держали в голове облик этой современной красотки. Шармарке не хватало только огромной шляпы.
Директор, демонстрируя сходство, вытащил билет на концерт из-под бумаг. «Таня Алябьева», – прочел Тураев под изображением дивы. Да он ведь уже знал, что ее зовут Таня. На дураковатый современный манер. Не Татьяна, а Таня – для всех, а не только для самых близких. Он попробовал это имя на вкус – в нем боролся старый Тураев с новым – в «Тане», возможно, было больше энергии, молодости, задора… Но все же слишком интимно для толпы…
Директор, неотступно наблюдая за сменой выражений на тураевском лице, помахал перед его носом билетом с Таней в нелепой шляпе, а потом, опять-таки жестом фокусника, достал откуда-то протокол музейных заседаний. В нем не хватало одной тураевской подписи. Директор протянул ему обе бумажки – глянцевую и официально-скучную. Тураев правой рукой взял праздничную глянцевую, а левой поставил на скучном протоколе какую-то закорючку. Левой он никогда не расписывался. Подпись была явно «не его». Но директор или этого не заметил, или ему это было все равно. Он схватил протокол и потряс им в воздухе, как знаменем. И, перегнувшись через стол, попытался Тураева облобызать, но тот решительно уклонился, сунул билет в карман брюк и, испытывая легкое головокружение, вышел из кабинета.









































