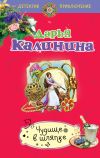Текст книги "Когда нет прощения"

Автор книги: Виктор Серж
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Месье Баттисти охотно бы врезал по этой подлой шафранной роже, но сдержался и резко произнес: «Это еще зачем?», давая понять: «Отвяжитесь от меня!» Месье Гобфен еще более конфиденциально процедил сквозь зубы слова, означавшие происшествие крайне серьезное: «Прибыла полиция». Что ж, сомнений быть не может. Месье Баттисти подобрался, но даже не побледнел (а рука его сжимала НЕВОЗМОЖНОЕ письмо). Поступим осторожно и выясним, в чем дело.
– А мне-то что?
– Вы пропустите арест.
Если бы он мог, он бы расхохотался – вот утешение! Безумие! И в этом безумном мире безумные люди разыгрывают спокойствие даже перед бюро маленьких отелей! Конечно, вчерашний толстяк находился здесь из-за меня. И дама со сдавленными корсетом грудями, которую он привел, приходила посмотреть на меня. Гениальная слежка, просто чудо! А этот чокнутый жалеет, что я пропущу арест – или насмехается надо мной! Все кончено, такая вышла оплошность. А Надин наверху ничего не подозревает, бедная Надин… Поскольку игра уже не имела смысла, месье Баттисти разыграл удивление так неловко, что Гобфен поразился и опустил глаза.
– Какой арест?
Англичанин из шестого номера, массивный, рыжий, в фетровой шляпе с узкими полями и сером пальто, какие иногда носят матросы-отпускники, сдал ключ.
– No letters?
– No, Sir. Will you take, like yesterday, your evening meal in the room[2]2
Писем нет? – Нет, сэр. Не желаете ли, как вчера, ужин в номер? (англ.)
[Закрыть], месье Блэкбридж?
Месье Блэкбридж издал звук, похожий на позвякивание якорной цепи по гальке… Интермедия дурной пьесы с мрачной развязкой, Блэкбридж, Черный Мост, имя, весьма подходящее случаю. Якорная цепь – оковы, камера – как просто он попался! А сейчас из лифта выйдет фрау Лорелея Хексенкранц, мадам Лорелея Ведьма-Кранц… Безумие мира артистично до малейших деталей.
– No. (Англичанин подавил смешок, прозвучавший как цепь, упавшая в колодец.) I am going to Tabarin.
– A wonderful show[3]3
Нет… Я отправляюсь в Табарен. – Желаю удачи. (англ.)
[Закрыть], месье Блэкбридж, – слащаво произнес месье Гобфен.
Ветер с улицы подхватил шляпу с узкими полями, полы серого пальто. Ведьмы уносили этого рыжеволосого человека, который уходил по улице Рошешуар на разгульный шабаш… Месье Баттисти сжал челюсти, его слова прозвучали как удар:
– Какой арест?
На лице месье Гобфена расплылась улыбка утопленника:
– Негра, конечно!
Какого негра? Вы что, будете утверждать, что я негр?
Когда люди начинают бредить, все возможно.
– Хотят все сделать тихо, в номере или в коридоре. Думают, что он не окажет сопротивления. Два инспектора уже поджидают в ресторане.
Все загадочным образом встало на свои места, самолет выровнялся и вышел из пике, когда, казалось, был готов врезаться в горную цепь, и полет продолжается…
– Ах вот что, – сказал месье Баттисти. – Действительно жаль. Time is money, мой друг. Это не создаст ненужную шумиху вокруг отеля?
– Скорее наоборот, – ответствовал месье Гобфен. – Преступление-то совершено не у нас, понимаете?
«Хотел бы я знать, какие преступления совершены не у тебя, старый пройдоха», – едва не сказал месье Баттисти – но самолет снова входил в пике над палеозойскими скалами: в руках Баттисти сжимал НЕВОЗМОЖНОЕ письмо. Он сухо сказал:
– Быстрее приготовьте счет. Через полчаса мы уезжаем.
Посмотрим, не кинется ли этот урод к телефону! Месье Баттисти уселся на плетеное канапе, а Гобфен действительно взял трубку. Баттисти не выпускал его из виду, одновременно тупо перечитывая надпись на конверте: «Министерство внутренних дел»… Нет, что? «Вателла & Мизурини, Спагетти оптом… Месье Чезаре Баттистини…» Трижды кретин! Или намеренная ошибка, чтобы посмотреть на мою реакцию? Месье Гобфен разговаривал по телефону с прачкой: «…Обнаружена ошибка, мадам, в счете за белье… У нас выходит двадцать пар одеял, шестнадцать пар пододеяльников, сорок четыре наволочки, шесть дюжин простынь…» Месье Баттисти прислушивался к цифрам, которые могли быть шифровкой… Газетчик крикнул фальцетом в открытую дверь: «Спе-ециальный выпуск… Правительственный кри-изис…» Упругой походкой хорошего танцора вошел элегантный негр, убийца на пути к эшафоту, которого на втором этаже ожидали два инспектора, попивавшие, как положено, красное вино. Месье Гобфен сказал: «Минутку, месье, подождите…», – и протянул негру ключ от номера, ключ в иной мир, куда можно попасть, волоча за собой на веревочке корзину с головой, которой уже нет на плечах. «Смилуйтесь, портье, приставьте мне ее, мои долги уплачены», пришлось бы стать чревовещателем, чтобы произнести это… Гобфен нетерпеливо улыбнулся – за бюро другого, вымышленного мира. «Благодарю», – произнес негр, не пошевелив губами, уже чревовещатель, подготовленный к своей участи! Месье Баттисти отогнал эти мысли.
– Это письмо не для меня…
И неожиданно добавил:
– Оно для негра…
– Ну вот! – удивленно сказал месье Гобфен. – Вы этого имели в виду? Ах нет, это письмо не для него…
Губы портье растянулись в улыбке могильщика:
– Не для него, не для вас… Извините, месье Баттистини.
– Бат-тис-ти, – четко произнес Д. – Без «ни».
– Без «ни», – повторил месье Гобфен, проведя рукой по горлу и подмигнув при мысли о негре.
… На Самаркандском рынке старые сказители еще рассказывают сказки Тысячи и Одной Ночи, дергая за ниточки марионеток. Одно движение пальцев в потайном ящичке, и Злой Черный Принц проваливается в подземелье. Другое движение – и поднимается сабля Праведника… Так появился третий инспектор в штатском, которого Баттисти тотчас узнал по кабаньей шее и усохшему профилю… «Вы подниметесь?», – спросил его месье Гобфен, сгорая от нетерпения. «Пока нет», – мрачно произнес усохший профиль и повернулся к Баттисти. «Главное – выбраться отсюда», – подумал Д.
«Надин, давай быстрее. Мы уезжаем через десять минут…» «Этот дом ужасен, – тихо ответила Надин, – Но нам действительно так нужно уезжать?»
* * *
Мы устроены так, что тоска утихает, наваждение незаметно проходит; иногда достаточно всего лишь сменить обстановку. Баттисти приехали в Гавр. Воздух был влажным и солоноватым, пришедшие с Ла-Манша легкие туманы окутывали проспекты тихого буржуазного города. Даже голые деревья, казалось, были здоровее и крепче, чем в Париже. Большие кафе свидетельствовали о степенной зажиточности. Бруно Баттисти не встревожился, узнав, что в газетах не сообщалось об аресте негра. «Бывает, что такие вещи замалчивают в течение нескольких дней…», – сказал он Ноэми. («Надо привыкнуть к новым именам…») Глядя на зеленоватое, покрытое пенистыми волнами море, они испытывали радость облегчения, им казалось, что океан навсегда отгородит их от неразрешимых проблем.
Бруно думал, что мы живем воспоминаниями, накопленными в подсознании. Если нам легче дышится в горах, значит, в нас пробуждается зов доисторических лесов; тревога в пещере напоминает о времени страха и первых колдовских опытов, – а море обещает нам побег, приключения, открытия. Сколько гонимых с тех пор, как люди преследуют и убивают друг друга, искали спасения на иных берегах, и беглецы более, нежели завоеватели, способствовали открытию путей в далекие края… Даже легенда об аргонавтах повествует об изгнании и бегстве Ясона, а Золотое Руно – всего лишь символ побега. Современному человеку следует изучить древние мифы в свете опыта последних лет… Именно поэтому мы говорим о красоте моря, на самом деле бесчеловечного и однообразного, просторы которого должны скорее испугать маленького человека, задумчиво стоящего на пляже. Простор, бесцельное движение, примитивная сила, какие угнетающие понятия! Но полная безопасность, которую они обещают, сильнее.
Теперь, когда телеграммы, сообщения, тайные приказы, ложь могут за несколько часов преодолеть любые расстояния, и все острова уже открыты, когда не существует надежных убежищ от преследования компетентных органов, лабиринты больших городов дают больше шансов на спасение, чем далекие архипелаги; но мы все равно готовы довериться тысячелетним инстинктам, в нашей груди еще звучат голоса далеких предков, пускавшихся в бегство на утлых пирогах… Город стал для нас комфортабельной тюрьмой, без которой мы почти не мыслим жизни. Мы хотели бы бежать из него, подобно тому, как невольно и с ужасом желаем гибели самым дорогим существам, ибо в их смерти провидим свою…
«Надин-Ноэми, я составил прекрасные планы, разработал их словно инженер-строитель. У нас очень мало денег. Это тоже нас удерживало, хотя я об этом не задумывался. (Презрение к деньгам являлось нашей силой, и вот она обернулась против нас.) У нас есть руки и головы, но что толку… Я хотел обрести полную свободу, попрощаться с Европой, Азией, городами, грядущей войной… Толстой кое в чем был прав. Что человеку нужно от земли? Чтобы она кормила его и приняла его бренные останки… Нас ждет раскаленная, исполненная жизненной силы земля, ибо, потеряв все, мы должны обрести, по меньшей мере, примитивную радость жизни…»
Повеселевшая Ноэми ответила:
– Великий помещик-мистик исповедовал философию мелкого рантье-вегетарианца. По крайней мере, так меня учили. Вот и ты стал толстовцем. Не сердись, мне нравится, когда ты так говоришь.
В свое последнее европейское утро они бродили по влажной крупной гальке у края холодного моря, разглядывая выстроившиеся вдоль берега уродливые виллы, жалкие и претенциозные, как их бездушные хозяева. И все же в этих зданиях было что-то трогательное, как будто в посредственной архитектуре отразилось сопротивление человека уничтожению лучшего, что в нем есть. Дух приключений и эстетизм нашли выражение в гипсовых бюстах дам послусвета времен Второй Империи, расставленных в крошечных садиках с оградой из ракушечника, которые напоминали тюремные дворы; любовь к чистоте и свету заставила увенчать разноцветными стеклянными шарами фонтаны, не работающие из соображений экономии. Виллы призваны были походить на шотландские замки, баварские шале, турецкие павильоны, готические часовни; но на самом деле это были лишь игрушки на потребу большим детям, стремившимся расцветить серые будни.
Перед путниками возник утес, серый, источенный водой и ветром. Творениям природы всегда свойственны величие и благородство. Замечали ли вы, что ни одно из них не кажется смешным? Все смешное и посредственное – дело рук человека. Это неудачи… Все мы посредственны и смешны… Утес венчали пучки пожелтевшей травы; ниже, в щелях, гнездились птицы, там, в недоступных для разорителей гнезд местах, кипела жизнь. На вершине утеса показались маленькие, будто игрушечные пушки укреплений; сине-бело-красное знамя невинно реяло на ветру… Свежий оползень заставил чету Баттисти повернуть назад. Когда они любовались последствиями разбушевавшейся стихии, женщина с продуктовой корзинкой, направлявшаяся к какому-то одинокому жилищу на прибрежной косе, поприветствовала их, удивленная, что видит гуляющих в такую плохую погоду.
– Вот уже месяц, как рухнуло, – сказала она. – Ничего себе, не правда ли?
– Жертв не было? – спросил Бруно из вежливости, уверенный, что в таком пустынном месте никто не мог пострадать.
– Ах, нет! Люди бывают здесь только по воскресеньям, да и то, когда сезон… Только дрессировщик собак, живший в своем бараке.
– Конечно, – произнесла Ноэми с понимающим видом, – это не в счет. Всего хорошего, мадам.
Они продолжили путь, помрачнев, но оживившись. Земля, подточенная приливами, вдруг разверзается, приходит в движение, незаметно оживает, начинает тихо оползать; в ней возникает поначалу неразличимый рокот, стон, песнь! Кусок глинобитной беленой стены, неподвластной ветрам, подается и рушится как в замедленной съемке. Незначительные катастрофы готовятся и совершаются точно так же, как великие общественные потрясения, их тоже предвещает отдаленный рокот, доступный тем, кто не оглушает себя звуками джаза. «Это ничего, – рассуждают люди благонамеренные, – знаем мы такие шумы, наш мир все же стабилен, да и мы пребываем в добром здравии…»
– У меня еще в ушах звучит «нет, жертв не было» этой милой женщины, – вновь заговорила Ноэми, – никто, только дрессировщик собак. Я все думаю об этом человеке, который, должно быть, построил свой барак из обломков потерпевших крушение судов, спал один под готовым обрушиться склоном, под шум прибоя, видел по утрам все тот же пустынный пейзаж… Чему он учил собак? Приносить морские звезды? Или вставать на задние лапы, выпрашивая кусочек сахару? И сколько случайностей совпало, чтобы погубить его вместе с собаками!
Она смерила оползень взглядом.
– Знаешь, мне бы понравилось жить здесь! На вид все так прочно. Я бы рискнула… И пусть однажды ночью на нас обрушатся тонны земли. Это было бы естественно. Никто. Только мы…
Бруно сказал:
– Пройдет немного времени, и будут говорить: только город, только армия, только народ, только страна… Маленькая страна, погребенная оползнем… Близится время разрушений. В этот момент генеральные штабы проводят серьезные расчеты, касающиеся всей Европы, изучают варианты. В первый год войны погибнет столько-то молодых солдат, такой-то процент населения, такая-то доля производства. Это может соответствовать полному уничтожению Бельгии, например, – машины, тела и души, на которые обрушатся целые Гималаи… Все это – лишь вопрос времени. Наши расчеты столь же точны, что и расчеты астрономов… Наиболее вероятный час X уже назначен, может лишь ускорить события. Безумный бог истории торопится…
Поднялся морской бриз, холодный и солоноватый. Они шли против ветра. Ноэми повернулась к нему спиной. Она увидела идущего позади Бруно, с непокрытой головой, руки в карманах, склонившегося вперед. Его решительный шаг по скользкой гальке, нахмуренный лоб, горько сжатый рот заставили ее закричать:
– Что ты сказал? Я не слышу… из-за ветра… Саша…
– Ничего… ничего…
Ему хотелось крикнуть изо всех сил: «Ничего… Ничего впереди… Жестокость, разрушения, безумие, хаос… Ничего!» Ибо он с нечеловеческой, беспощадной ясностью математической формулы, озарившей прошлое, настоящее и будущее, смог выразить давно зревшие смутные предчувствия. «Нужно остаться… Встать на защиту… Нет, ты ничего не сможешь защитить, смерть тебя опередит… Ничто не возможно… Магическое, ключевое слово нашей эпохи: Ничто…»
«Хотел бы я быть одним из этих трудолюбивых муравьев, которые в разрушенных городах из последних сил, вопреки очевидному, борются за спасение ребенка, раненого, машины, книги… Одним из незаметных созданий, которые прячутся в подземельях вражеских городов, днем и ночью трудясь над разрушением какого-нибудь бюро планирования разрушений… Когда в жизни остается лишь один смысл – уничтожение разрушителей и даже неизвестно, чем кончится это взаимное уничтожение.»
И с горькой радостью он закричал на ветру:
– Надин-Ноэми, я нашел формулу… (Он глотнул соленого воздуха, закашлялся, на миг возникла мысль об удушливых газах.) Формула: разрушители… будут разрушены… разрушены…
Ветер внезапно стих. Надин подождала, пока он подойдет, и обняла его.
– Что ты кричал, Саша? Ты был похож на безумца. Знаешь, тебе это даже идет.
– Ничего. (Это слово преследовало его, будто заключало в себе ответ на все вопросы.) Надин, я думал, что нам следует остаться, что бы ни произошло… Я слишком привязан к этому миру, мы должны защитить его. Мне стыдно нашего бегства…
– Остаться где, мой друг? Что делать? Ты же догадываешься, что произойдет… Мне также тяжело, как тебе.
Он кивнул головой со спутанными ветром волосами, стряхнув одержимость, недовольный, что проявил слабость.
– Не волнуйся, скоро мы отправимся в путь. Просто я испытываю напряжение и подавленность одновременно. Мне нужен отдых. Ничего.
Ничего. Еще одно озарение. Если все понимать, то можно ли жить? Незаметно для себя возвращаешься мыслями к банальностям. Уже лучше.
… К вечеру они спокойно сели на корабль. Замечательные паспорта – подлинные, – удобное гражданство, чернорубашечная Италия внушает доверие повсюду в мире, не то, что бумаги апатрида или испанского беженца! Среди толпы на набережной ни одного подозрительного лица. (Тогда уж подозревать всех.) Д. почти жалел, что не возникло никаких затруднений. Они заняли каюту, отделанную в двух тонах, кремовом и голубом. Д. расспросил у стюарда о соседях и других достойных внимания пассажирах: господин Швальбе, ювелир, с супругой; пастор Хуг с супругой и сыном; месье Жиль Гюри, вице-консул в Н.; мисс Глория Перлинг, танцовщица, с секретаршей… «Очень хорошо, – сказал месье Баттисти, – мы путешествуем в приятной кампании…» «Можете не сомневаться, месье… Еще на корабле плывет принц Уад со своей свитой, и американская благотворительница миссис Келвин Х. У. Флатт…»
– Ну надо же, черт возьми! – заключил месье Баттисти вульгарным тоном, который так контрастировал с его внешностью и манерами.
Стюард поспешил в сторону трапа. Один торопится спасти свои брильянты; другой, священник, возвращается из поездки по Европе после посещения музеев, евангелических обедов, неодобрительных взглядов на грешный Париж; третий спешит к своей заморской синекуре, радуясь, что избежит грядущей всеобщей мобилизации; белокурая танцовщица говорит своей секретарше, которую выбрала из-за смуглой кожи, контрастирующей с ее цветом лица: «Наконец мы одни, darling!» – так же грубо, как шлепает ее по заду. А что это за принц Уад, египтянин, перс, или кто еще? Чье богатство составлено непосильным трудом бедуинов и феллахов? Носит ли он бурнус для пущего эффекта или костюм из Монако? Интересует ли его нефть? Соблазнит ли он чикагскую благотворительницу или сам будет соблазнен танцовщицей? Стюард как будто заимствовал эти персонажи из глупых романов. Продолжение следует. У каждого чековая книжка, и да погибнет весь остальной мир! И все эти люди, за исключением принца, а может с вместе с ним, лишенные, вероятно, малейшего злодейства, очень удивятся, если сказать им, что они понимают в происходящем не больше мотыльков, кружащих вокруг садовых фонарей – в пламени которых обречены сгореть… После шикарной вечеринки, разумеется. Лишь я один отличаюсь от них, ибо вижу правду. Ибо сознаю, что бегу и не хочу бежать… Или у меня слишком разыгралось воображение.
«Подожди меня здесь», – сказал Бруно Ноэми. Он исследовал корабль, изучил лица пассажиров и остался доволен – что, впрочем, ничего не доказывало. Ничего.
Огни на европейском берегу гасли за горизонтом. Нос корабля прорезал упругое кристальное море, за которым, быть может, не было ничего.
II.
Пламя под снегом
Все города, что знал я, что не знал,
В час половодья видят свет зари…
Старый бомбардировщик тяжко кренился в ледяной туман… Климентий выдохнул: «Зона боев… Тра-та-та-та…» Полушубок на спасал от холода, пробиравшего до костей; мужчина шутливо застучал зубами и произнес: «Я столько раз пересекал линию фронта, что со мной уже ничего не может случиться. И все же, товарищ, мысль какая-то суеверная… Это меня слегка тревожит… Если удача – суеверие, что же еще остается человеку?» Дарья ответила: «Ты ничуть не суеверен, напротив, здоров, как волк… Ты и похож на волка… На самом деле удача – в мужестве. И это вполне реально».
– Но я не могу избавиться от страха.
Дарья перебила:
– Подлинное мужество – это когда не можешь избавиться от страха и все равно делаешь то, что надлежит…
Климентий окинул взглядом отсек самолета, тесный, но комфортабельный, как установленная в снегу палатка, где, несмотря на холод, человек чувствует себя уютно. «Достаточно совсем немногого, – сказал он, – чтобы…» Дарья поняла, пожала плечами: «И дальше что?» Она натянула на плечи большую медвежью шкуру, на которой недавно спала. Чрево бомбардировщика походило на металлический туннель, запруженный ящиками и людьми. Рядом лежал тяжелораненый, и запах гноящихся ран отравлял ледяной воздух. Дарья провела рукой по лицу, как будто пробуждаясь. «Хочешь посмотреть вниз?» – предложил Климентий. Металлический каркас самолета, спешно и плохо залатанный, содрогался от разрывов снарядов. Солдат отодвинул себе под ноги полукруглый кусок стали. Дарья подставила лицо ветру и жадно вдыхала холодный, влажный, но свежий воздух. «Видишь, это линия фронта… Они все время отсюда стреляют…» Молочно-белый туман ничего не давал разглядеть. «Мягкой посадки не получится…» Тихо, с усмешкой, рассказал Климентий, как не повезло высокопоставленным пассажирам одного самолета, заблудившегося в чертовом балтийском тумане и совершившего – мягкую посадку, да уж – на немецкой стороне; после недели допросов всех расстреляли… «Тра-та-та, а счастье было так близко, товарищ».
– Хочешь напугать меня, дурак? – сказала женщина со светлыми как туман глазами.
– Ну, ну, не сердись, Дарья Никифоровна! От страха никуда не деться, ни мне, никому, но когда шутишь, становится легче. Я отношусь к нему как к хронической колике, вот и все. Человек значит так мало… Ни ты, ни я ничего не значим. Имеет значение только страна… Я, правда, верю, что настанет счастливая жизнь, когда человек обретет значение, но мы будем уже в могиле… Этот город – большая могила. Я люблю его. Его нельзя не любить. Приземлимся, глотнем спирта, тогда посмотришь…
– Тебя ждет жена?
– Ждет, на кладбище. Без углеводов, без витаминов, по тринадцать часов на заводе, за шесть месяцев она сгорела как свечка… Я пытался вывезти ее, но первыми эвакуировали жен технических специалистов, офицеров и орденоносцев… Справедливо. Когда я получил орден, было уже поздно. У меня холод внутри, никто меня не ждет, только я жду – своей участи. Конца или новой любви… Когда два человека рядом, тепло всегда одинаково, не так ли? Прошлое еще не умерло, потому что я живу… Если я женюсь, то только после победы… «Союз без слез!» – вот мой девиз.
– Ты прав, Клим, – сказала Дарья.
Он ответил, гордо или с насмешкой, его слова всегда можно было истолковать двояко:
– Я понял.
Беловатый туман под днищем самолета рассеивался, показалась земля, плоская, бурая, изрезанная, подобно мрамору, светлыми прожилками. Ее пересекала широкая, темная кривая, похожая на ящерицу, выбравшуюся из земной коры. Пока еще не придумали оружия, которое могло бы расколоть планету. Но если дела пойдут так, как сейчас, это не за горами… «Нева!» – воскликнул Климентий.
Как-то глупо, по-детски, Дарья вспомнила о царе Петре, умном и по-звериному жестоком, как он расхаживал по низкому песчаному берегу этой реки и неожиданно собрал в волевую гримасу мягкие, кошачьи, помятые черты болезненного лица: «Здесь будет город заложен…» Здесь Азия откроет окно в Европу, мы перестанем быть Азией… С гениальным безумием хотел он вырвать нас из Азии. А затем приказ поместить в сосуд со спиртом отрубленную голову юного любовника своей супруги и поставить этот сосуд на камин перед зеркалом, чтобы императрица Екатерина не чувствовала себя одиноко… У нас есть с кого брать пример.
* * *
… Когда четыре года назад я проезжала через этот город, думала Дарья, мы возрождались. Хорошо одетая толпа прогуливались по залитому теплым весенним солнцем центральному проспекту. Мысли о наших мертвых бились у меня внутри, толпе же они были безразличны. Ей хотелось лишь жить своей жизнью, тогда много танцевали… Я с ужасом думала о грядущей войне, толпа и не подозревала об этом, ведь газеты кричали о мирной политике, пусть даже ради нее надо будет заключить союз с самим дьяволом… Пусть дьявол пошлет свой адский огонь на кого-нибудь другого, мы хотим жить мирно, и имеем на это право, потому что вытерпели больше, чем буржуазный, эгоистичный и выродившийся Запад… Пусть Запад теперь расплачивается, пусть он узнает, что жизнь означает не только с удовольствием есть, спать, заниматься любовью, что она жестока, так жестока, что словами не выразить. Мы достаточно испытали это на себе – за то, что хотели изменить мир… (И за то, несомненно, что не смогли ни построить мир действительно гуманный, ни помешать приходу тех, кто жесток…) На широком тротуаре, где высились дворцы и бронзовые укротители коней с четырех сторон украшали мост, я встречала актрис кордебалета, любовниц тех или иных влиятельных лиц; писателей, ухитрявшихся создавать вопреки цензуре прекрасные страницы, посвящавших больше времени самоцензуре, чем творчеству; инженеров, с орденами возвратившихся из концлагерей; историков – прошедших тюрьмы, – которые установили славную преемственность между Иваном Грозным, Петром Великим и социализмом, точно так же, как ранее они проводили подобную связь между Гракхом Бабефом, Парижской Коммуной, Карлом Марксом и нами… «Но, – сказал мне один толстый академик, – это действительно так, мы суммируем в себе различные исторические традиции…» Возможно, он был прав. Драматурги сочиняли пьесы об измене; один спешно переделал эпическую драму, в пятом акте разоблачался герой, являвшийся никем иным, как вражеским агентом: успех был огромен.
Они флиртовали, комментировали книги, выгуливали на поводке собачек с ухоженной шерстью. Высилась стройная колоннада Казанского собора, в темной воде каналов отражались белые облака, церковь Спаса-на-Крови (крови императора) переливалась живыми, яркими цветами, кровь расцвечивала камни… Наша группа любовалась крылатыми позолоченными львами на китайском мостике, меня расспрашивали о парижских модах, бомбардировках Мадрида, сначала о модах, потом о бомбардировках (было принято интересоваться гибнущей Испанией). Мы листали хорошо изданные книги. У меня вызвали восхищение вертикальные полуколонны розового гранита на здании службы безопасности, возведенном на месте маленького старого дворца правосудия, сожженного в 1917-м… Теперь выстроены шестнадцать этажей, а сколько кабинетов! Воистину, вот свидетельство прогресса… А соседняя тюрьма не изменилась… Со мною тягостные темы не обсуждали, то ли из вполне разумного недоверия, то ли из деликатности. Никто, казалось, не испытывал сомнений относительно будущего… Я вежливо слушала разглагольствования одного литератора: «Трагедии неотделимы от исторических свершений… Париж развлекался, когда везли на казнь робеспьеристов… Париж был прав. Подлинная, продолжительная Революция – не максимум, не гильотина, справедливая или нет, не победы одетых в лохмотья солдат, это – живой Париж, его дух любви, радость жизни и, никуда не денешься, обогащения… Я собираюсь написать роман о мадам Рекамье, какая личность!» «А мадам Ролан, – спросила я, – разве не была замечательной личностью?» «Решительно, она наводит на меня тоску. Педантичная до самого конца! К тому же, жирондистка… Жирондисты меня пугают». Этот литератор собрал коллекцию фарфора на своей вилле у залива и пригласил меня полюбоваться ей: «У меня есть необыкновенный Мейсен!» Я из вежливости согласилась, не сказав, что жирондисты, по крайней мере, не собирали коллекции фарфора… У него был живой и печальный взгляд. Меня так и подмывало спросить его: Почему вы все время лжете? Но тогда бы он запил на неделю. Он погиб на фронте, его последние репортажи производили совершенно жалкое впечатление… Ему была свойственна добродушная мягкотелость. Убитых в полях коров он оплакивал словно детей; а когда в интервью с генералом-оптимистом брал ура-патриотический тон, трескучесть его фраз резала глаза…
– Климентий, город сильно пострадал?
– Меньше, чем принято думать… Камни сохранились… Архитектура обеспечивает преемственность, не так ли? У нас прошедшей зимой умерло около миллиона – или более миллиона, кто знает? Каждый третий, а может, и каждый второй житель…
– Что ты говоришь?!
– Не пугайся, Дарья Никифоровна. Для такой страны, как наша, миллион – это всего одна стовосьмидесятая часть… А для такой войны, как эта… И вообще, разве земля не слишком перенаселена при нынешнем уровне производительных сил?
И вновь Дарья спрашивала себя, говорит ли он искренне или мрачно шутит. Она склонялась к первому предположению. Он ловко закрыл зияющую дыру во чреве самолета. Провалившийся в сон тяжелораненый с присвистом вздохнул. Командирский голос произнес: «Приготовились… Приземляемся…» Бледность и худоба Климентия не допускала никакой иронии, она, казалось, говорила: таковы мы, молодое поколение, то, что от него осталось – смирившиеся, сознательные, твердые, не более желчные, чем статистические данные, не более обескураживающие, чем ход истории. Река верит в себя. Ее течение несет льдины, соломинки, трупы и плодородный ил, вода ее утекает – река остается, не жалея о каплях, оставшихся на стеблях дикого тростника или на гранитных набережных. Климентий поправил лямки рюкзака на плечах. Дарья вдруг подумала о себе. Освобождение, которого она ждала четыре года, не принесло радости, вероятно, потому, что радости в мире больше не существовало. Без сожаления и надежд сбросила она с себя груз горьких лет, лишь чуть удивилась невесело, вступая на новый путь. Пакет, прибывший в райотдел, содержал приказ отправляться в дорогу, в бой, как будто ничего не произошло с тех пор, как она покинула Париж: «…явиться в распоряжение такого-то отдела такой-то армии…» «Когда вы сможете выехать?» – спросил начальник райотдела. «Но… уже завтра», – бездумно ответила Дарья, я могла бы выехать даже сегодня вечером, ничто не держит меня в вашей иссохшей пустыне, в вашей мерзости запустения, в этой бессмысленной жизни…
* * *
…Ей нужно было лишь собрать белье и одежду, сжечь дневник, который она вела, чтобы отогнать страх и не впасть в отчаяние. Странным был этот дневник, где осторожное перо набрасывало лишь общие очертания людей, событий и мыслей: поэма фрагментов пережитого, в которой посторонний не смог бы узнать ни одного лица, ни одного эпизода, ни одного намека на выполненные поручения (о которых не следовало писать, не заручившись предварительным разрешением) и ни одного проявления тоски или страдания, из гордости, расчета или сомнения, из осторожности, а также, разумеется, ничего идеологического, ибо идеология есть тина, скрывающая западню…
Ведение этого дневника, который можно было сравнить с трехмерной мозаикой для ума, неотделимой от четвертого, неопределенного и тайного измерения, воспламеняло ее чувства. Дарья не могла говорить ни о Барселоне, ни о бомбардировках Капрони, ни о попытках спасти агонизирующую Республику, ни даже о воспоминаниях, по-прежнему согревавших ее: о ночах, проведенных с человеком одновременно наивным и энергичным, для которого утоление страсти было таким праздником, что потом он говорил, говорил вдохновенно – о войне, о будущем, о смысле жизни, которую так любил… Ничего, ничего об этих разговорах, прерываемых объятьями! Каждая фраза, прочитанная третьим, заинтересованным лицом, повлекла бы за собой неправое осуждение, а человек, быть может, еще жил (с другой, счастливой! Поймет ли она?). Дарья описывала подернутое зыбью лазурное море, которым они любовались с высоты безымянной скалы, избранной для встреч. И ей становилось легче, в то время как горячий песок заносил аул, удушливыми волнами прокатывался по пустыне, проникал в низкую глинобитную хижину, заставлял дрожать огонек лампы. Дарья описывала дыханье человека – молча о том, что он был ее любовником, – и чарующий трепет его мускулов – молча о том, что происходило это в любовном единении. Волны, зыбь, дыхание, жесты, напряжение, расслабленность, беззащитность плоти, отблески ума, становились не подлежащими сомнению самоценностями, которые она извлекала из мрака на свет – неиссякаемые сокровища! Никогда волна, очертания плеча, взмах ресниц не передавались так точно… Можно было почти увидеть незримое, то, чего уже нет, то, что было, словно в волшебном увеличительном стекле, и шероховатость кожи, скульптурная форма тела обретали ту волнующую ясность, слабый отзвук которой доносят до нас фрагменты античных статуй. Обломок статуи окружен тайной, он будит воображение и, если он полон жизни, то как ничто в мире хранит сущность человека – и женщины.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?