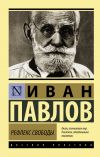Текст книги "Синтез двух систем познания академика Раушенбаха"

Автор книги: Виктория Радишевская
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Эпоха Возрождения вновь обращается к прямой, линейной перспективе. В ренессансной живописи изображение рассчитано на определенную зрительную позицию, причем стабильную, изменение ее (приближение или удаление зрителя) нежелательно, потому что может вызвать искажение изображения. Для художника треченто (XIV век) и кватроченто (XV век) существенной задачей представляется передать то впечатление, которое зритель имеет в данный момент и с данной точки зрения, причем со всеми подробностями. Некоторые художники Возрождения для более точного изображения пространства на плоскости использовали камеру-обскуру, прочно фиксирующую положение зрителя. Но, и это замечает Раушенбах, художники Возрождения совершенно не учитывали, что реально зритель находится в движении и обычно суммирует впечатление с разных точек зрения.
Теорию линейной перспективы впервые начал разрабатывать Амброджио Лоренцетти, а затем продолжили Брунеллески и Альберти. Эта перспектива основывалась на простых законах оптики. Но уже Леонардо да Винчи, который мыслил себя больше ученым, чем живописцем, не был удовлетворен этими геометрическими построениями, и помимо линейной он вводит в своих картинах воздушную и цветовую перспективу, показывая, что пространство можно изобразить не только при помощи геометрии, но также света и цвета. В своих трактатах (а он был великий теоретик) Леонардо писал: «Вещи на расстоянии кажутся тебе двусмысленными и сомнительными; делай и ты их с такой же расплывчатостью, иначе они в твоей картине покажутся на одинаковом расстоянии… не ограничивай вещи, отдаленные от глаза, ибо на расстоянии не только эти границы, но и части тел неощутимы». Художник понял, что отдаление предмета от глаза наблюдателя связано с изменением цвета предмета и потому для передачи глубины пространства в картине близко расположенные предметы должны быть изображены в их собственных цветах, аудаленные как бы в дымке (сфуматто – ит.). Он отмечал: «…а самые последние предметы, в нем видимые, как, например, горы вследствие большого количества воздуха, находящегося между твоим глазом и горою, кажутся синими, почти цвета воздуха…»
В последующие века перспективные построения усложнялись. Художники использовали угловую перспективу (со смещенной точкой схода), сферическую (особенно в монументальной живописи). Особенно в период барокко перспектива обогатилась ракурсами, предполагающими необычные точки зрения. Но прямая перспектива оставалась общепризнанно единственно верным принципом отражения мира в картинной плоскости.
В искусстве XIX века преобладает рациональная оптика, хотя многие художники начинают отходить от строгой линейной перспективы, создавая свои модификации, часто весьма замысловатые (вспомним Ван Гога). Чем ближе к ХХ веку, тем более образ художественного пространства начинает тесно связываться со временем, представляя собой особый единый пространственно-временной континуум.
Интересно, но именно искусство Нового времени дает возможность Раушенбаху показать на наглядном примере, что перспективные искажения в искусстве гораздо более точно отражают реальную оптику глаза.
Анализируя акварель Сезанна «Каштановая аллея в Жа де Буффан», Раушенбах приходит к следующим выводам: «Если рассматривать ее с позиций линейной перспективы, то кажется, что она нарисована с повышенной точки зрения (отметим, что такую особенность искусствоведы находят во многих картинах Сезанна). Действительно, проведем прямые линии вдоль оснований деревьев и продолжим их прямолинейно же, как этого требует линейная перспектива, до пересечения (сплошные линии на рисунке). Точка пересечения (так называемая точка схода) окажется на уровне довольно высоких ветвей деревьев, изображенных на первом плане. Известно, что высота точки схода соответствует положению глаз художника. Итак, на взгляд зрителя, воспитанного в традициях линейной перспективы, автор приведенной акварели в самом деле как бы взлетел над землей, чтобы нарисовать этот вид. Все становится на свои места, если линии, проведенные вдоль оснований каштанов, продолжать до пересечения по правилам перцептивной перспективы (пунктирная линия). Точка схода тогда окажется гораздо ниже. Поэтому правильнее говорить не о том, что Сезанн написал каштановую аллею с повышенной точки зрения, а о том, что она, будучи написана с нормальной точки зрения, искаженно воспринимается зрителями, привыкшими к линейной перспективе».
Изучая, как человек воспринимает глубину пространства, Раушенбах заметил, что не всегда художники учитывают такое свойство человеческого зрения, как бинокулярность, то есть, проще говоря, человек смотрит двумя глазами, а не одним. И он пришел к выводу, что ближний план воспринимается нами в обратной перспективе, неглубокий дальний – в аксонометрической перспективе, дальний план – в прямой линейной перспективе. Сумма этих перспектив – обратной, аксонометрической и прямой линейной – и дает то, что он назвал перцептивной перспективой.
Раушенбаха интересовали разные эпохи и разные художественные системы, он скромно говорит о том, что не претендует на анализ качества того или иного искусства, оставляя это искусствоведам. Тем не менее он очень глубоко чувствует правду искусства в отражении мира и далек от подхода, который преобладал в его время, когда искусство оценивали в категориях прогресса. Так, он пишет: «Слишком часто многие, анализируя, например, работы мастеров Древнего Египта или Средних веков, сознательно или подсознательно сравнивают их с картинами эпохи Возрождения и с полотнами новой живописи, причем употребляются выражения типа: «Здесь художник еще не умеет правильно строить перспективу», «Здесь мастер как бы пытается показать здание в разрезе». Причем обычно ссылаются на «догмы» и «каноны», сдерживающие творчество художника, видя в этом оправдание для известного «несовершенства» художественных произведений и т. п. Все они выходят на образ пространства, который выявляет та или иная система построений». Такой подход был для Раушенбаха неприемлем. Он смотрит гораздо глубже многих искусствоведов и ставит вопрос скорее в философской плоскости: «Более того, правомерен вопрос: почему в такой именно (а не другой) последовательности сменялись методы пространственных построений, почему искусство типа живописи Древнего Египта предшествовало искусству эпохи Возрождения и насколько этот ход развития изобразительных средств был обязателен, обусловлен объективными причинами? Почему, освоив возможности, найденные в эпоху Возрождения, живописцы сегодня вновь «открывают» средневековые и более ранние методы передачи пространства на плоскости картины?»
Главный вывод, к которому приходит Б.В. Раушенбах: не существует идеальной научной системы перспективы. Существует бесчисленное множество равноправных систем перспективы, каждая из которых содержит свои неизбежные ошибки изображения. Все системы отличаются друг от друга тем, что в зависимости от художественных задач они выбирают тот или иной принцип построения перспективы. Он даже формулирует «закон сохранения искажений в изобразительном искусстве».
Казалось бы, Раушенбах исследует исключительно геометрию, линейные построения, перспективу, но через это он выходит на смысл искусства любой эпохи. Изучая пространственные построения в искусстве, он видит, как по-разному человек ощущал себя в космосе, как он обживал и осмыслял Вселенную. Так, например, преобладание чертежных методов в изображении объективного пространства, свойственное искусству Древнего Египта, показывает, что сознание египтян было направлено исключительно на потусторонний мир, на то, что больше и выше человека.
А вот греки стремились выстраивать пространство так, как видит его человеческий глаз, и это не случайно, потому что Протагор, провозгласивший: «Человек есть мера всех вещей», задал всей эллинской культуре человеческий масштаб. Идеальный замкнутый самодостаточный прекрасный космос (само это греческое слово и обозначает украшенный, устроенный) греков был совершенным телом и наполнялся совершенными телами богов и героев.
Метод трансформаций аксонометрий, применявшийся в средневековом искусстве, открывает нам образ совсем иного космоса. Здесь нет иллюзии пространства, нет единой точки схода линий. Золотой фон (золото – символ сияния вечности, образ Небесного Царства) средневековых икон выталкивает изображение на передний план и не дает глазу пробиться внутрь. Изображение на вид остается плоским, но таковым не является, потому что оно раскладывается на плоскости, как бы стремясь окружить зрителя, войти в его пространство. Такой принцип построения пространства, с легкой руки о. Павла Флоренского, который, как и Раушенбах, был математиком и применял математические методы для изучения иконописи, а потом и Л.Ф. Жегина, получил название «обратной перспективы». Отец Павел объяснял ее как обратную, по существу зеркальную, по отношению к прямой – геометрической. И Раушенбах этим термином широко пользуется. Но на самом деле перспектива в византийской, в большей степени, и древнерусской живописи не может быть истолкована как просто перевернутая аксонометрия, потому что это перспектива богочеловеческая, это перспектива общения.
Анализу особенностей построения иконы посвящены уже в наше время работы двух известных ученых: В.В. Лепахина и А.М. Лидова. Лепахин применяет к описанию пространства иконы термин «иконическое пространство», Лидов вводит термин «иеротопия» (священное пространство), но оба, так или иначе, показывают, что пространство иконы – сложное, синтетическое и очень идеологически нагруженное. Лидов, например, пишет, что в Византии существовало понятие «хора» – с греческого букв. «пространство» (иногда переводят как страна, город, пригород, то есть обитаемое пространство). Это понятие восходит еще к Платону, но, подхваченное византийскими богословами и художниками, оно превращается в своего рода символ нового преображенного мира, в котором Бог и человек находятся в общении. В Константинополе есть монастырь Кахрие-Джами, это великолепный памятник XIV века с остатками красивейших мозаик и фресок. Но Кахрие-Джами – это турецкое название, а греческое название – Хора. И на одном из мозаичных образов Спасителя есть надпись – «Христос Хора – пространство живых». И это красноречиво говорит о концепции пространства в византийском искусстве.
В древнерусском искусстве, которое восприняло лучшие традиции Византии, все было несколько проще. Но не везде и не всегда. Такие иконы, как «Троица» Андрея Рублева, тоже дают нам примеры сложнейшего построения пространства, в котором совмещены несколько точек зрения и линейных узлов, потому что мир, предстающий перед нами, живет не по земным законам и его пространство не двух– и не трехмерно, а многомерно. Бог видит человека со всех сторон, да еще и изнутри. И такое зрение прививает нам икона, давая увидеть мир духовно объемным.
Линейная перспектива эпохи Возрождения выявляет совершенно иной космос – ориентированный на человека, антропоцентричный и геоцентричный. Человек мыслится центром мира, Земля – центром Вселенной, вокруг которой вращаются Солнце и планеты. Это прочный, устойчивый мир, где Бог и человек общаются на равных. Но открытия Коперника и Галилея разрушают этот устойчивый мир, геоцентрическая система мира сменяется на гелиоцентрическую. Великие географические открытия расширяют ощущение пространства, делая его почти беспредельным. Все это отражает искусство барокко, которое начинает бурно осваивать пространство и взвихривать формы, словно они приводятся в движение каким-то космическим вихрем.
В искусстве рубежа XIX и XX столетий появляется криволинейная перспектива, которая свидетельствует о том, что человек начинает ощущать свой планетарный масштаб, но это искривление пространства, с одной стороны, размыкает космос и дает невероятный опыт свободы, с другой – вселяет в человека чувство неустойчивости и тревоги.
Может быть, то, как человек передает в своем искусстве пространство, лучше всего показывает, как он ощущает свою связь с космосом.
Аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес, один из крупнейших и оригинальных в ХХ веке, написал рассказ «Сфера Паскаля», который начинается так: «Быть может, всемирная история – это история нескольких метафор». И далее он рассказывает, как по-разному воспринималась и по-разному описывала мир по существу одна и та же формула: «Мир есть сфера, центр которой нигде, а окружность везде». Если для античных мыслителей это было выражением гармонии, замкнутости, совершенства мира, то для человека Средневековья это было связано с тем, что Бог присутствует в любой точке мира, но не принадлежит этому миру, поэтому средневековые богословы эту известную фразу переиначивали так: «Бог есть сфера, центр которой нигде, а окружность – везде». Далее Борхес пишет: «В XVI веке в последней главе последней книги «Пантагрюэля» есть ссылка на интеллектуальную сферу, центр которой везде, а окружность – нигде и которую мы называем Богом». Джордано Бруно, вдохновившись трудами Коперника, как сообщает нам Борхес, искал слова, чтобы изобразить людям Коперниково пространство, и на одной знаменитой странице напечатал: «Мы можем с уверенностью утверждать, что Вселенная – вся центр или что центр Вселенной находится везде, а окружность нигде». Но прошло совсем немного времени, и абсолютное пространство, которое для Бруно было освобождением, стало для Паскаля лабиринтом и бездной. Он чувствовал непрестанный гнет физического мира, головокружение, страх, одиночество и выразил их такими словами: «Природа – это бесконечная сфера, центр которой везде, а окружность нигде». Человек – этот маленький, хрупкий мыслящий тростник, затерянный в безднах Вселенной, – в огромном, Эйнштейн сказал бы «стремительно расширяющемся», пространстве космоса чувствует себя одиноким и несчастным. Поначалу, как утверждает Борхес, Паскаль написал «устрашающая сфера».
Этот рассказ Борхес написал в 1951 году в Буэнес-Айресе. Он был переведен в нашей стране, видимо, в 1980-х годах. Знал ли его Борис Раушенбах? Нам неведомо. Но его интуиция движется очень близким путем. Для него такой «метафорой» был образ пространства. Единственное, чем российский ученый мог бы дополнить этот борхесовский ряд интерпретаций, – так это более оптимистический взгляд физика, работавшего не просто с космосом, но обеспечивающего полеты человека в космос и подготавливавшего человеческое освоение космоса.
В искусстве Раушенбах увидел тот же космос, который он изучал как физик, но только теперь он его рассматривал не через линзы телескопов, а как он отражается в человеческом взгляде, преломляясь в человеческом сознании, и потом при помощи кистей и красок переносится на холст, на бумагу, на стену, на доску. И в каждую эпоху человек видел этот космос по-своему, то приближая его, то удаляя, то обожествляя, то очеловечивая.
И.К. Языкова, кандидат культурологии
Из работ академика Б.В. Раушенбаха
Автобиографические фрагменты
Я довольно редкий экземпляр царского еще «производства»: родился до революции. Отец был мастером кожевенного дела на петроградской обувной фабрике «Скороход», мать – домашняя хозяйка. Жили мы прямо в служебных корпусах «Скорохода» возле Московских ворот, я и родился в доме, который окнами упирался в эти ворота.
В двадцать пятом году мы уехали из «скороходовских» корпусов, все эти здания были переданы фабрике, и там устроили какую-то контору. Но жилищной проблемы в городе тогда не существовало, пустовала масса квартир, и мы выбрали одну из возможных. Жил я потом, можно сказать, окнами на Исаакиевскую площадь. Замечательное место. И ходил в школу, соответственно, по Мойке. А потом в институт. До тридцать седьмого года, пока не уехал в Москву.
В те годы в Петрограде было несколько немецких школ: Петер-шуле, лютеранская, наиболее известная; Аннен-шуле, католическая, и реформатская – Реформирте-шуле. Я как раз учился в реформатской. В свое время они были конфессионально обусловлены, но потом это исчезло. Ко времени моей учебы оставалось только две – Петер-шуле и наша школа. Там были немецкие отделения, замечательные тем, что все преподавание шло только на немецком языке, но учились там и русские, и евреи, немцев в классе было не больше половины. И это естественно, это было правильно: родители стремились, чтобы их дети знали еще какие-то языки, кроме русского.
Поскольку отец мой был с Волги, а мать из прибалтийских немцев, дома мы разговаривали и по-русски, и по-немецки, как придется. Мне точно известны мои корни: предок мой пересек границу в 1766 году по приглашению Екатерины II. Тогда за каждую немецкую семью Екатерина выплачивала человеку, который организовал переселение, некоторую сумму. Как известно, бухгалтерские книги хранятся вечно, вот они и сохранились, и каждый немец, в свое время пересекший границу, известен по имени. Карл-Фридрих Раушенбах… Мой прапрапрапра… – не знаю, сколько, дед. Больше того, у меня хранится копия свидетельства о его браке. Царица Екатерина хотела, чтобы в Россию приезжали семьями. И все молодые люди, которые хотели рискнуть на такое путешествие, должны были срочно жениться. И Карл-Фридрих женился перед посадкой на корабль.
У меня есть свидетельство об этом, выписанное из церковной книги. Оригинал хранится в Германии, в той церкви, в которой мои предки венчались, а мне недавно сделали копию. Я чувствую себя одновременно русским и немцем – интересное ощущение. Оно любопытно и с точки зрения психологии, но и отражает реальность. Мы выросли в России, впитали в себя русские обычаи, русские представления, нормы поведения. Никаких полководцев или других знаменитостей в нашем роду не было. На Волге – крестьяне, в Прибалтике – купеческое сословие.
Сколько бы ни жили в России мои предки, естественно, знавшие русский язык, в семьях и дедов, и отца, и матери говорили по-немецки. Поэтому мы, дети, свободно, вместе с дыханием воспринимали немецкий бытовой язык. И вот я, немец по национальности и абсолютно русский человек по воспитанию, по мировоззрению, по психологии, учиться начал в реформатской школе, но, к сожалению, ее не окончил. На исходе двадцатых годов их все закрыли. И немецкий язык я выучил по-настоящему в ГУЛАГе при помощи своего друга, доктора Берлинского университета, истинного берлинца. Мы с ним договорились: раз нас посадили как немцев, давай говорить только по-немецки. Четыре года мы, общаясь, не произнесли ни слова по-русски, и я научился хорошему немецкому языку – до этого у меня был «домашний», – и этим знанием «обязан» лагерю…
А в школьном моем детстве каждый год придумывали что-нибудь новое: бригадный метод, дальтон-план, и это было ужасно. Причем тогда даже считалось, что в некоторой мере стыдно писать абсолютно грамотно, мол, нехорошо, есть в этом что-то непролетарское и вообще ни к чему. Важно, чтобы все было правильно в идейном смысле слова, а не в смысле правописания, тем более что правописание нам толком и не преподавали. Вообще нам толком ничего не преподавали, старые учителя свои предметы вели очень хорошо – если это были хорошие учителя, – несмотря на всякие дальтон-планы, но были преподаватели и абсолютно пустые, поэтому в голове у меня от школьного образования образовалось все, что угодно, только не система знаний. И совершенно справедливо о нашем поколении говорят, что у нас есть высшее, но нет среднего образования. Такое выросло поколение.
С младых ногтей я увлекался всем, что летает, участвовал во всех детских кружках, связанных с полетами. Особенно меня интересовали ракеты. Но, конечно, никаких ракетных кружков не было, институтов тем более, а образовался в Ленинграде, как раз когда я оканчивал школу, некий институт – гражданского воздушного флота, и мне удалось туда поступить. Просуществовал он всего несколько лет, потом его переделали в военную академию. Я бы сказал, это было довольно жалкое учебное заведение, как всякое новое – без традиций, без толковых учебных планов. Сейчас-то я понимаю, что это не то место, где можно было чему-то научиться, но формально я окончил именно этот институт.
Мне повезло в том смысле, что, будучи студентом, я занялся всякими странными летательными аппаратами; ракеты были еще далеко, а вот бесхвостые самолеты, бесхвостые планеры меня интересовали, я даже с одним своим товарищем, тоже студентом, занимался проектированием, постройкой и испытаниями подобных аппаратов. И ездил с ними в Крым на планерные состязания. И вот там, на слете в Крыму, я познакомился с серьезными учеными из Москвы, которые занимались летательной техникой, в частности познакомился с Королевым, не предполагая, что впоследствии буду с ним работать: после окончания института я оказался в Москве, а Королеву понадобился человек, который бы знал, что такое устойчивость полета, мог бы вести работы по устойчивости, а я как раз этим делом занимался, даже к тому времени имел парочку работ, не очень серьезных, опубликованных еще в студенческие годы. Мои друзья, с которыми я познакомился на слетах, рекомендовали меня Королеву. И Сергей Павлович меня взял.
С тридцать седьмого года я стал у него работать. В этом смысле я динозавр – пришел в ракетную технику больше пятидесяти лет назад, такие динозавры уже редки в мире. Нас, подобных довоенных чудаков, уже немного осталось на земле.
Вот так началась моя деятельность. Собственно, с того момента, как я пошел работать к Королеву, ничего у меня не менялось, я шел только по этой дороге в основном; темы у меня были разные – одно, другое, третье, – но всегда связанные с ракетной техникой. И я бы сказал, что даже работы по горению связаны с ней, теория горения в реактивных двигателях – работа с большой математикой и очень сложными экспериментами. По этой теме я защитил кандидатскую, докторскую, получил звание профессора…
* * *
«Пятый пункт» заработал, когда началась война. В сорок втором году меня упрятали за решетку, как, впрочем, всех мужчин-немцев. Королев тогда уже сидел, а я еще продолжал работать в научном институте, где в свое время работал и он. Формально у меня статьи не было, статья – немец, без обвинений, а это означало бессрочный приговор. Но ГУЛАГ есть ГУЛАГ – решетки, собаки, все как положено. Формально я считался мобилизованным в трудармию, а фактически трудармия была хуже лагерей, нас кормили скуднее, чем заключенных, а сидели мы в таких же зонах, за той же колючей проволокой, с тем же конвоем и всем прочим.
Мой отряд – около тысячи человек – за первый год потерял половину своего состава, в иной день умирало по десять человек. В самом начале попавшие в отряд жили под навесом без стен, а морозы на Северном Урале 30–40 градусов!
Трудились на кирпичном заводе. Мне повезло, что я не попал на лесоповал или угольную шахту, но тем не менее половина наших на кирпичном заводе умерла от голода и непосильной работы. Я уцелел случайно, как случайно все на белом свете.
В 1942 году я, работая в институте, занимался расчетами полета самонаводящегося зенитного снаряда, взяли меня, когда я уже выполнил две трети работы и знал, в каком направлении двигаться дальше. Мучился незавершенностью, места себе не находил и в пересыльном пункте на нарах, на обрывках бумаги, все считал, считал и в лагере. Решил задачу недели через две после прибытия в лагерь, и решение получилось неожиданно изящным, мне самому понравилось. Написал небольшой отчетик, приложил к решению и послал на свою бывшую фирму: ведь люди ждут. Мне, видите ли, неудобно было, что работу начал, обещал закончить и не закончил! Послал и не думал, что из этого что-нибудь получится. Но вник в это дело один технический генерал, авиаконструктор Виктор Федорович Болховитинов, и договорился с НКВД, чтобы использовать меня как некую расчетную силу. И НКВД «сдал» меня ему «в аренду».
Меня уже не гоняли, как всех, на работы, кормили, правда, не лучше, зона была, как у остальных, единственная разница в том, что я работал по заданию загадочных людей из Министерства авиационной промышленности. Это меня и спасло. Я вообще странный человек со странной судьбой, такое впечатление, что обо мне кто-то явно печется. Вот и тогда Болховитинов увидел, что я могу что-то сделать, и мы с ним хорошо сработались, с его фирмой. Я много трудился для них, но одновременно, в процессе расчетов, хорошо выучил чистую математику, которую не знал; поэтому я считаю, что мне повезло вдвойне. После выхода из лагеря я знал математику вполне прилично, в лагере доставал книги по математике всеми правдами и неправдами, мне их присылали, привозили.
Жизнь есть жизнь. И даже в лагере можно кое-чего добиться, если очень сильно захотеть. Конечно, проще всего загнуться, но если не загнулся, то всегда можно найти способ связаться с внешним миром. Тем более в таких лагерях были разрешены нормальные посылки.
Конечно, то, что немца просто за то, что он немец, посадили за решетку, не прощается и не забывается. Но когда меня брали, я отнесся к этому совершенно философически, не расстроился. Мне было неприятно, но я не считал это неправильным и трагедией. Солагерникам я популярно объяснял, что в Советском Союзе каждый приличный человек должен отсидеть некоторое время, и приводил соответствующие примеры. Я тогда искренне не испытывал никаких отрицательных эмоций, не чувствовал осадка на душе, который мешал бы мне жить. Может быть, потому, что у меня были несколько другие условия в лагере, может быть, потому, что у меня такой характер… Я человек рациональный и весьма тупой в смысле эмоций. Наверное, мне это помогает, но и имеет, конечно, свои недостатки: я не слишком переживаю в тех условиях, когда другие нормальные люди очень тяжело страдают, но зато я и не испытываю таких радостей, какие испытывают они. Когда они ликуют, я просто улыбаюсь. Это и хорошо и плохо, с какой стороны посмотреть.
Сидели мы до 1 января сорок шестого года. Потом ворота открылись, и перевели нас, как говорилось в дореволюционное время, под гласный надзор полиции. Мы не имели права удаляться от предписанного места больше чем на положенное число километров, уйдешь на километр дальше – двадцать лет каторги.
Мне назначили Нижний Тагил. И я жил там под гласным надзором полиции и ежемесячно должен был являться и отмечаться, что не сбежал. Как Ленин в Шушенском… На службу в Нижнем Тагиле я устраиваться не стал, хотя такая возможность была, а делал теоретические разработки для института Мстислава Келдыша, он писал соответствующие письма куда надо и в сорок восьмом году вытащил меня из ссылки. Как я оттуда уезжал, какие при этом были случайности – это отдельная, очень длинная и совершенно фантастическая история. Факт тот, что я появился снова в Москве, в том самом институте, откуда меня забрали и которым в сорок восьмом году руководил уже Келдыш. Мне повезло: Келдыш был выдающимся ученым, порядочным, очень хорошим человеком, и я счастлив, что много лет, десять, наверное, работал с ним. Это было и интересно, и приятно. Всегда приятно работать с людьми, которые думают не о своих каких-то делах, а о Деле. Келдыш был человеком, который думал о Деле. Начальников в жизни у меня было только два – Королев и Келдыш, высоконравственные люди, вот что очень важно. Опять-таки, мне повезло…
Примерно в 1954 году, уже будучи профессором, уже имея возможность «отрастить пузо», я… все бросил и начал все сначала. Занялся новой тогда теорией управления космическими аппаратами. Еще никакого спутника и в помине не было, но я знал, что это перспективное направление. С этого я начинал до войны, это меня всегда интересовало. И Келдыш меня поддерживал, хотя моя работа никакого отношения к тематике института не имела. Я как-то сказал Келдышу: мол, неудобно, проблемами горения я уже не занимаюсь, занимаюсь другим; он ответил: не важно, если что-то получается, надо делать, не надо смотреть – подходит, не подходит… Разработанная нами тогда система позволила сфотографировать обратную сторону Луны, в нас поверил Королев, пошли новые заказы. Институт уже не справлялся, надо было резко расширяться, а расширяться некуда – площадей нет. И было принято решение перейти к Королеву.
Это не был разрыв с Келдышем. Просто работы, которые я вел, уже не помещались в институте, и Келдыш сам договорился с Королевым, что я со своей «командой» перехожу к нему. Тем более тогда уже понадобились многие новые системы управления космическими аппаратами, и оказалось, что наша группа – единственная в стране, которая всерьез занимается подобными проблемами. Я был нужен Королеву в качестве «главного конструктора» систем. У него мы могли значительно развернуться. И последние годы жизни Королева я работал с ним, последние шесть лет его жизни, с шестидесятого по шестьдесят шестой год, я находился непосредственно под его началом.
После смерти Сергея Павловича я остался в его же фирме, но мне уже стало немножко скучно. Первые десять, ну, может быть, пятнадцать лет были интересны: мы работали в областях, в которых до нас никто не работал и где никто ничего не знал. И это было необычайно увлекательно. А через двадцать лет, когда за плечами тысячи пусков, все уже стало известно. Положение сложилось такое же, как в автомобильной и авиационной промышленности, то есть началась нормальная инженерная деятельность. Ведь первые десять лет все было в новинку, это-то и манило, а когда новизна исчезла, у меня интерес пропал. У кого-то сохранился: строить самолет тоже азартное дело, но мне по душе то, что еще никогда не делалось. Как-то я пошутил: не занимаюсь темой, если над ней работает больше десяти ученых в мире. И я занялся искусством, другими проблемами, где можно обнаружить нечто принципиально новое. Я продолжал и продолжаю работать на космос, но основные мои интересы лежат уже в иной сфере.
Еще учась в школе, я мечтал об археологии, но не пошел в археологи, потому что понял: в Египте мне все равно не копать. А что для школьника может быть интереснее, чем Египет? Любовь к истории я чувствовал всегда, в особенности к древней, поэтому много ездил, в основном по древним русским городам, но ездил по-своему. Наши так называемые экскурсии – это все, что угодно, только не то, что надо. Совершают, скажем, экскурсанты поездку на пароходе Москва – Астрахань, выходят по пути в разных городах, едут в автобусах к одному храму, к другому, к третьему… Я считаю, что для любопытствующего обывателя – в дурном смысле этого слова – такое пассивное созерцание достаточно, но и он ничего не поймет из такой экскурсии. Для того чтобы все прочувствовать, надо в этом городе пожить и видеть эти храмы ежедневно, и утром и вечером, и в плохую погоду, и в хорошую; надо войти в эту среду, надо ходить по этим улицам, тогда вживаешься и начинаешь понимать.