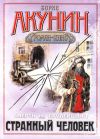Текст книги "Из рая в рай (сборник)"

Автор книги: Владимир Дэс
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Этот странный странный дом
Дом этот стоял почти в самом центре города, но был таким ветхим, что мало кого интересовал. Меня он заинтересовал только потому, что я часто проезжал мимо него и камни, выпадающие из его карнизов, то и дело выкатывались на дорогу, под колеса моего автомобиля. Однажды я все-таки остановился и решил посмотреть, что это за здание такое.
Дом был очень старым, массивным, но строился, чувствуется, на века. Однако в нем уже давно никто не жил, и он мало-помалу разрушался.
Я долго ходил-бродил вокруг и по первому этажу и наконец увидел, каким он был когда-то красивым и удобным – с мраморными колоннами, панелями из полированного дуба и большими теплыми каминами.
Еле-еле открыв дверь, я поднялся на второй этаж. Не поверите, там даже мебель осталась! Тяжелая, красного дерева, но покрытая слоем пыли. Диваны и кресла были обтянуты кожей, загрубевшей, но еще податливой.
На стенах картины – темные, все в тенетах.
Дом мне понравился. Я навел справки и вскоре купил его.
Долго думал, подо что бы мне его приспособить, и наконец решил перевести туда свое представительство.
Пригласил помощников, вместе осмотрели дом.
На поверку он оказался не таким уж и плохим. Крыша цела. Вроде и стены снаружи не разрушались. Непонятно только, откуда кирпичи падали…
А когда мы переехали в этот дом, я не сразу узнал его.
Дом уже не казался ветхим, он, если можно так выразиться, помолодел. Это чувствовалось во всем: не только внутри, но и снаружи он заметно обновился.
Двери открывались без малейшего скрипа, перила были теплыми на ощупь. Занавески пропускали ровно столько света, сколько надо было моим глазам для плодотворной работы.
Я вошел в свой кабинет. От массивного стола веяло надежностью. Кресло было высоким, располагало к вдумчивой работе. Мягко светила настольная лампа. Справа на стене висел портрет какого-то седого господина. Приемная тоже понравилась нам, то есть мне и моему помощнику.
Вскоре все службы расположились по своим кабинетам. Подключили телефоны – и работа в моем агентстве закипела…
Дела поначалу шли неплохо.
Работников я набрал серьезных и улыбчивых. Клиенты были довольны. Казалось, и дом повеселел: окна сияли, паркет перестал скрипеть и краски на старинных картинах стали сочнее.
Мой же стол посолиднел и посерьезнел. И кресло стало мне прямо как родное – мягкое, уютное… И солнце все дни светило в наши чистые окна.
Вскоре я подметил закономерность: чем лучше дела в фирме, тем чище, свежее и новее казался дом. Чем лучше работал человек, тем легче делался воздух в его кабинете. И стулья мягче, и мебель новее.
И наоборот: если дела у нас шли плохо, дом как бы съеживался, дряхлел. А у тех, кто с клиентами работал наплевательски, и воздух дурнел, и мебель разваливалась, и двери переставали открываться. Мне всё сразу становилось ясно, и я таких нерадивых моментально выгонял или принимал меры к исправлению.
Минул год.
Дом мой превратился во дворец. Всё в нем буквально дышало благополучием и успехом. От этого и мы все заметно поздоровели и даже помолодели. А фирма – так просто процветала.
Но однажды ко мне пришел посетитель. С предложением.
Предложение было хитрое, с этаким пакостным душком. Но заманчивое. Денежное…
И я согласился. Развернули работу по этому предложению, и пошло… Деньги потекли рекой. Но рекой же потекли иски и жалобы.
Я оказался так замотан дрязгами, что перестал замечать и сам дом, и то, что в нем происходит. А когда заметил, был неприятно удивлен.
Сотрудники стали злыми, неприветливыми. Двери в их кабинетах скрипели, как больные, стулья разваливались. И мой собственный кабинет потемнел. Кресло как-то съежилось, сделалось жестким. Окна затмились пыльной пеленой.
Я вызвал помощника и поинтересовался, в чем тут дело. Он пожал плечами и уверил, что дом моют и подновляют чуть ли не каждый день, а он разваливается прямо на глазах.
Я призадумался. Раз дом ветшает и снаружи, и изнутри, то ясно почему: я в своем деле поступился нравственными принципами. Значит, надо что-то делать… Либо начинать капитальный ремонт дома, либо свертывать сделку, которая постепенно превращала меня и мою фирму в чудовище, ломающее людские души и наживающееся на их простоте и бедах.
И решил: плевать мне на этот дом.
Пусть себе разваливается.
Пусть захламляется.
Пусть скрипит и пылится.
Я-то свое взять успею.
Как-нибудь проживем. И сквозь мутные окна мир виден…
Но ничего у меня не вышло.
Дом необратимо разрушался.
Сотрудники стали подвертывать и ломать ноги на рассохшихся ступеньках. На будку охранников обвалился карниз и разнес ее вдребезги. Охрана, ясно, разбежалась.
Даже мой верный помощник бросил меня, ушел вместе с телефоном. Мраморные колонны вскоре выкрошились, дорожки во дворе заросли репьем и крапивой. Даже солнца теперь не стало видно – все дни над домом висела тяжелая свинцовая туча.
А в один прекрасный день дом не пустил меня внутрь. Я просто не смог открыть входную дверь – ручка оторвалась!
От злости плюнул я на дом.
Какая-то птица, подлетев к дому, вдруг резко спикировала и облетела его сбоку, не позабыв с высоты нагадить мне на макушку…
Потряс я головой.
Посмотрел вслед гадкой птице…
И подумал: «Ладно, другой дом найду… Не все же дома такие странные, как этот».
Сел я в машину и поехал побыстрее от этого неприятного места.
Дом скрипнул, и из карниза выпал увесистый кирпич – и прямо на то место, где только что стояла моя машина.
Лифт
Люди очень странными бывают в своих суждениях: они почему-то считают, что все предметы вокруг них ничего не чувствуют и не понимают.
Я вот, к примеру, Лифт.
Предмет в их понятии неодушевленный, то есть души у меня нет. Значит, я не мыслю и ничего не понимаю. Возможно, я и в самом деле многого не знаю, но все, что происходит во мне, я вполне понимаю и даже иногда оцениваю. Не знаю, может, я все это делаю неверно и не так, как люди.
Может быть. Вот, например, сегодня.
Еще только четыре утра, а меня уже вызывают.
Это жилец с пятого этажа.
Каждый день он встает без пяти четыре утра.
Глаза его еще закрыты и поэтому он путает кнопки.
Иногда уезжает вверх, на четырнадцатый, надевает вещи наизнанку и, бывает, засыпает.
Сегодня, должно быть, подумал спросонок, будто это не я, а дверь на улицу, и влетел в меня с такой скоростью, что врезался с огромной силой в стенку моей кабины.
От этого он и проснулся, и оделся правильно.
Когда врывается в меня этот ученик с одиннадцатого, то я на несколько минут становлюсь спортивным залом.
Вот он, бросив на пол портфель, постоял на голове. Попрыгал, словно пробуя прочность пола, изобразил каратиста, боднул несколько раз мою дверь, покувыркался.
И затем уже побежал в школу.
Собачка, которую выводят гулять по раннему утру, традиционно не выдержала и пописала в уголке.
Ее хозяин сделал вид, что эта лужица уже была.
А вот кто-то, едва открылись мои дверки, просунул руку, нажал кнопку верхнего этажа и следом швырнул кошку.
Кошка испугалась, растерялась и не знала, что ей делать. Бедное животное.
Я, конечно, тут же остановился и выпустил ее, не оттого, что мне было жалко свои стенки, а просто из милосердия. Перепуг кошки.
Эх, люди, люди…
Ага, вот еще один спортсмен.
Этот специализируется в беге по лестничным пролетам.
Он включает меня, тут же выскакивает и мчится со страшной скоростью вверх, пытаясь меня догнать.
Раньше ему это никогда не удавалось, но сегодня я позволил обогнать меня, но съезжая вниз.
То-то радости было!
Приятно делать людей счастливыми.
Два молодых человека сели в меня около одиннадцати. В спортивных костюмах и с огромными сумками. Я еще подумал: «Наверное, очень известные спортсмены».
Вышли на тринадцатом, а сели через час почему-то на одиннадцатом.
И сумки битком.
Тут я почувствовал неладное и на всякий случай взял да и сломался между третьим и вторым.
Ну, что она делали во мне и со мной – не передать словами. Только что зубами не грызли мне двери, а так все.
Я, конечно, лифт битый в прямом и в переносном смысле и поэтому выдержал все. А вот когда с девятого стали кричать, что их обокрали и приехала милиция.
Я этих спортсменов прямо в руки правосудия тепленькими и сдал.
Вроде доброе дело сделал, а на душе как-то тоскливо стало, И с чего бы это?
Ну вот, опять мой мучитель. Конечно, с двойкой и свежим синяком. Все время наносит мне раны, грамотность свою проверяет на моем пластике. Сегодня у него, очевидно, сентиментальное настроение: он, этот ушастный двоечник, высунув от усердия язык, старательно выводит перочинным ножиком на моей стене «Элла + Никита = Любовь».
Это так больно!
Когда он доцарапывал арифметический плюс, я довез его до цели. Он с сожалением посмотрев на неоконченное свое литературное произведение, сказал кому-то: «А Сережка – гад», – наверное, имея в виду своего потенциального соперника.
После этого облегченно вздохнул и пошел получать свои привычные тумаки за свои привычные двойки.
Час пик.
Прошли двое.
Потом еще двое, потом еще один.
Не успел закрыться, как втиснулся еще кто-то, а напоследок еще кто-то припечатал всех к моим стенам.
Люди эти, несомненно, умеют читать, но почему-то все делают наоборот. Столько я их поднять, конечно, не с могу.
Стоим, ждем.
Выходить никто не хочет.
Стоим, ждем.
Все кричат, никто выходить не хочет.
Стоим.
Мне надоело это издевательство, и я поехал, надрываясь, вверх.
Силы свои не рассчитал и застрял между первым и вторым этажами. И все, кто во мне, хотя и было очень тесно, так резво давай пинать и бить меня, что от удивления я съехал вниз и открыл двери.
Я-то тут при чем? Можно подумать, что я их силком сюда впихнул.
Порой бывает очень трудно понять людей.
А это в меня вошли влюбленные.
Как двери закрою, и смотрят друг на друга. Смотрят и смотрят, пока не приедут. А иногда останавливают меня.
Я терпеливо жду.
Хоть я и Лифт, но понимаю: любовь – это святое чувство.
Правда, иногда во мне бывает такая любовь, что хоть святых выноси. Но я эту псевдолюбовь стараюсь пресекать.
А эти пусть катаются.
Сегодня, наверное, зарплата у многих. Вы думаете, почему я догадался? Нет, не потому, что пьяных много, их всегда достаточно.
Деньги мужчины прячут.
Вот и этот, как вошел, так сразу давай по карманам рассовывать купюры.
А последнюю сложить-то успел, а спрятать нет, я уже становился и дверь открыл, а на площадке – его жена. Так он не растерялся и говорит ей так радостно:
– Представляешь, Соня, я деньги в лифте нашел. – И показывает.
Но что ему Соня ответила, я уже не слышал.
Меня вызвал вниз еще один не совсем приятный тип. Я его называю Плевако.
Не надо путать с кем-то из великих людей. Этот как заходит в меня, так начинает стены мои оплевывать.
Плюет и плюет.
Потом мусор из карманов разбрасывает.
А ведь взрослый мужчина.
С виду интеллигентный.
Я так думаю, что раз считается, будто лифты ничего не чувствуют, то он, очевидно, плюет в людей, а не в меня. Да, скорее всего, именно так.
И откуда у него столько слюны берется? А когда оплюет меня всего, сам так тихонечко вышмыгнет, чтобы о плевки свои не испачкаться.
И почему у людей в замкнутом пространстве какие-то непонятные инстинкты просыпаются?
Знакомиться всегда трудно.
А особенно для мужчины.
А особенно для трезвого.
Мой герой, может для храбрости, выпил стакан водки, закусил лучком и терпеливо стал ждать около входа в меня свою пассию.
Они часто ездили вместе до седьмого этажа, где она жила, но ни разу не разговаривали. Он сам-то живет на десятом.
Она подошла.
Он нажал кнопку и, повернувшись к милой девушке, почему-то стал по-идиотски улыбаться, чем очень ее озадачил. И вот где-то на уровне пятого этажа, обильно дыхнув на нее луково-водочным букетом, наконец изрек:
– А вы красивая, хи-хи.
На что сейчас же получил совершенно точный, на мой взгляд, ответ:
– Сам дурак.
После этого мне оставалось только открыть двери на седьмом этаже.
Знакомство не состоялось.
А совсем поздно, когда я уже думал, что сейчас отдохну, нечто не то вкатилось, не то вползло в меня.
Подняло меня до середины двенадцатого и остановило.
Грязное, нечесаное существо, от вина чуть живое, с каким-то тяжелым запахом тела, упало на мой пол.
И это человек.
И с душой.
Не предмет неодушевленный.
Судьба, она ведь выбирает, стреляет наугад, души веером разбрасывает.
Какая тебе попадет, еще неизвестно.
Вот и подумаешь, кем лучше быть – лифтом или человеком?
Прыжок
Жизнь у меня в последние несколько лет была такая замотанная, что я даже перестал понимать, зачем живу.
Сплошные переезды, перелеты, встречи, конференции, контракты, факсы, телефаксы; кругом не друзья, а партнеры, не обеды, а фуршеты.
Порой мне даже мерещилось, что это и не я живу в этом бешеном мире, а только мое тело, как отдельная сущность, к тому же принадлежащая не мне, а какому-то сообществу людей, объединенных общим названием «бизнес».
Попав во власть этого загадочного монстра, люди забывают, что помимо бирж и процентов, на свете есть лес, а в лесу – поляна с ежевикой, есть река, а в ней – сопливые пескарики; что день состоит из восьмидесяти шести тысяч четырехсот секунд, а не из единого мига между утренней и вечерней котировкой акций; что женщины – не только роботизированные комплектующие компьютеров, но еще и нежные создания с бархатной кожей, которую можно ласкать и испытывать при этом не меньшее удовольствие, чем от положительного сальдо баланса, составленного, кстати сказать, этим же эфирным созданием.
Так вот, улетал я из Голландии после очень тяжелых переговоров по поставке голландских цветочных луковиц для экзотических супов в элитные ночные клубы Москвы.
В Москве меня ждал аукцион по продаже четырнадцати тросов обгоревшей Останкинской телевизионной башни.
Машина гнала, как безумная.
Я опаздывал, но успел.
Правда, место мое уже заняли, и мне досталось одно-единственное свободное – в самом хвосте самолета, у туалета. Но скандалить я уже не стал – мне важно было успеть на аукцион.
Сел я в кресло. Пристегнулся. Попросил чашку чая с ликером «Белиз». Потом попросил шерстяной плед и заснул, рассчитывая проснуться только в аэропорту «Шереметьево-2», где меня должна была ждать машина с мигалкой и парой бутербродов.
Я сладко дремал, разморенный изрядной порцией ликера.
Но вдруг самолет затрясло, как в лихорадке, даже посильнее, чем Лондонскую биржу в моем сне. Я проснулся.
Перед глазами мельтешили стюардессы, пилоты и пассажиры в истерике, а сам самолет летел почему-то не прямо, а круто пикировал вниз.
При этом моторы завывали, как добрая сотня разорившихся банкиров, – натужно и обреченно.
В ту же секунду что-то треснуло прямо подо мною, и хвост, отломившись вместе с моим креслом от остального фюзеляжа, подпрыгнул вверх и бешеной юлой закрутился в ледяном вихревом потоке.
Но мозг, вне зависимости от подавленного состояния души и телесной дрожи, а я служил в десантных войсках, сам начал автоматический хронометраж высоты в секундах. А секунда у нас, парашютистов, отсчитывается словом «пятьсот».
501,502,503…
Я прикинул опытным взглядом: до встречи моего грешного тела с землей осталось секунд восемьдесят – девяносто – значит, около пяти тысяч метров. Я падал в озеро.
…565,566…
Со страшной скоростью я влетел в воду.
Доля секунды – и я, пройдя воду, как накаленная иголка масло, вонзился выше колен в илистое дно.
Слава богу, успел глотнуть воздуха, а то ведь чуть не задохнулся, пока выдирал ноги из вязкого ила.
Наконец полуживой вынырнул.
Еле-еле доплыл до берега.
Уже на карачках выполз на пологий склон, упал ничком и лишился сознания.
Очнулся я от щекотания в носу.
Поморщился, чихнул и открыл глаза, но не шевелился.
Шевелиться не было сил.
Прямо передо мной сидела на корточках маленькая девочка в золотых кудряшках, похожая на ангела, и вокруг нее раздавался колокольный звон.
«Уже в раю», – подумал я и блаженно зажмурился, чтобы хоть немного подготовить себя к райской жизни.
Но через секунду у меня в носу снова защекотало.
Я опять чихнул и вновь открыл глаза.
Вокруг, очевидно, был не рай, и ангелом в кудряшках оказалась обыкновенная девчонка лет пяти, которая былинкой щекотала мне нос. Я гримасничал, а она от этого заливалась смехом.
Другой рукой она держала веревку, за которую была привязана коза со звенящим колокольчиком на шее.
Эта картина была настолько необычной после всего житого и мною пережитого, что я невольно, превозмогая боль, приподнял голову и перевернулся на спину.
И в голове все перевернулось. И я решил. К черту этот бизнес.
Буду просто жить. Как живет эта девочка. Беззаботно и счастливо.
Как в раю.
Белое под чёрным
Сытый художник – это не художник.
Настоящим художником может быть только голодный художник.
А Коля Сушенцов голодал давно – лет десять.
Поэтому он с полным правом называл себя художником.
К тому же он и рисовал.
Рисовал «бытовуху» маслом.
Рисовал много. Продавал мало. Но пил достаточно.
Однажды, после тяжелого и суетного дня с друзьями, подругами и водкой с пивом, Коля уснул у себя в мастерской на диване, накрывшись черным хромовым пальто.
Это пальто подарил ему его друг, негр из Занзибара, с которым он учился в Университете Патриса Лумумбы. Коля провожал его с дипломом на родину в Африку, а в Африке, как известно, тепло и даже немного жарко. Поэтому черный друг, направляясь на паспортный контроль, снял свое кожаное пальто и отдал Коле, у которого не то что кожаного, даже драпового не было, и круглый год он ходил в брезентовом плаще.
Со временем пальто сильно пообтрепалось и пообтерлось, но носилось справно. И даже, как вы видите, время от времени служило то одеялом, то матрасом. Все зависело от обстоятельств и количества выпитого.
Так вот, лег Коля Сушенцов на диван и накрылся черным кожаным пальто, которое до этого носил один его знакомый негр.
Накрылся он пальто и уснул.
И стал ему сниться сон, что он в будущем.
И почему-то он не мужчина, а женщина.
Красивая такая блондинка лет тридцати. Кожа белая, волосы белые, белье белое, даже помада на губах и та белая.
А вот кровать и постель – черные. И комната как-то странно по дизайну сконструирована: верхняя половина стен и потолок черные, а ниже все белое, даже ковер на белом полу.
Когда лежишь на спине, то вся комната видится черной.
А если лежишь на животе, то вся комната видится белой.
И не успел Коля-женщина как следует освоиться в своем новом качестве, как открылась черно-белая дверь и вошел негр. Нет, совершенно не похожий на его университетского друга.
Негр по-деловому быстро разделся, и не успел Коля опомниться, как гость уже лежал на нем и быстро его…
В общем, негр, сделав свое дело, также по-деловому быстро оделся и довольный вышел.
Коля опешил.
Женщина отдыхала.
И не успел Коля осмыслить новую ситуацию, как черно-белая дверь снова открылась, и вновь вошел негр. Он быстро разделся, залез на Колю-женщину и стал опять быстро…
Негр, как и первый раз, сделал свое дело, оделся и довольный вышел.
Коля, уже наученный предшествующим опытом, что все здесь делается быстро, поддернул белый пеньюар и резво подскочил к окну.
Из окна, которое, находилось очень высоко, взору открылась огромная площадь. И на ней несколько десятков тысяч негров. На первый взгляд могло показаться, что они стояли хаотично. Но через некоторое время становилось ясно, что это – огромная, гигантская очередь, извивающаяся по площади, как змея. Конец ее терялся где-то в переулках, а начиналась она у того самого здания, где находилось окно, из которого смотрел Коля-женщина, а значит, и где находилась та самая странно раскрашенная комната.
Огромный рекламный щит сверкал слева от площади. На нем в похотливой позе была та самая женщина, которой был теперь Коля, и по кругу рекламный призыв со странным текстом: «Сенсация тридцать пятого века. Спешите. Последняя белая женщина на Земле. Всего за миллион долларов. Испытайте радость первобытного секса!»
Звучала громкая музыка, и в перерывах между фугами опять звучала реклама сверкающего рекламного щита.
И не успел Коля опять осмыслить, что все это значит, как черно-белая дверь снова открылась, и вошел очередной черный любитель первобытного секса.
«Нет, – подумал Коля, – с меня хватит». И, забравшись на подоконник, он выпрыгнул из окна.
Больно ударившись головой о мостовую, Коля проснулся.
Он лежал уже на полу в своей мастерской, накрытый черным кожаным пальто.
Брезгливо скинув с себя пальто, Коля сел, потрогал себя между ног – мужик. Значит приснилось.
И он опять накрыл себя черным хромовым пальто и вновь уснул прямо на полу, поленившись забраться на диван.
В эту ночь ему больше ничего не снилось.
Утром он совсем забыл о своем сне. Похмелился и, выбрав пару картин о подворотнях своего любимого города, поплелся на «пятачок» продавать эти шедевры.
На картины смотрели. Вздыхали. Но не покупали. Грязных, запомоенных дворов в жизни горожан и так хватало и никто не хотел покупать нарисованные помойки. Покупали в основном «рощи» и «рассветы».
Коля уже дважды снижал цену. И вот, когда он собрался уходить, к его картинам подошла очень красивая блондинка с сигаретой и маленькой собачкой на локте.
– Хау мач? – спросила она по-английски.
Коля назвал цену.
Она опустила собачку на тротуар, достала из висевшей на плече сумочки деньги. Отсчитала. Отдала. Сунула под мышку картины, под локоть – собачку и ушла.
Коля пересчитал деньги и пошел поесть.
Но что-то не елось и даже не пилось.
Эта резвая покупательница пробудила в нем какие-то смутные воспоминания. Будто он – это она. Ощущение это было настолько реальным, что он невольно потрогал себя за грудь.
Затем ковырнул вилкой остывшую котлету, глотнул кислого пива и вдруг резко встал и бегом помчался к себе в мастерскую.
Там, сбросив на диван свое черное кожаное пальто, он дрожащими руками закрепил на подрамник первый попавшийся под руки холст, надавил красок и стал творить.
А творил он что-то очень странное, непонятное даже для себя.
Руки его мелко подрагивали. Он спешил. Торопился. Хотя краски ложились ровно и легко, он как бы боялся опоздать. А к чему опоздать о никак не мог себе объяснить.
Его привычка смотреть во время работы подолгу в окно сменилась частыми взглядами на пальто, вызывающе черневшее на диване.
К утру картина была закончена.
Последний мазок, и кисть выпала из рук.
Коля пинком зашвырнул ее в угол. Вытер руки и пошел в туалет. Потом попил воды. Надел пальто и, не закрыв мастерскую, вышел на улицу. В голове было пусто. На душе легко. Он бродил поутру без мыслей и желаний. Когда появились спешащие люди, он вернулся в мастерскую. Развернул картину к дивану. Лег и стал смотреть на то, что нарисовал.
Картина была резко разделена на две части по горизонтали. Верхняя часть – черная, нижняя – белая. По горизонтальной линии расположились две фигуры – черный мужчина и белая женщина. Мужчина сверху на женщине в любовном экстазе. Женщина в устало-безрадостной позе, с опущенными ногами, повисшими руками и опрокинутой головой.
И что самое главное, если долго смотреть на картину, то черная часть картины как бы начинала придавливать белую половину. И казалось, что белая половина сужается и сужается, и сама белая женщина темнела и темнела. И вся картина со временем становилась черной.
Но стоило тряхнуть головой, эта иллюзия исчезала.
Но стоило опять начинать внимательно вглядываться в картину, как все повторялось. «Что-то я странное изобразил», – подумал Коля, но к полотну подошел и подписал: «Н. Сушенцов «Белое под черным» 2001 год».
Со временем снял с подрамника картину и воткнул его в большой ряд своих шедевров, стоящих на грубо сколоченной полке.
Потом он и вовсе забыл об этом полотне. Тем более, что и пальто его хромовое стащили в одном подвальном арт-клубе.
Прошло еще несколько голодных лет.
Сушенцов больше ничего такого странного не рисовал. Он рисовал дворы, котов, помойки. Продавал понемногу. Пил понемногу.
Но как-то вдруг утром в понедельник пришло отрезвление. «Что это я? Вроде художник со стажем и даже ни разу не выставлялся».
Подал заявку на выставку.
Ответственные лица пришли в мастерскую, посмотрели картины. И ушли.
Выставка не состоялась.
Правда потом кто-то из комиссии вспомнил почему-то про него, и его фамилию включили в одну сборную юбилейную выставку. Но только с одной картиной.
Сушенцов покопался в своем запаснике и почему-то выбрал картину «Белое под черным». Ее он и принес в выставочный зал.
Организаторы выставки были не в восторге от картины и повесили ее где-то в самом углу последнего зала.
Николай даже на открытие выставки не пришел из-за явного неуважения организаторов к его персоне.
Но все это так.
А на самом деле на выставке произошла сенсация.
На ее открытии, после торжественных речей и призывов, вдумчиво-умных осмотров картин местных классиков, зрители степенно шли и переходили из зала в зал. Пока не доходили до последнего зала. До картины его, Сушенцова.
И здесь всё.
Все останавливались и, не отрываясь, смотрели на картину. Зал постепенно «набухал», а потом переполнялся. А люди все шли и шли.
Организаторам выставки после небольшого замешательства пришлось перевесить картину в самый большой выставочный зал и открыть уже организованный просмотр неожиданного шедевра.
Картина просто завораживала людей.
Шустрые, деловые люди, которые есть при каждом искусстве, смекнули, чем здесь пахнет. А смекнув, быстро разыскали Николая Сушенцова и предложили ему за «Белое на черном» сумму, раз в сто превышающую продажную стоимость любой картины на местном «пятачке».
Если бы они предложили меньше, он, может быть, не раздумывая продал картину. Но, услышав о каких деньгах говорят эти шустрые ребята, Николай насторожился.
Что-то тут не так.
Или ребята дураки, а на дураков они не были похожи, или картина, которую он сотворил, видимо «что-то» стоит. А вот сколько стоит это «что-то» после неожиданного предложения шустрых ребят стало не совсем понятным.
Николай отказался от предложения.
А ночью его обокрали, а затем сожгли мастерскую.
Николай не сгорел по чистой случайности, так как, сильно выпив в честь своего успеха, уснул на скамейке соседнего подъезда, не дойдя до мастерской несколько метров.
Так Коля Сушенцов остался без картин, мастерской и своего скудного имущества.
Единственным его богатством и достоянием осталась картина, отданная им по воле рока на юбилейную выставку.
Картина пользовалась бешеным успехом.
Ей выделили отдельный зал.
Критика просто лавиной обрушилась на картину и художника. Причем критика ужасная, чем вызвала моментальную мировую известность.
Автору поступили столичные предложения от крупных выставочных залов.
Николаю сначала вся эта суета вокруг его персоны и его картины понравилась.
Его приглашали, угощали. О нем писали.
Но писали в основном плохо. Даже гадко. И много.
Подняли все его грязное белье, всех его жен, любовниц и детей, законных и незаконных. Его болезни, пороки, привычки. Его дружно обвинили во всех смертных грехах: от расизма до шовинизма, от гомосексуализма до онанизма, от идиотизма до даунтанизма.
Правда были немногие, которые называли его пророком, а картину его пророческой.
Но в основном и мастера, и картину все ругали.
От всей этой трескотни Николаю стало в жизни неуютно.
Многие перестали с ним здороваться, друзья приглашать, соседи узнавать.
Коля с горя попил еще винца и однажды к вечерку повесился.
Какой-то сердобольный родственник его похоронил, а картина та случайная пропала. Исчезла.
Объявилась она через полтора года на аукционе Сотсби и была продана за рекордную сумму – сто пятьдесят миллионов евро.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?