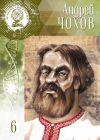Текст книги "Пинхас Рутенберг. От террориста к сионисту. Том I: Россия – первая эмиграция (1879–1919)"

Автор книги: Владимир Хазан
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
А.И. Спиридович был автором многих ценных в историческом отношении книг и статей, но едва ли он мог сочувствовать Рутенбергу, который мучительно переживал драму гапоно-азе-фовского бесчестия, низости и продажности и который, как выяснилось впоследствии, в дополнение ко всему вынужден был нести за это ответственность.
На эту драму художественная литература не отреагировала, хотя сама топика революционного террора с провокаторской проблематикой в центре него занимала писателей как метрополии, так и эмиграции. Вышедший через год после «На крови» Мстиславского «Генерал БО» Р. Гуля взволновал даже такого искушенного читателя, как И. Бунин. По воспоминаниям И. Одоевцевой, на ее вопрос, «читал ли он роман, Бунин воскликнул:
– Еще бы! Будь ему неладно. Ах, уж этот Гуль! Безобразие, да и только! Гуль вцепился в меня, втащил меня в кабину лифта и катает вверх и вниз, на шестой этаж, туда и обратно, без отдыха и срока. И я не могу протестовать, я подчиняюсь ему и читаю, читаю, глотаю страницу за страницей. А мне хочется отложить книгу, передохнуть, позевать, захлопнуть книгу и пройтись по воздуху. Куда там, – вцепился, не выпускает. Необходимо, чтобы были скучноватые страницы, остановки, пустые места. А у Гуля все так стремительно летит, ни строчки, ни слова лишнего, такая динамика, такое высокое напряжение, так все бурлит и кипит, что того и гляди, все лопнет, разорвется, как «лейденская банка» (Одоевцева 1974: 9)45.
Переработанный из «БО» роман Р. Гуля «Азеф» (1959) завершается изображением подлинного шока, испытанного одним из участников этой истории, Савинковым, после разоблачения «великого провокатора»:
Савинков на ходу думал о том, о чем всегда думал, когда оставался один, – об Азефе. Он знал, как страшно уничтожил его Азеф… (Гуль 1959: 319).
Имя Рутенберга среди героев романа отсутствует, но в результате развернувшегося между ними поединка и своего в нем поражения он мог сказать о себе то же самое…
Современники чутко улавливали в общественной атмосфере, что эпидемия провокаторской болезни нарастает. Провокаторство охватило буквально все революционные партии: «подметки», как тогда называли провокаторов, стали неотъемлемо-привычным явлением революционного движения. Эта, по словам П.Б. Струве, писавшего об азефщине как о крайне аморальном выражении революционной стихии, игра «без правил», отделила «"терроризм” от общества», превратила «террористов в некоторое подобие "революционной” полиции или "охраны” которая живет своей особой жизнью, по своим "законам” и пользуется "массою” не посвященных в революционно-охранные мистерии простых, профанных революционеров как провокационным мясом» (Струве 1911: 137).
В истории с Гапоном Рутенберг, в определенном смысле, оказался в руках Азефа «провокационным мясом». Вот почему горькое чувство, преследовавшее его, как можно думать, всю жизнь, было связано не только с той жуткой правдой революции, которую когда-то обнажил Савинков, сказав, что «каждый революционер – потенциальный провокатор», и не только из-за своего двусмысленного положения, возникшего после «дела Гапона». Полагаем, что не в меньшей степени Рутенберг, человек самолюбивый и амбициозный, страдал от того, что Азефу и Рачковскому удалось его переиграть, причем «переиграть вчистую», как переигрывают несмышленышей-новобранцев. То, что он должен был при этом испытывать, точнее всего, наверное, следовало бы определить как комплекс несостоявшегося героя: он, как оказалось, не властвовал судьбой и совершал деяния, а был орудием в руках тайных сил. Явился, иными словами, средством закулисной игры, мелкой «пешкой» на шахматном поле больших и малых интриг в мире политического сыска. Осознав это (а Рутенберг был достаточно проницательным человеком, чтобы долго заблуждаться на сей счет), он испытал, судя по всему, не заурядное недовольство собой, а душевную травму, одно прикосновение к которой вызывало подлинные кошмар и смятение.
Разумеется, следует отметить, что когда Азеф вознамерился вслед за Гапоном убрать и его убийцу и посоветовал Рутенбергу отправиться в Россию, где тот был бы, конечно, тут же схвачен, то наткнулся на решительный отказ:
Его <Азефа> предложение поехать в Россию, – писал Рутенберг впоследствии, – я принял как совершенно определенное намерение помочь мне повиснуть на ближайшей виселице: и я угомонюсь, и ему спокойней будет работать! Душевно он стал мне еще более отвратителен, чем раньше (ДГ: 97).
Здесь Рутенбергу удалось выскользнуть из рук провокатора, назначавшего, по меткому выражению Л. Клейнборта, «каждому его смертный час» (Клейнборт 1927: 217). Проявивший максимум проницательности и здравого смысла, он и в дальнейшем избегал встречи с Азефом, как, например, в январе-феврале 1907 г., когда жил в Италии и там же, в Генуе и в Алассио, находился Азеф (см.: Письма Азефа 1994: 137-40 – письма Азефа Савинкову, B.C. Гоц, Н.В. Чайковскому). Встреча с ним для Рутенберга была явно нежелательна, и даже после разоблачения и бегства Азефа он, по-видимому, опасался не столько его самого, сколько подосланных им агентов охранки46. В письме к Савинкову от 6 февраля 1909 г. есть проявление на сей счет известного беспокойства:
Напиши, пожалуйста, знает ли Азев, где живу. Мне это надо знать сейчас же47.
Опасения эти звучат и в письме к В.Л. Бурцеву, написанному через месяц с небольшим, 12 марта 1909 г., в котором он просит не давать никому своего адреса (в самом письме указан некий ложный адрес: Milano, 14 via Bellingezetta)48.
В следующем письме ему же (25 марта 1909 г.) Рутенберг пишет:
Адрес для сношений со мной я переслал Вам через Савинк<ова>. Если приедете по этому адресу хотя бы с этим письмом, меня немедленно вызовут. Более точные указания можете получить у моей жены. Адрес ее Вам не трудно будет узнать, конечно49.
Безусловно, самым острым и интригующим в борьбе боевиков с агентами охранки была схватка интеллектов. Нет нужды доказывать тот очевидный факт, что в верхнем эшелоне Департамента полиции сидели не просто неглупые и хорошо информированные люди, но и по-своему тонкие аналитики, очень неплохо разбиравшиеся в сложных хитросплетениях человеческой психологии и различных течениях государственной жизни. Достаточно назвать имена С.В. Зубатова (см., например, Кавторин 1992: 13-227), A.B. Герасимова, A.A. Лопухина (см. в этой связи: Лопухин 1907), чтобы придать этому тезису материальную плоть. Следует также иметь в виду, что ко времени, о котором идет речь – рутенберго-гапоновского инцидента, – с предельной ясностью обнаружилось, что определенные правительственные круги нередко использовали борьбу с революционным движением для «подставок» и сведения личных счетов, а также в карьерных целях, устраняя тем самым со своего пути нежелательных соперников и конкурентов. В свою очередь, далекими от провозглашаемых высоких общественных идеалов и нравственной чистоты оказывались порой и их политические враги – революционеры-террористы. События на театре российского политического террора далеко не всегда диктовались целями революционной борьбы: определенная часть убийств совершалась при молчаливом согласии, если не вообще санкционировалась властями. Классическим выражением этой загадочной российской «политической механики», при которой высшие государственные сановники устранялись их соперниками, хотя и руками врагов правящего режима, стало через некоторое время убийство премьер-министра П.А. Столыпина. Его убийца Д. Богров, как известно, одновременно принадлежал анархистско-револю-ционным кругам и был агентом царской охранки.
По художественной версии Р. Гуля (который опирался на высказанные до него основательные подозрения В. Бурцева), убийство террористами В.К. Плеве было «санкционировано» настрадавшимся от него П.И. Рачковским. В романе «БО» есть сцена, где Рачковский исподволь внушает Азефу мысль о том, что главным вдохновителем Кишиневского погрома явился именно Плеве, тем самым как бы отдавая грозного министра внутренних дел (а вместе с ним и вел. кн. Сергея Александровича) на заклание революционерам. Разбирая эту сцену, современные исследователи пишут:
Эпизод этот, естественно, полностью вымышлен. Но романист развивает две важные для него идеи:
1) убийство Плеве (в перспективе и его «тайного повелителя», великого князя Сергея Александровича) – национальная месть за Кишиневский погром 1903 года, тем более что российская либеральная общественность действительно обвиняла министра как минимум в «преступном попустительстве»;
2) террористическая деятельность Азефа в качестве руководителя БО эсеров тайно направлялась его полицейским начальством (Одесский, Фельдман 2002: 60).
В данном случае нас интересует второй аспект – тайно вдохновляющая роль охранки в организации некоторых громких террористических дел. То, что случилось с Рутенбергом, лишний раз свидетельствует о том, что охранное ведомство имело возможность влиять, как в данной ситуации – через Азефа, на процесс «сведения счетов» между правительственными сановниками.
Оказаться, таким образом, в «мышеловке» – в незавидной роли не судьи, а палача, который не столько исполняет справедливый приговор, сколько служит инструментом исполнения чужих интересов, – в этом для самолюбивого Рутенберга должен был быть и наверняка на самом деле был источник непереносимого нравственного унижения. Именно поэтому (или скажем мягче и альтернативней: и поэтому тоже – наряду с общей профанацией сокровенных революционных идеалов) гапоновс-кая история вызывала у него прилив столь энергичного отвращения.
Говоря объективно, он действительно совершил тактический промах, дав Азефу провести себя и не обеспечив своей роли, в отличие от более опытного и умудренного во лжи и интригах противника, «отступными» легендами. Разбирая этот драматический эпизод, авторы французской книги о русских террористах и охранке, тонко прочувствовав сложившуюся ситуацию, писали:
Если поведение Азефа, оперировавшего, кстати сказать, с крайней осторожностью в этом деле, вполне ясно, то этого отнюдь, к сожалению, нельзя сказать о поведении Рутенберга, принявшего молчание Азефа за согласие ЦК (принципиально не могшего дать подобного согласия в виду суда) и забывшего, что все, что он знал о предательстве Гапона, он знал один и что если казнь Гапона вместе с Рачковским не нуждалась в санкциях и объяснениях, то убийство одного только Гапона должно было остаться загадочным… (Лонге, Зильбер 1924/1909: 148).
Слабым утешением для Рутенберга был тот «оправдательный» аргумент, какой мог бы возникнуть в его сознании задним числом: нелепо же было воспринимать Азефа до его разоблачения как противника, а не как покровителя-босса, пользовавшего непререкаемым авторитетом у товарищей по партии.
Весьма показательным в свете всего сказанного явилось отношение Рутенберга к книге, написанной о нем Яковом Яари-Полескиным (Yaari-Poleskin 1939) и приуроченной к его 60-летию. Как мы узнаем из публикуемого ниже письма героя к автору, книга создавалась и печаталась вопреки желанию Рутенберга и даже наперекор его прямому требованию не делать этого.
Рутенберг, который вообще не отличался особенной кротостью нрава и мог быть достаточно жестким и безжалостным по отношению к тем, чьи заслуги, результаты труда или моральную стоимость невысоко ценил, в истории с Полескиным вовсю проявил суровость своего характера. Можно было бы объяснить излишне резкий тон его письма простым сопротивлением установлению прижизненного памятника, если бы сочинение Полескина не представляло собой в известном смысле вполне добротно сработанную и довольно информативную для своего времени монографию. Надо сказать, что несмотря на ряд очевидных недостатков (отмечаемая суровым юбиляром лубочная прихорошенность его личности и связанный с этим ряд исторических недостоверностей и ошибок – этим же грешили и многие представители прессы того времени, творившие рутенберговскую «агиографию»50), книга не потеряла определенного интереса до нынешнего дня. Словом, Полескин вовсе не представлял собой крайний вариант неоднократно осмеянного типа «наемного» журналиста-историка, озабоченного проведением заказной тенденции или того паче – плоской халтуры. Однако не будучи сам по себе ни значительной личностью, ни профессионалом крупного калибра, ни тем более поверенным в тайнах внутренней жизни своего героя, большого доверия у Рутенберга он не вызывал. Но дело, как представляется, было не только в этом.
Самого инцидента с Полескиным мы еще коснемся; сейчас же, приводя письмо Рутенберга к нему по поводу вышедшей книги, отметим, что при чтении этого письма складывается впечатление не столько тенденциозности автора, сколько раздражения героя. За резкими замечаниями Рутенберга сквозит нечто более скрытое и сокровенное, нежели суровый суд над неудачным литературно-историческим сочинением. В достаточной степени ивритом Рутенберг не владел и, стало быть, вряд ли мог прочесть книгу в полном объеме и вникнуть в нее сколько-нибудь основательно. Он, похоже, исходил при ее оценке не из объективных критериев, а из каких-то иных, ведомых только ему соображений, не связанных напрямую с достоинствами или недостатками текста. Для него, по-видимому, была неприемлемой сама мысль о том, что кто-то посторонний может беспрепятственно проникнуть в его жизнь, бдительно оберегаемую от чужих глаз, и тем самым лишний раз иметь повод судить и рядить о строго табуированных материях. Еще за семь лет до выхода книги из печати он предупреждал обратившегося к нему Полескина о том, чтобы тот не брался за напрасный труд, из которого ничего хорошего, судя по всему, не выйдет. В августе 1932 г. и в марте 1936 г. Полескин этому предупреждению не внял и, несмотря на энергичные протесты Рутенберга, сам для себя определил право на Imprimatur. Получив книгу, Рутенберг писал ему в ноябре 1939 г. (RA, копия):
2. IX <1>939
H<aifa>
Дорогой Полескин.
Спасибо за книгу. Письмо тоже получил. Несколько лет назад Вы просили мое разрешение опубликовать такую книгу, и я Вам категорически отказал. Теперь Вы опубликовали эту книгу без моего разрешения. Зная, что я против этого.
Вы поступили очень нехорошо.
Мотив, что это Вам нужно для заработка, не убедителен. Я не являюсь Вашей частной собственностью.
Книга написана плохо. Очень поверхностно. Важная эпоха истории еврейского народа 1915–1919, годы моей жизни в Америке – ежедневная пресса того времени дала бы много больше драматической сущности ее. Последние 20 лет жизни в Палестине тоже дали поверхностно. Некоторые даты и события перепутаны. Некоторые политические факты опубликованы безответственно и принесут много горя злополучному нашему народу. Личность Р<утенберг>а лубочно прихорошена.
Книга – сенсационная, привлекающая публику, кинематографическая картина. Вероятно, будет читаться. К моему сожалению. Учиться в книге нечему.
Английского и других переводов книги прошу Вас не делать. Если сделаете – вынужден буду принять меры, для Вас, наверное, неприятные.
В письме Вашем просите интимный разговор со мною. Для нового, расширенного издания книги. Ясно, что никаких интимных разговоров с Вами иметь не буду.
П. Р<утенберг>51
Естественно, что Полескин, руководствовавшийся при работе над книгой самыми добрыми намерениями, был весьма раздосадован таким поворотом дела. Об этом ясно свидетельствуют сохранившиеся в RA его письма к Рутенбергу, к которым, повторяем, мы еще вернемся.
Показателен для анализа затронутой темы также воспроизводимый в мемуарах Б.-Ц. Диковского, работавшего вместе с Рутенбергом в компании Хеврат ха-хашмаль, такой факт: когда в одном из русских эмигрантских журналов вышла чья-то статья, в которой рассказывалось об истории Гапона, он, Диковский,
купил этот номер журнала в одном из киосков в Тель-Авиве и показал его Рутенбергу. Тот прочитал статью и сделался мрачным. После этого он сказал мне с сильным нажимом: «Порви эту книжку, а затем пройди по киоскам, скупи все, что увидишь, и уничтожь» (Dikovskii 1986: 70).
Хотя Рутенберг ревниво оберегал собственное прошлое от постороннего вмешательства, некоторые его рассказы, если верить мемуаристам, поражают явной непоследовательностью и попахивают откровенной мистификацией, цели которой, впрочем, не ясны. Так, уже живя в Палестине, он исповедовался однажды перед одной своей знакомой в том, что до нынешнего дня не уверен в справедливости совершенной над Гапоном экзекуции – был ли казненный в самом деле агентом-провокатором («…I’m not sure to this day whether his execution was justified, whether he was in fact an agent provocateur») (Solomon, Litvinoff 1984: 112). Кроме того, он якобы рассказывал ей, что, заманив попа в уединенное место («а country shack»), застрелил его («shot him») (там же). Эти свидетельства нарочитого искажения подлинных обстоятельств убийства Гапона усиливаются еще и тем, что упоминаемый далее той же мемуаристкой столь хорошо информированный человек, как Р.Б. Локкарт, который с 1911 по 1918 г. жил в России и наряду с официальными обязанностями английского консула исполнял деликатные шпионские функции, писал в одной из своих книг, что Рутенберг, по заданию партии эсеров, пристрелил Гапона в общественной уборной (Lockhart 1952: 27). Локкарт не сообщает, откуда он почерпнул эту более чем странную информацию, идущую вразрез с тем, что было достоверно и недвусмысленно известно о месте и обстоятельствах гапоновской казни. Его слова можно было бы принять за обычную «развесистую клюкву» иностранца, берущегося писать о России, если не знать, что данный автор обычно строго и ответственно обращался с подобного рода фактами.
Это наводит на мысль о том, что несмотря на всю свою осведомленность Локкарт, близко знавший Рутенберга, мог в отношении смерти Гапона стать жертвой рассказанной им истории об уборной. Примерно так же Рутенберг, очевидно, вводил в заблуждение Ф. Соломон, которая, между прочим, сопровождает свой рассказ таким комментирующим замечанием:
Бедный Рутенберг, который на протяжении многих лет жил как конспиратор, был неспособен держать внутри себя тайну, хотя никогда не рассказывал одну и ту же историю дважды (Solomon, Litvinoff 1984: 112).
Выводы автора цитируемых мемуаров представляются излишне категоричными, основанными на сугубо личном, по-женски субъективном и весьма ситуативном опыте (ее положение замужней женщины, имевшей ребенка, предотвратило ухаживания холостяка Рутенберга, но, судя по всему, их отношения не избежали некоторого налета интимной доверительности, при которой многие пафосные вещи нередко делаются бытовыми и курьезными). Большинство писавших о Рутенберге как раз видели в нем иные, прямо противоположные качества и черты – неприступность, скрытность, несклонность к сентиментальным душевным излияниям, немногословие, замкнутость. Как бы то ни было и будь даже облик Рутенберга, рисуемый Ф. Соломон, излишне, что ли, «индивидуализированным» и потому неадекватным с точки зрения типологии «общественного деятеля», нам и в дальнейшем придется указывать на некоторые несоответствия, нестыковки и противоречия в его характере. В конечном счете именно эта противоречивость дает ощущение живой души, во имя чего приходится жертвовать набором ложно-героических качеств.
При всем том, что, как всякое живое существо, Рутенберг не был застрахован от проявления «человеческого, слишком человеческого»: позволял себе внезапные слабости и странности, мог поддаться минутному настроению, эмоциональным бурям и нервным срывам, все-таки в своей приверженности основным «символам веры» он проявлял редкую последовательность, непреклонность и волю. Именно этими качествами было отмечено его поведение в истории с полицейским агентом и провокатором Гапоном – казнь-возмездие и вся последовавшая затем битва с эсеровским ЦК, по существу открестившимся от Рутенберга как главного персонажа этого нашумевшего дела. С ним, с «делом Рутенберга», в которое переросло «дело Гапона», связана одна из самых бесславных страниц истории партии эсеров.
И еще одно свидетельство, которое нельзя не привести ради объективного баланса мнений. Оставившая, как и Рутенберг, след в российской и палестино-израильской истории Мария Вильбушевич-Шохат52 познакомилась с Гапоном в годы своего тесного сотрудничества с С.В. Зубатовым. В ее поздних воспоминаниях Гапон предстает личностью редкой физической и моральной красоты:
Гапон был одним из самых интересных и замечательных людей, которых я встречала в жизни. Красивый внешне. Аскет и эстет. В чертах благородство и аристократизм. Сильный, как кремень, характер. Одухотворенный мечтатель и поразительно одаренный организатор. Глубоко верующий и веротерпимый, он был полон жалости и любви к ближнему своему. Имел колоссальное влияние на народные массы. Они шли за ним со слепой верой. И были готовы идти за ним в огонь и в воду (Goldstein 1991:142).
М. Вильбушевич-Шохат с нескрываемым сомнением относилась к тому, что «аскет и эстет» Гапон мог стать провокатором и агентом царской охранки.
Я убеждена, – говорила Шохат, спустя многие годы, – что то, что с ним произошло, основано на недоразумении или на провокации кого-то другого. Не думаю, чтобы это мое мнение было бы принято, ведь мы привыкли на протяжении многих лет видеть в нем провокатора. Однако мой моральный долг – рассказать то, что мне известно (там же: 142-43).
О том, как она впервые столкнулась с Гапоном, Вильбушевич поведала Рахель Янаит Бен-Цви, жене И. Бен-Цви, а та, в свою очередь, воспроизвела этот рассказ в книге о ней. Впервые Маня увидела Гапона при следующих обстоятельствах:
В Петербурге Маня познакомилась с о. Г. Гапоном. Их первая встреча произошла на улице. Она сопровождала свою сестру, которая должна была выполнить ряд поручений. Сестра вошла в магазин, а Маня осталась ждать ее на улице. Стояла и разглядывала прохожих. Вдруг она услышала крик и увидела, как городовой пытается задержать старика-еврея. В тот же самый момент откуда-то появившийся молодой священник схватил городового за руку и попытался воспрепятствовать этому. Когда городовой гневно заявил, что это еврей, а евреи не имеют права свободно разгуливать по столице, священник пришел в ярость и назвал стража порядка антихристом, поскольку Господь создал мир для всех людей. Предъявив городовому паспорт, священник сказал, что берет старика под свою персональную ответственность. Растерявшийся полицейский отпустил еврея, а освободитель, взяв того под руку, пошел вместе с ним своей дорогой.
Маня почтительно и с изумлением глядела священнику вслед и сожалела только о том, что не спросила его имя. Совершенно случайно, однако, она встретила его вновь несколько дней спустя на небольшой студенческой вечеринке. Когда Гапона ей представили, она напомнила ему о произошедшем на улице инциденте, и между ними завязалась беседа. Во всем облике Гапона было нечто необычайное, что в особенности произвело впечатление на Маню: он воплощал само благородство, чистоту и честность (Yanait Ben-Zvi 1989: 26-7).
Вообще не испытывавшая к Рутенбергу особой симпатии, Шохат считала, что весь его рассказ о Гапоне представляет чистое измышление. В интервью 1942 г., где она делилась этими откровениями, нет даже попытки объяснить, зачем понадобилось Рутенбергу возводить напраслину на Гапона и порочить его «честное» имя. Есть лишь сопоставление его, Рутенберга, морали (точнее, в глазах Вильбушевич, «аморальности») с аморальностью коммунистов:
<…> Он знал лишь одну цель и ради нее был готов на все: убивать, порочить и пр. Здесь даже не то чтобы «цель оправдывала средства», поскольку с самого начала нет такого средства, которое не годилось бы для его целей (там же: 164).
В отличие от Рутенберга, Вильбушевич-Шохат через Зубатова реально была связана с охранкой (см.: Заславский 1918), и в ее защите Гапона вольно или невольно проявлялось корпоративное братство и желание отстоять правоту собственных увлечений зубатовской теорией «полицейского социализма», которой она отдала в молодости щедрую дань. Впрочем, независимо от этого, ее отношение к Рутенбергу складывалось как сплав сразу нескольких мотивов, и всех как на подбор недоброжелательных, о чем у нас еще будет случай поговорить.
Коллективное предательство
Положение, в котором оказался Рутенберг после убийства Гапо-на, терзало своей неопределенностью: с одной стороны, он вроде бы действовал по поручению и следовал инструкциям руководящего органа своей партии, с другой – ЦК не желал признавать ни юридической, ни моральной причастности к казни Гапона, снимая с себя всякую ответственность за нее. Рутенберг квалифицировал поведение ЦК как «коллективное предательство». 19 февраля 1908 г. он писал Савинкову (этот фрагмент цитируется в ДГ, полностью письмо приведено в Приложении И. 1):
Если ЦК не хотел этого дела, он имел ведь возможность вернуть меня, остановить. А если он «в конце концов примирился», то взял, следовательно, на себя ответственность за все последствия. И за успех, и за неудачу, и за Озерки. <…> Но придраться к тому, что я ступил правой ногой, а не левой, зная, что левой ступить не могу, зная, что доказательства виновности Г<апона> я достал, и замолчать, когда заговорили «маски», – отказаться от меня, – ведь это предательство. Предательство со стороны ЦК как коллегии, предательство со стороны отдельных лиц и с твоей в частности (ДГ: 102).
Политический вакуум, сложившийся вокруг этого дела, не мог, естественно, не возбудить нездоровых, подозрительных реакций со стороны рабочих, некоторая часть которых, несмотря ни на что, продолжала относиться к Гапону с прежним доверием.
Долго еще ЦК, – рассказывает Рутенберг, – не мог собраться заявить что-нибудь о смерти Гапона, рассеять росшее в рабочей среде недоразумение, что народный защитник – Гапон – убит мною – правительственным агентом (ДГ: 95).
«Правительственный агент» – прозрачный намек на нашумевшую статью Манасевича-Мануйлова «К убийству о. Гапона», которую мы приводили выше. В части, посвященной Рутенбергу, автор писал:
…Георгий Гапон находился в постоянных сношениях с одним из членов «боевой организации», инженером Рутенбергом, известным в революционном мире под псевдонимом Мартына… За последнее время Гапон имел с ним несколько свиданий, причем разговор коснулся желания Рутенберга перейти на сторону правительства и сообщить департаменту полиции все происходящее в боевой организации. Гапон, узнав о желании Мартына служить правительству, обещал ему поговорить с одним лицом, с которым ему приходилось иногда сталкиваться. В средних числах марта Гапон к этому лицу явился и заявил ему, что Мартын соглашается стать секретным сотрудником департамента, но желает получить за свою «измену» партии 100 тысяч рублей… Сумма эта была найдена слишком большой, и Гапон был уполномочен предложить члену боевой организации 25 тысяч… За несколько дней до рокового случая Гапон является к лицу, переговорившему с Мартыном, и сообщил ему, что решительный разговор должен произойти на сих днях в окрестностях Петербурга, причем почти с уверенностью можно предсказать успех делу… Нет сомнения, что свидание состоялось, и тут-то Мартын решил покончить со своим «демоном-искусителем»… Весьма возможно, что они виделись в Озерках, так как Гапон спрашивал одного из рабочих, сколько езды в Озерки и т. д. Знаменитый Мартын и его товарищи исчезли из Петербурга и находятся теперь за границей… (Маска 1906: 3).
За честь мужа вступилась О.Н. Хоменко – в газете «XX век» было опубликовано ее возмущенное письмо (1906. № 22. 18 апреля (1 мая). С. 6):
М. Г. В воскресном номере газеты «Новое время» помещена статья «К убийству о. Гапона», подписанная псевдонимом «Маска».
Маска заявляет, что Гапона убил инженер Рутенберг как своего «демона-искусителя», предлагавшего ему перейти на сторону правительства.
Считаю заявление г. Маски клеветой, требую доказать, что им было сказано, в противном случае я буду иметь право назвать публично клеветниками и провокаторами и автора, и редакцию «Нового времени», которая ему так услужливо предоставила для этой гнусности свои столбцы.
Жена инженера Рутенберга Ольга Рутенберг.
Состояние нервной издерганности, в котором пребывал в это время Рутенберг, достигло своего пика. Свидетелей его разговора с Азефом не было, никаких докуметальных подтверждений о том, что он получил санкцию на ликвидацию одного Гапона, не существовало. Доказать собственную правоту было почти невозможно.
Представим на мгновение, что никакого разрешения Азеф Рутенбергу не давал, и последний действовал в силу своего разумения – от отчаяния ли или хорошо сознавая, что возложенное на него задание невыполнимо (или даже более того – втайне надеясь тем самым избежать столкновения с Рачковским, которое, по всем признакам, не могло завершиться успехом лишь одной стороны). Из всего этого, безусловно, вытекает факт грубого нарушения Рутенбергом партийной дисциплины. Но даже при этих – крайних (и тем более условно-предполагаемых) – обстоятельствах действия высшего органа партии эсеров невозможно квалифицировать как адекватные. Превратить партийную акцию – ликвидацию тайного осведомителя, предателя – в частное, персональное дело можно было только как наказание, как месть тому, кто отступил от буквы постановления. Все последующие действия ЦК по существу и были такой местью, причем направленной против человека, чья личная честность, по утверждению самих же цекистов, – и это самое поразительное во всей этой истории – была выше всяких подозрений.
Естественно, что у эсеровских вождей были свои резоны требовать от рядовых членов железного подчинения единой партийной воле, поскольку «террористический искус» мог привести к абсолютному хаосу и потере элементарного контроля. Проблема здесь, безусловно, была, и прежде всего проблема партийно-организационная. Однако отказ эсеровского руководства нести ответственность за те действия, которые в целом были им самим же санкционированы и одобрены, но осуществление которых – по неизбежности – «редактировалось» сложной и непредсказуемой действительностью, выглядел, в особенности в ситуациях трагических, связанных с безабстрактными испытаниями перед лицом смерти, пролитием крови или когда дело касалось имени и чести исполнителя, и бесчеловечным, и циничным политическим формализмом.
На вопрос – смалодушничал ли в самом деле Рутенберг, как казалось Чернову, получив задание убить одновременно Гапона и Рачковского, мы едва ли найдем ответ. Это было действительно испытание – задание почти невыполнимое, а если выполнимое, то лишь при редком и счастливом стечении обстоятельств могущее завершиться для Рутенберга благополучным исходом. Разумеется, он не мог не сознавать того, что, идя на него, в каком-то смысле подписывал себе смертный приговор. Итак, что же, Рутенберг, как считал Чернов (а это была версия, внушенная ему поведением Азефа и отчасти Савинкова), дрогнул? Ему недостало мужества? Или цекисты, спасая честь мундира, уже задним числом пытались выгородить себя из всей этой неприятной истории и избрали Рутенберга в качестве искупительной жертвы за их далеко не безупречные и не безошибочные расчеты и решения?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?